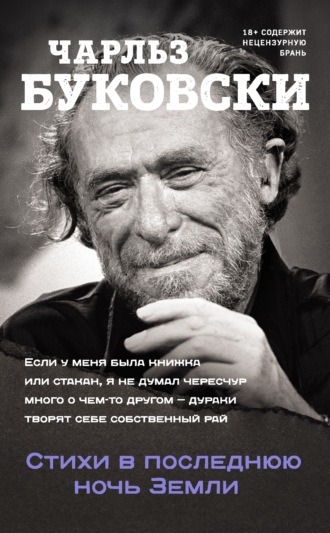
Стихи в последнюю ночь Земли
глаза,
до чего же лужайки зелены, до чего же книги скучны,
до чего ж подыхает жизнь от
жажды.
гений
этот человек иногда забывает, кто
он такой.
иногда думает, что он
Папа Римский.
в иные разы считает, что он
затравленный кролик
и прячется под
кроватью.
затем
как-то вдруг
им овладевает полная
ясность
и он принимается творить
произведения
искусства.
тогда у него все будет в порядке
какое-то
время.
потом, скажем,
сидит он со своей
женой
и с 3 или 4 другими
людьми
обсуждает различные
материи
он чарующ,
колок,
оригинален.
и тут делает
нечто
странное.
вроде как однажды
встал
разлатался
и давай
ссать
на
ковер.
в другой раз
съел бумажную
салфетку.
а еще был
случай
когда он сел в
машину
и поехал
задним ходом
аж до
бакалейного
магазина
и обратно
задним ходом
другие водители
орали на
него
но он
доехал
туда и
обратно
без
происшествий
и его не
остановил
полицейский
патруль.
но лучше всего
у него получается
Папа
и на
латыни
он говорит очень
хорошо.
его произведения
искусства
вовсе не так
замечательны
но они позволяют
ему
выживать
и жить с
чередой
19-летних
жен
которые
стригут ему волосы
ногти на ногах
меняют слюнявчики
подтыкают на ночь и
кормят
его.
он стаптывает
всех
кроме
себя.
поэт в Нью-Йорке
сегодня ужинаю не дома
нахожу столик один
и в ожидании заказа
достаю книгу, взятую у жены
«Поэт в Нью-Йорке»[5].
я часто беру с собой разное почитать
чтобы не смотреть на
людей.
нахожу, что стихи плохи (как по мне)
эти самые, написанные в 1929-м
в том году, когда рухнул рынок
ценных бумаг.
закрываю книгу и смотрю на
людей.
приносят мой заказ.
еда тоже плоха.
кое-кто утверждает, что плохое и хорошее
оно полосками.
надеюсь, так и есть.
ожидаю хорошего, кладу ломтик
цыпленка под лимоном в
рот, жую
и делаю вид, что все
сравнительно
прекрасно.
не продается
я просто сидел в баре
non compos mentis[6].
до Рождества
оставалась примерно неделя.
большой Эд торговал снаружи
елками.
вот зашел в
бар.
«Господи, вот ведь там
холодрыга!»
большой Эд взглянул на меня.
«Хэнк, сходи постой там
с моими елками.
если кто-нибудь захочет купить
себе, зайдешь и
позовешь меня».
я встал снаружи.
на мне одна рубашка.
пальто у меня не было.
шел снег.
холодно, как лед
но этакий славный
лед.
я к снегу не привык
но снег мне нравился.
я стоял с елками.
простоял так минут
20
потом вышел большой
Эд.
«никто не подходил?»
«нет, Эд».
«зайди, скажи Мальчонке Билли
чтоб налил тебе за
мой счет».
я зашел
сел на табурет.
Мальчонке Билли сказал:
«двойной скотч с водой,
за счет Эда».
Мальчонка Билли начислил.
«продал елок-то?»
«ни одной».
Мальчонка Билли оглядел
посетителей.
«эй, Хэнк не продал
ни одной елки».
«чё за дела, Хэнк?» —
спросил кто-то.
я не ответил.
отхлебнул из
стакана.
«как же так вышло, что ни одной елки
не продано?» – спросил кто-то
еще.
«как пчела роится к
меду, как за днем приходит
ночь
в смраде времени
это
случится».
«что случится?»
«кто-то продаст елку
хотя это не обязательно
буду я».
я допил.
повисла
тишина.
затем кто-то произнес:
«этот парень какой-то
чокнутый».
там
и с теми
я решил
что против этого
мне нечего
возразить.
это
самодовольная чушь когда
знаменитости собираются вместе поаплодировать
своему мнимому
величию
не
понимаешь где же
настоящие
в какой
великанской пещере
прячутся
пока
смертельно бездарные
выходят на поклон
похвалам
пока
дураков
одурачивают
вновь
не
понимаешь где же
настоящие
если настоящие
есть.
эта
самодовольная чушь
длится
десятки лет
и
за некоторыми исключениями
столетия.
это
так тягостно
так абсолютно безжалостно
это
перемалывает кишки в
порошок
сажает надежду на цепь
это
превращает что-то простое
вроде
отодвинуть штору
или
надеть ботинки
или
выйти на улицу
во что-то сложнее
почти
окаянное
когда
знаменитости собираются
поаплодировать своему
мнимому
величию
когда
дураков
одурачивают
вновь
человечество
ах ты больное
уебище
теперь
дойти досюда
соскальзывая в старость
десятки лет прошел
не встретив никого
поистине злого
не встретив никого
поистине исключительного
не встретив никого
поистине хорошего
соскальзывая в старость
десятки лет ушли
по утрам хуже всего.
в заблуждении
воитель
я возвращаюсь после долгого, но
победного дня
на скачках.
она встречает меня с каким-то
мусором
который я выношу и сваливаю
в мусорный
бак.
«Господи боже мой, – говорит она, —
закрывай плотнее крышку!
муравьи расползутся
везде!»
закрываю плотнее крышку.
думаю об Амстердаме.
думаю о голубях, слетающих с
крыши.
думаю о Времени, болтающемся
на
бумажной скрепке.
она права, конечно: крышка
должна быть
закрыта плотнее.
я медленно
возвращаюсь
в
дом.
исповедь
в ожидании смерти
как кошки
что прыгнет на
койку
мне очень и очень жаль
свою жену
она увидит это
жесткое
белое
тело
тряханет его, затем
может
еще раз:
«Хэнк!»
Хэнк не
ответит.
не смерть меня
тревожит, а жена
оставленная с этой
кучей
ничто.
я хочу чтоб
она знала
однако
что все ночи
когда я спал
с нею рядом
даже пустые
споры
были тем что
навеки чудесно
и те трудные
слова
какие всегда боялся
сказать
теперь сказать
можно:
я люблю
тебя.
ограблен
кончен,
не могу найти рукоятку,
ограблен в проходных дворах незнамо где,
слишком много темных дней и ночей,
слишком много недобрых полудней, плюс
постоянный залип на
дамах смерти.
мне
конец. заверните
меня, упакуйте
меня,
швырните птицам Нормандии или
чайкам Санта-Моники, я
больше не
читаюсь
я
больше не
размножаюсь,
я
беседую со старичьем поверх тихих
оградок.
это здесь что ли рас-
комплексуется
мой суицидный комплекс?: когда
меня спрашивают по телефону:
а знавали ль вы Керуака?
я теперь уступаю другим машинам на трассе.
я не бил никого по морде 15 лет.
я вынужден вставать пописать по 3 раза за ночь.
и когда я вижу какую-нибудь кралю на улице, перед
глазами у меня одни
лишь напасти.
мне
конец, придется все заново,
пью в одиночестве и слушаю классическую
музыку.
в умирании главное подготовка.
сквозь мои сны бродит тигр.
у меня во рту только что взорвалась сигарета.
до сих пор случается что-то
занятное.
нет, я не знавал Керуака.
поэтому видите:
жизнь моя прошла
не напрасно
в конце
концов.
писатель
когда я думаю обо всем, что вынес, пытаясь быть
писателем – обо всех комнатах во всех городах,
когда я жевал крошки пищи, что
не прокормили б
и крысу.
я был так тощ, что моими лопатками
можно было резать хлеб, вот только хлеб у меня
бывал редко…
а тем временем я записывал разное
снова и снова
на клочках бумаги.
и когда переезжал с места на
место
мой картонный чемодан тем и
был: бумага снаружи, набитая
бумагой.
каждая новая хозяйка квартиры
спрашивала: «чем вы
занимаетесь?»
«я писатель».
«о…»
когда я обосновывался в комнатушках, дабы предаться
своему
ремеслу
многие жалели меня, кормили
всяким вроде яблок, грецких орехов,
персиков…
не подозревали они
что это
было практически все, чем я
питался.
но вся их жалость заканчивалась, когда
у меня находили бутылки из-под дешевого
вина.
нормально быть голодающим писателем
но не
голодающим писателем, который
пьет.
пьяницам никогда ничего
не прощают.
но когда мир смыкается над тобой очень
быстро
бутылка вина кажется весьма
разумным другом.
ах. все эти квартирные хозяйки,
почти все тяжелые, медлительные, их мужья
давно покойные, я до сих пор вижу, как эти
дорогуши
ползают вверх и вниз по лестницам
своего мирка.
они повелевали самим моим бытием:
если б они не позволяли мне
пожить лишнюю недельку, не платя
время от времени,
я бы оказался на
улице
а я не мог ПИСАТЬ
на улице.
было очень важно иметь
комнату, дверь, эти
стены.
ох, те темные утра
в тех постелях
прислушиваюсь к их шагам
прислушиваюсь к их кашлю
слышу, как сливают воду в их
унитазах, нюхаю, как готовят
у них еду
в то же время ожидая
хоть какого-нибудь слова
об отправленном в Нью-Йорк
и в целый мир,
мои отправления тем образованным,
интеллигентным, снобоватым, кровосмешенным,
формальным, обеспеченным людям
где-то там
они поистине не торопились
сказать свое нет.
да, в темных постелях
пока квартирные хозяйки хлопотали вокруг
слонялись без толку и шпионили, точили
кухонную утварь,
я часто думал о редакторах и
издателях
которые не признавали того
что я пытался сказать
по-своему
на свой лад
и я думал: должно быть они
неправы.
за этой мыслью следовала
другая, гораздо хуже
первой:
может, это я
дурак:
почти каждый писатель думает
что он пишет
исключительные работы.
это
нормально.
быть дураком —
нормально.
и после этого я
вылезал из постели
находил клочок
бумаги
и опять
принимался
писать.
они не кушают, как мы
мой отец за едой.
у него уши двигались.
он жевал с огромным напором.
я желал ему сгореть в аду.
я следил за вилкой в его руке.
я следил, как она кладет пищу ему в рот.
то, что ел я, было безвкусным и смертоносным.
его огрызки разговора вонзались мне в мозг.
слова стекали мне по позвоночнику.
плескали мне в башмаки.
«кушай, Хенри», – говорила мне мать.
он говорил: «многие люди голодают и не кушают
так хорошо, как мы!»
я желал ему сгореть в аду.
я следил за его вилкой.
она набирала еще больше пищи и закладывала ее
ему в рот.
он жевал по-собачьи.
у него уши двигались.
к тем жестоким поркам, что он мне закатывал,
я был готов.
но смотреть, как он ест, – от этого наваливалась тьма.
прямо на клеенку.
прямо на зеленые и синие деревянные салфетницы.
«кушай, а не то я надеру тебе чертову задницу», —
говорил он мне.
позже в жизни я заставил его кое-чем заплатить.
но он до сих пор мне должен.
и долг уж больше не стребуешь.
можно, я скажу
ад возводится
часть за частью
кирпич на кирпич
вокруг
тебя.
это постепенный,
не быстрый
процесс.
мы строим свою
собственную
преисподнюю,
обвиняем
других.
но ад есть
ад.
земной ад есть
ад.
мой ад и
ваш
ад.
наш
ад.
ад, ад,
ад.
песнь
ада.
надевать
ботинки
по
утрам.
ад.
разорван первым дыханьем
дни на исходе
а перила сверкают
в раннем утреннем солнце.
отдыха не будет
даже в мечтах.
так, осталось лишь
исправить
сломанные миги.
если просто существовать уже кажется
победой
наша удача определенно
истощилась.
тоньше кровавого ручейка
к смерти.
жизнь – грустная песня:
мы слыхали слишком много
голосов
видали слишком много
лиц
слишком много
тел.
хуже лиц не было ничего:
гнусная шутка, которой никто
не может понять.
варварские, бессмысленные дни полностью
у тебя в черепе;
реальность – выжатый досуха
апельсин.
нет никакого плана
никакого выхода
никакого божества
никакого воробышка
радости.
мы не можем сравнить жизнь ни
с чем – это
чересчур унылая
перспектива.
относительно говоря,
нам всегда хватало
мужества
но в лучшем случае шансы
оставались неравными
а
в худшем —
неизменными.
а хуже всего:
не то, что мы истратили их
впустую
а то, что их
истратили
на нас:
вышедших из
Чрева
пойманных
светом и
тьмой
пораженных и онемевших
одиноких в умеренном климате
глупой агонии
и вот
дни на исходе
а перила сверкают
в раннем утреннем солнце.
Элвис жив
мальчик собрался съездить автобусом
глянуть
Поместье Грейсленд
но тут
«Линии Грейхаунд» объявили
забастовку.
на автостанции
было всего два кассира
и два маршрута
а очереди
от 50 до 65 человек
каждая.
после двух часов в очереди
один кассир сказал
мальчику
что его автобус
отправится
как только появится
сменщик водителя.
«когда это будет?» —
спросил мальчик.
«точно
не знаем», – был
ответ.
мальчик ночевал тогда
на полу
но к 9
на следующее утро
сменщик
так и не
прибыл.
мальчику пришлось ждать
еще в одной очереди
чтобы попасть
в туалет.
наконец, ему досталась
кабинка, он тщательно
поправил
дезинфецированное бумажное
сиденье унитаза,
стянул
брюки,
трусы
и
сел.
к счастью
у мальчика был
карандаш.
он нашел чистое
местечко
среди всех
размазанных и безумных
каракуль и
рисунков
и очень
прилежно
и
жирно
вывел печатными буквами:
ОТЕЛЬ РАЗБИТЫХ СЕРДЕЦ
затем
метнул
первую.
мой друган на автостоянке ипподрома:
после 9 долгих заездов среди типов из алчного теста
жарким воскресеньем, что вряд ли рифмуется со
здравым смыслом
я порешил еще один день,
вышел с болтающимися шнурками (сам
тайно желая оказаться в замшелой
пещере, скажем,
и смотреть черно-белые мультики
и пусть беспричинная простота успокаивает
сумбурные мозги)
а мой друган-служитель подкатывает
машину, ревя 8-летней
давности двигателем, выскакивает:
«как делишки, малыш?»
«делишки взяли меня за кадык, Фрэнк,
я готов выкинуть белый флаг».
«натебя не похоже, малыш, ты мой
вожак!»
«наплети что получше,
Фрэнк…»
сажусь в машину, накидываю ремень, надеваю
дорожные очки, перехожу на первую…
«эй, дядя, – засовывает он голову в
окно, – пошли нарежемся да
кому-нибудь всыплем по жопе, да поищем себе
пизденку!»
я ему отвечаю: «надо подумать».
выезжая, вижу его в
зеркальце: он показывает мне
средний палец.
я улыбаюсь впервые за 7 или
8 часов.
слышьте сюда, вы
отпетые дутые дурни
поэты
с вашими
дурацкими свитками
вы так
помпезны
в своем
знании
так
уверены
что
круто катитесь
к
нирване
вы
клеклые комки
человечества
вы
подражатели
других
притворщиков
вы до сих пор
не вышли
из-под сени
Матери
вы
никогда не
торговались
со
Зверем
вы никогда не
пробовали
весь вкус
Ада
вы никогда
не видели
Края
себя
вы никогда
не оставались наедине
с
бритвенно острыми
стенами
вы
отпетые дутые дурни
со своими
дурацкими свитками
нечего
тут
знать
некуда
странствовать
ваши
жизни
ваши
смерти
ваши
дурацкие
свитки
бесполезны
отвратительны
и
не так настоящи
как
бородавка
на
заднице
хряка.
вас
отвергли
обстоятельства.
всего
хорошего.
искорка
я всегда презирал все те годы, часы,
минуты, какие отдавал им как рабочий жмур, от этого
на самом деле у меня болела голова, нутро, меня
выворачивало и слегка сводило с ума – я не мог
постичь
убийства своих лет
однако другие сотрудники не подавали признаков
агонии, многие даже казались довольными, и
от такого их вида я сходил с ума чуть ли не так же, как от
тупой и бессмысленной пахоты.
рабочие покорялись.
работа вколачивала их в ничтожество, их
выскребали и вышвыривали.
я презирал каждую минуту, любую минуту, пока ее
увечили
и ничто не облегчало однообразия.
подумывал о самоубийстве.
заливал киром свои немногие свободные часы.
я работал десятки лет.
я жил с наихудшими бабами, они убивали то,
что не удавалось убить работе.
я знал, что умираю.
что-то внутри говорило мне: валяй, сдохни, усни, стань
как
они, прими.
а потом что-то другое во мне говорило: нет, спаси хоть
крохотный
кусочек.
не нужно много, лишь искорку.
искорка может весь лес
подпалить.
всего лишь искорка.
сбереги ее.
вроде сберег.
рад, что сберег.
вот же черт бы побрал
удача.
наука физиогномика
давно запропастились лица
серые и белые и черные и смуглые, и
глаза, всех цветов глаза.
глаза – странные, я жил с одной женщиной,
по крайней мере – одной, с кем секс был честным,
беседа – сносной, а иногда вроде
даже возникала любовь
но тут я внезапно заметил глаза, увидел в них
как тьма заляпала стены вонючего
ада.
(разумеется, я доволен, что нечасто приходится
видеть собственные глаза, губы, волосы и так
далее —
я избегаю зеркала с намеренным
постоянством.)
давно запропастился, лицо у него было как
пирог с бородавками, жирный и недрожащий и он
подошел ко
мне на сортировке, меня зверски тошнило
и эта плюха плоти потрясла мои потроха, мое психо-
пацанячье нутро, когда он произнес: «зарплаты никак не
дождусь, из последнего никеля столько выжимал, что
бизон от боли воет». он показал мне тот
никель[7].
круто, но пива-то нет, я отошел от него,
с лицом белым, как яркая фара, я отошел
от него и двинул к лицам не-
белых, которые
ненавидели меня с природной
легкостью.
давно запропастились лица квартирных хозяек,
обреченные, напудренные, старые сиреневые лица,
старые милые ляльки
с мужьями, запропастившимися давным-давно, скорбь
поутихла, но
по-прежнему жива, пока я поднимался за ними
по лестницам почти
вековой древности в какую-нибудь комнатушку и всегда
говорил им: «ах, очень славная комнатка…»; чтоб затем
заплатить, закрыть дверь, раздеться, лечь на эту
кровать и выключить свет (постоянно стояли ранние
сумерки) чтоб затем вскоре услышать все тот же звук:
шебуршанье моих старых друзей: либо тараканов, либо
мышей, либо крыс.
давно запропастились, теперь уж и не знаю, как там
Инес
и Ирэн и их небесно-голубые глаза и их чу́дные
ноги и груди
но самое главное
лица их, лица вытесанные из мрамора, какими
иногда одаряют
боги, и
Инес и Ирэн сидели передо мной в классе и постигали
алгебру, кратчайшее расстояние между двумя точками,
Версальский договор, гунна Аттилу и
т. д.
а я наблюдал за ними иразмышлял, интересно, о чем они
думают?
ни о чем особенном
скорее всего.
и даже не знаю, где они сегодня вечером
с этими своими лицами эти 5 десятилетий и 2 года
спустя?
кожа, покрывающая кость, глаза, что
улыбаются; быстро, погасить свет, пускай тьма
танцует…
прекраснейшее лицо, что я видел, принадлежало
газетчику, торговцу вестями, старине, давно
запропастившемуся
он сидел в ларьке на углу Беверли и Вермонта,
голова его, лицо выглядели в точности так, как
звали его: Лягух. я видел его
часто, но мы редко разговаривали, а
потом Лягух умер вдруг
и запропастился
но я всегда буду помнить его
и однажды ночью
я вышел из бара напротив
он сидел на месте, в своем ларьке и
посмотрел на меня и сказал: «ты и я, мы знаем одно и
то же».
я кивнул, показал два больших пальца, и это крупное
Лягушье
лицо, эта крупная Лягушья башка запрокинулись
в лунном свете
и захохотали самым ужасным и настоящим
хохотом, что я когда-либо
слышал.
давно запропастились
победа
те сделки, что заключили
мы
соблюли
и
когда псы часов
гонятся по пятам
ничего
нельзя отнять
у нас
кроме
наших жизней.
Эдвард Сбрагья
раскуривая крохотные сигаретные бычки, пока мир
прибивается
к берегу, я
обжигаю себе
немые губы
думаю о
Манфреде фрайхерре фон Рихтхофене
und sein
Fliegerzirkus[8].
кошка моя садится на окошко ванной, а я
зажигаю новый
окурок
а Норвегия подмигивает, и адские псы молятся за
меня
внизу моя жена изучает
итальянский
язык.
а тут наверху
я бы ползадницы собственной отдал за
приличное
курево…
я
чихаю
затем
подскакиваю: крохотный красный уголек пепла упал
мне на
белый белый
живот – я
выковыриваю пламенный кусочек
пальцами:
кусочек мелкой
боли
печатаю я голышом: вижу свою хмурую душу
теперь
с маленькой розовой

