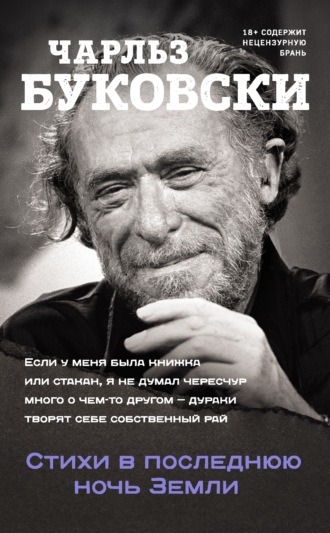
Стихи в последнюю ночь Земли
точкой.
вот видите: у меня здесь наверху своя
веселуха, не нужны мне ни Вегас, ни кабельное
тв,
этикетка на моей винной бутылке утверждает
в частности:
«…наш винодел Эдвард Сбрагья сохранил
свежий фруктовый аромат винограда Пино Нуар и Напа
Гамэй…»
адские псы молятся за меня, а
мир прибивается
к берегу.
бродя по клетке
вялое предположенье в часы тупорыловки, в капкане
отцовых
теней.
тротуары за окнами кафе одиноки
весь день.
мой кот глядит на меня и не уверен, что я такое, а
я смотрю на него и меня радует, что я питаю
то же
к нему…
прочтя 2 номера знаменитого журнала 40-летней
давности, убеждаюсь: та писанина, что была для меня
никудышной тогда
до сих пор
такая
же
и ни один из писателей не протянул.
иногда где-то действует
некая странная
справедливость.
иногда
нет…
начальная школа была первым пробужденьем грядущего
долгого
ада:
встреч с другими существами, такими ж кошмарными,
как и мои
родители.
а такое я не считал
возможным…
когда я получил медаль за Приемы С Оружием на
военной переподготовке
меня вовсе не интересовал
выигрыш.
меня вообще ничего особо не интересовало, даже
девчонки казались дичью дурной
для охоты: слишком много ради слишком
малого
по ночам перед тем, как заснуть, я часто раздумывал, что
буду делать, кем стану:
грабителем банков, пьянчугой, нищим, идиотом, обычным
трудягой.
останавливался на идиоте и обычном трудяге, это
казалось удобнее, чем что бы то ни было
прочее…
лучше всего в почти-голоде и недоедании – это
когда наконец
поешь
так прекрасно и вкусно и
волшебно.
питаясь 3 раза в день всю жизнь люди
никогда на самом деле не
вкушали
еды…
люди странные: их постоянно злит
банальщина,
а крупные вопросы
вроде
полнейшей растраты жизни впустую
они вроде едва
замечают…
о писателях: я обнаружил, что большинство
плавает кучно.
у них школы, учреждения,
теории.
группы собираются и борются друг с
дружкой.
есть литературная политика.
есть игрища и
обидки.
я всегда считал, что писать —
профессия одинокая.
до сих пор так считаю…
животных никогда не заботят ни
Рай, ни Ад.
меня
тоже.
может, поэтому
мы
с ними ладим…
когда попадаются одинокие люди
я вскоре начинаю понимать, почему
другие держатся от них
подальше.
и то, что было бы
для меня
благословеньем
для них —
кошмар…
бедный бедный Селин.
написал всего одну книгу.
про остальные не стоит.
но что это была за книга:
Voyage au bout de la nuit[9].
она вытянула из него
всё.
кинула его шибаться
придурком
мотаться в
тумане
случайности…
Соединенные Штаты – очень странное
место: достигли своего пика в
1970-м
и с тех пор
с каждым годом
деградируют
на 3,
пока сейчас
в 1989-м
не наступил 1930-й
в том, как
всё делается.
не нужно ходить в кино
чтобы посмотреть фильм
ужасов.
рядом с почтой, откуда я отправляю
свои работы,
есть психушка.
я никогда не бросаю машину возле почты,
паркуюсь перед психушкой
и иду пешком.
прохожу мимо дурдома.
некоторым не таким безумным разрешается
выходить на крыльцо.
они сидят там, как
голуби.
я чувствую, что мы с ними
родня.
но рядом не сажусь.
прохожу мимо и бросаю свои работы
в щель ящика первого класса.
вроде как знаю, что
делаю.
иду обратно, смотрю на них и
не смотрю на
них.
сажусь в машину и
уезжаю.
машину водить
мне позволено.
я веду ее до самого своего
дома.
заезжаю на дорожку,
думая,
что же это я делаю?
вылезаю из машины
и один из моих 5 котов подходит ко
мне. прекрасный он
парень.
я нагибаюсь и глажу
его.
и тогда мне хорошо.
я в точности то, чем и должен
быть.
стая
снова собаки за старое; скачут и
рвутся, отступают, кружат, потом
бросаются вновь.
а я уже подумал было, что с этим покончено,
подумал, что они
забыли; а их только
больше.
а я стал старше,
теперь-то
но собаки
не стареют
и, как всегда, дерут не только
тело, но и
разум, и дух.
теперь
окружили меня
в этой самой комнате.
они не
красивы; они – адские
псы.
и тебя они
отыщут
хоть ты теперь
и один
из них.
вопрос и ответ
он сидел голый и пьяный в комнате летней
ночи, ковыряясь кончиком ножа
под ногтями, улыбаясь, размышляя
о письмах, какие получил
где говорилось, что
от того, как он жил и писал об
этом —
держало их на плаву, когда
все казалось
поистине
безнадежным.
положив нож на стол, он
щелкнул по нему пальцем
и тот завертелся
мигающим кружком
под лампой.
кто, к дьяволу, придет и спасет
меня? – подумал
он.
и когда нож перестал вращаться
ответ явился:
тебе придется
спасать себя самому.
по-прежнему улыбаясь,
а: он закурил
сигарету
б: он налил
себе
еще
в: щелкнул по ножу
еще
раз.
письмо почитательницы
я читаю вас уже очень давно,
сейчас только что уложила Малыша Билли в кроватку
он подцепил где-то 7 гадких клещей,
я – 2,
мой муж Бенни – 3.
некоторым нравятся жучки, а кто-то их
не выносит.
Бенни пишет стихи.
он был в одном с вами журнале
разок.
Бенни – величайший писатель на свете
только он с норовом.
однажды устроил чтения, а кто-то
засмеялся над одним его серьезным стихотворением
и Бенни вытащил свою штуковину прямо
там
и нассал на сцену.
говорит, что вы пишете хорошо, но не
смогли бы носить его яйца и в бумажном
кульке.
в общем, я сегодня наготовила ЦЕЛУЮ КАСТРЮЛЮ
КОНФИТЮРА,
мы все тут просто ОБОЖАЕМ конфитюр.
Бенни вчера потерял работу, сказал своему
начальству, чтоб то засунуло ее себе в жопу
но я свою сохранила тут у нас в
маникюрном салоне.
знаете, педики ходят сюда делать себе
маникюр?
вы ведь не педик, а, г-н
Чинаски?
в общем, мне просто захотелось вам написать.
ваши книги здесь читают и
читают.
Бенни говорит, что вы старый пердун, вы
пишете довольно неплохо, но что вы
не смогли бы носить его яйца в
бумажном кульке.
вам нравятся жучки, г-н Чинаски?
по-моему, конфитюр уже остыл, и его
можно есть.
поэтому до свидания.
Дора
держитесь за животики
будет неплохо свалить
отсюда,
просто уехать,
хлоп и всё, удрать от
воспоминаний об этом
и все
такое,
но в том, чтоб остаться, тоже есть
своя прелесть:
все эти малютки,
считающие себя
горяченькими штучками
а теперь живут в грязных
квартирах
с нетерпением ожидая
следующей
серии
какой-нибудь Мыльной Оперы,
и все эти парни,
те, что в самом деле
думали
будто у них
получится,
ухмылялись, бывало, в
Выпускном Альбоме своими
гладкокожими
рожами,
теперь они
лягаши,
секретари-машинисты,
управляющие
бутербродных лотков,
конюхи,
плюхи
в пыли.
хорошо оставаться
рядом
чтоб посмотреть, что
будет со
всеми
прочими – только
когда пойдешь в
ванную,
избегай
зеркала
и
не смотри
что
смываешь.
кончен
мяч вылетает на
базу, а я его
не
вижу.
мой средний уровень упал до
231
мелочи вечно
раздражают меня
и я не могу спать
по ночам.
«ты еще вернешься,
Хэрри», – говорят мне
товарищи по команде.
а сами ухмыляются и
втайне
довольны.
меня услали на скамью ради
22-летнего
пацана.
он смотрится хорошо:
сила, быстро отбивает
прямые.
«стать тренером не думал?» —
спрашивает управляющий.
«нет, – отвечаю, – а
ты?»
когда приезжаю домой, жена
спрашивает: «в основной состав
сегодня попал?»
«не-а».
«не волнуйся, он тебя
введет».
«нет, не введет. я буду
на замене до конца
сезона».
захожу в ванную и
смотрю в
зеркало.
я не 22-летний
пацан.
достает, что это
вроде произошло
в одночасье.
один вечер я был хорош.
на следующий,
кажется, я уже
кончен.
выхожу из ванной
и моя жена говорит:
«не волнуйся, тебе надо всего лишь
немного
отдохнуть».
«я тут уже думал податься
в тренеры», – говорю
ей.
«ну да, – отвечает она, – а потом,
спорим, из тебя выйдет
хороший управляющий».
«ну еще б, черт возьми, – говорю я, – по телику
есть что-нибудь?»
ноль
темный привкус во рту, шея затекла, ищу
свой звуковибратор, музыка у меня по радио недужна,
ветры смерти просачиваются в тапочки, а
сегодня в почте ужасное письмо от бледной не-
души
которая требует зайти повидаться со мной
в награду, утверждает она, за то, что отвезла меня домой
с пьянки в Пасадине
20 лет назад.
к тому ж одна кошка насрала сегодня утром
на коврик
а в первом заезде, на который я поставил днем
лошадь скинула жокея
у самых ворот.
внизу
у меня висит большое фото Хемингуэя
вдрабадан пьяного еще до полудня в Гаване, валяется
на полу
раззявив рот, большое брюхо пытается вывалиться
из рубашки.
мне так же, как этому фото, а я даже не пьян.
может,
в этом-то и беда.
в чем бы ни была она, она есть, и еще хуже – ей
быть бы не надо
поскольку мне всегда везло, мне не надо бы даже
быть здесь
после всего, что я сделал с собой
и после всего, что сделали
мне
надо было пасть на колени перед богами и возносить
хвалы.
я же измываюсь над их добротой тем, что
нетерпелив
с этим миром.
может, чертовски хороший сон на всю ночь вернет меня
к бережному благоразумию.
но в сей миг я обвожу взглядом эту комнату, и, как
и я сам, вся она в беспорядке: вещи сбились
со своих мест, скучены, перемешаны, потеряны,
перевернуты,
а я не могу ничего поправить, не хочу.
может, прожив эти мелочные дни, мы подготовимся
к опасным.
безглазо в пустоту
номер не пройдет, лопух, уже
вырубили свет,
завалили черный ход
а
парадный весь в огне;
твое имя никому не известно;
в опере играют только
в шашки;
городские фонтаны ссут
кровью;
крайности раздраены
а
лучшего цирюльника
вздернули;
вознеслись тусклые души;
картонные – улыбаются;
любовь к навозу единодушна;
номер больше не пройдет, лопух,
могилы опростались на
живых;
последнее – первое,
потеряно – всё;
гигантские псы скорбят в одуванчиковых
грезах,
пантеры приемлют клети;
луковое сердце обындевело,
судьба обнищала.
трубы разума заглушены, ибо
хохотом дураков запружен весь воздух;
победители мертвы
а
новорожденные сражены;
реактивные лайнеры блюют безглазыми в
пустоту;
номер больше не пройдет, лопух, все шло
к этому
с самого начала
и теперь
приехали
и ты его не тронешь не почуешь не увидишь
потому что везде кругом ничего а
ты смотришь вверх или вниз или оборачиваешься
или садишься или встаешь
или спишь или бежишь
номер не пройдет, лопух.
номер больше не пройдет
лопух лопух лопух
и
если ты этого еще не понял
меня не удивляет
а
если понял, лопух, удачи
тебе
в темноте
на пути в никуда.
салки
нечего ловить в
Амстердаме;
сыру не нравится
блоха;
центральный нападающий
поворачивается
бежит назад
в своей дурацкой
форме,
подгадал
тютелька в тютельку:
мяч и человек
встречаются как
одно
он
ловит его в перчатку
точно
в одном ключе со
вселенной;
нечего ловить в
восточном
Канзас-Сити;
и
вы заметили
как
мужики стоят
бок о бок
у писсуаров,
хорошо натасканные в этом
действии,
глядя прямо
перед собой;
центральный нападающий
запускает его
в
подсекающего
который пожирает глазами
бегунов;
солнце ныряет
вниз
а где-то
старуха
открывает окно
смотрит на
герань,
идет за чашкой
воды;
нечего ловить в
Нью-Йорке
или
в выражении
глаз
человека
сидящего на
стуле
напротив
вас
он
собирается
задать вам
кое-какие
вопросы
кое о
чем
особенно
о том
что
делать
когда нечего
ловить.
жил-был сейчас
тогда ладно, раскаты грома в полночь, смерть на
площади.
ботинки мне нужно почистить.
пишущая машинка у меня молчит.
я пишу это ручкой
в старой желтой
тетрадке
опираясь
спиной на стенку
за
кроватью.
Хемингуэй сказал: «это больше не
придет».
и вслед – дуло
в
рот.
не писать – не хорошо
но пытаться писать
когда не можешь —
еще хуже.
эй, мне есть чем оправдаться:
у меня ТБ и
антибиотики отупляют
мозг.
«ты снова будешь писать, – уверяют
меня люди, – ты станешь
лучше, чем
прежде».
приятно слышать.
но машинка молчит
и глядит на
меня.
а тем временем, каждые две или три
недели
почта приносит мне письмо от поклонников
где говорится, что
конечно же
я наверняка
величайший писатель
на свете.
но
машинка молчит
и глядит на
меня….
сейчас едва ли не
самое странное время
в моей
жизни.
я должен изобразить
Лазаря
а не могу даже
ботинок
почистить.
Центровой Билли
его бывало звали
«Центровой» Билли.
у «Центрового» были
длинные руки
и он размахивал ими
самозабвенно
и с большой
силой.
если ты дрался с
«Центровым» Билли
то никогда не знал
откуда прилетят
тумаки: «Они прилетают
из Центра…»
«Центровой» однажды поднялся
до самого
4-го места в своей весовой
категории,
а потом вылетел
из первой
десятки.
затем опустился до
6-раундовых боев,
затем до 4.
тумаки по-прежнему
шли из
Центра
но уже можно было
засечь их
на подлете.
затем он стал просто
спарринговым
партнером.
последнее, что я слышал о нем:
он уехал
из города.
сегодня я чувствую себя
«Центровым» Билли,
сидя вот в этом
синем садовом кресле
под
каштаном,
наблюдая, как
соседский мальчуган
кидает
баскетбольный мяч,
делает несколько
хитрых шажков
вперед
и забрасывает
мяч
в
кольцо
над
воротами в
гараж.
я только что принял
свои
пилюли.
на счет 8
с кровати
я наблюдаю за
3 птицами
на телефонных
проводах.
одна
улетает.
за ней
другая.
остается одна,
затем
и она
исчезает.
моя машинка
тиха, как
надгробие.
и я
вынужден наблюдать
за птицами.
просто подумал
тебе
сообщить,
ебила.
больной
быть очень больным и очень слабым – очень странная
штука.
когда все силы уходят на то, чтоб добраться
от спальни до ванной и обратно, это похоже на
шутку, только
не смешно.
снова в постели, вновь размышляешь о смерти
и приходишь
все к тому ж: чем ближе к ней
тем менее она
грозна.
у тебя много времени на исследование стен
и снаружи
птицы на телефонных проводах приобретают большое
значение.
а еще есть телевизор: мужики играют в бейсбол
день за днем.
никакого аппетита.
еда на вкус как картон, от нее
ты больной, более чем
больной.
женушка продолжает настаивать, чтобы ты
поел.
«доктор сказал…»
бедная милаха.
и кошки.
кошки запрыгивают на постель и смотрят на меня.
глазеют, потом
спрыгивают обратно.
что это за мир, думаешь ты: ешь, работай, ебись,
умирай.
к счастью, у меня заразное заболевание: никаких
посетителей.
на весах 155, скинул с
217.
я похож на узника концлагеря.
я
он и есть.
и все же – повезло мне: одиночеством упиваюсь, я
никогда не буду скучать по толпе.
я мог бы прочесть великие книги, но великие книги меня
не интересуют.
сижу в постели и жду, чтобы вся эта штука сдвинулась
с места
туда или
сюда.
как и все
остальные.
всего один Сервантес
всё без толку, я должен признать,
у меня первый настоящий
писательский застой
за более чем
5 десятков лет
печатания на машинке.
у меня есть какие-то отговорки:
я долго
болел
и мне уже почти
70.
а когда вам уже почти
70, вы ни на минуту не забываете о
возможности
сыграть в ящик.
но мне не дает расслабиться
тот факт, что
Сервантес
написал самую великую свою работу
в 80
лет.
но сколько
Сервантесов
вокруг нас?
я избалован тем, как
легко и просто создавал
всякое,
а вот теперь этот
жалкий
запор.
и теперь
в этом духовном запоре, я
стал очень несдержан,
наорал на жену
дважды на этой неделе,
один раз хрястнул стаканом
в раковину.
поганая форма,
нервы ни к черту,
скверный
стиль.
мне следует принять этот
писательский затор.
черт, да мне повезло, что я еще жив,
повезло, что у меня нет
рака.
мне повезло в сотне
разных смыслов.
иногда ночью
в постели
в час или два
я начинаю думать о том
до чего мне повезло
и эти мысли не дают мне
спать.
ладно, я всегда писал
эгоистично, то есть чтобы ублажить
самого себя.
записывая всякое, я
мог лучше
с ними сживаться.
теперь же это
прекратилось.
я вижу как другие старики с палочками
сидят на лавочках автобусных остановок,
неподвижно глядят прямо на солнце и
ничего не видят.
и я знаю, есть и другие
старики
в больницах и домах
призрения
сидят, выпрямившись, на
кроватях
кряхтят на
подкладных суднах
смерть ерунда, брат,
вот жизнь —
она трудная.
писать было моим кладезем
юности,
моей шлюхой,
моей любовью,
моей рулеткой.
боги избаловали меня.
однако, смотрите: мне до сих пор
везет,
поскольку писать о
писательском застое
лучше, чем не писать
вообще.
то, что я знал мертвых
то, что я знал мертвых и теперь сам
умираю
пока они грузят ложками сакоташ с
лапшой
в черепушки
и всё им
уже без разницы.
то, что я знал мертвых и теперь сам
умираю
в мире, давно
ушедшем
оставлять всё —
чепуха.
любить – тоже
было чепухой.
то, что я знал мертвых и теперь сам
умираю
пальцы, исхудавшие до
кости,
не возношу
никаких молитв.
то, что я знал мертвых и теперь сам
умираю
умирая
я знал мертвых
здесь, на земле
да и в других местах;
один теперь,
один тогда,
один.
вы пьете?
выдохся, на мели, старая желтая тетрадка
снова извлечена
я пишу в постели
как и в прошлом
году.
к врачу пойду
в понедельник.
«да, доктор, слабость в ногах, головокружение, головные
боли и спина у меня
ноет».
«вы пьете? – спросит он. —
зарядку
делаете, витамины
принимаете?»
по-моему, я просто болен
жизнью, теми же самыми застойными, однако
нестойкими
факторами.
даже на скачках
я смотрю, как мимо пробегают лошади
и это кажется
бессмысленным.
я ухожу рано, купив билеты на
оставшиеся заезды.
«уже уходите?» – спрашивает кассир
тотализатора.
«да, это скучно», —
отвечаю я.
«если считаете, будто скучно
там, – сообщает мне он, – вам бы здесь
посидеть».
вот я и здесь
возлежу на подушках
опять
просто старикан
просто старый писатель
с желтой
тетрадкой.
что-то
идет по
полу
ко
мне.
о, это просто
мой кот.
на сей
раз.
«Д»
врач коллекционирует произведения искусства
и журналы у него в приемной —
Высокохудожественные
у них плотные обложки, глянцевые страницы
и крупные цветные
фотографии.
секретарша выкликает мое имя, и
меня вводят в приемную, где
стены украшены картинами
и схемой человеческого
тела.
входит врач: «как ваши
дела?»
не очень, думаю я, иначе меня б здесь
не было.
«так, – продолжает он, – меня удивляет
биопсия, я этого не
ожидал…»
врач – лысый, дочиста выскобленный
розовый парниша.
«я почти всегда могу определить по одному лишь
внешнему виду; на этот раз я
промахнулся…»
он замолк.
«дальше», – говорю я.
«ладно, скажем так: существует
4 типа рака – А, Б, Ц, Д.
так вот, у вас
Д.
и если б у меня был рак, я бы предпочел
ваш тип:
«.
доктор ввязался в крутой бизнес
но платят
хорошо.
«ну что ж, – говорит он, – мы его просто выжжем,
лады?»
я растягиваюсь на столе, а у него в руках
инструмент, я чувствую его жар
опаляющий воздух
но еще
я слышу и жужжание
вроде дрели.
«сейчас все кончится, и
моргнуть не успеете…»
маленькое образование – прямо внутри
моей правой ноздри.
инструмент касается его
и
комнату наполняет запах
жженой плоти.
затем врач останавливается.
потом начинает
заново.
боль есть, но она острая и
сосредоточенная.
он опять
останавливается.
«теперь
еще раз, чтобы
почистить
хорошенько».
он вновь включает
инструмент.
на сей раз боль самая
сильная.
«ну вот…»
все кончено, не нужны никакие повязки,

