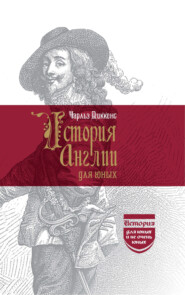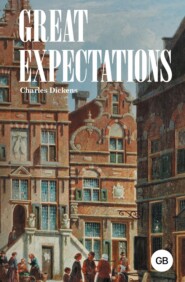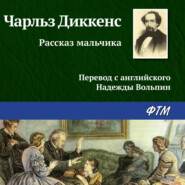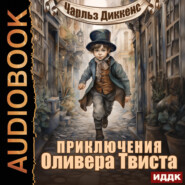По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Большие надежды
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Да, Джо. Я все наврал.
– Но не совсем же все? Этак выходит, Пип, что там не было черной бархатной каре… – Он не договорил, увидев, что я качаю головой. – Но собаки-то уж наверно были, Пип? – умоляюще протянул Джо. – Ладно, пусть телячьих котлет не было, но собаки-то были?
– Нет, Джо.
– Ну хоть одна собака? – сказал Джо. – Хоть щеночек. А?
– Нет, Джо, ничего не было.
Я мрачно уставился на него, а он не отводил от меня огорченного, растерянного взгляда.
– Пип, дружок, ведь это никуда не годится! Ты сам подумай, что за это может быть?
– Это ужасно, Джо. Да?
– Ужасно? – вскричал Джо. – Просто уму непостижимо! И что на тебя нашло?
– Я не знаю, что на меня нашло, Джо, – отвечал я и, отпустив его рукав, уселся в кучу золы у его ног и понурил голову, – но только зачем ты научил меня говорить вместо трефы – крести и почему у меня такие грубые башмаки и такие шершавые руки?
И тут я рассказал Джо, что мне очень худо и что я не сумел ничего объяснить миссис Джо и Памблчуку, потому что они меня совсем задергали, и что у мисс Хэвишем была очень красивая девочка, страшная гордячка, и она сказала, что я – самый обыкновенный деревенский мальчик, и это так и есть, и очень мне неприятно, и отсюда и пошла вся моя ложь, хотя как это получилось – я и сам не знаю.
Это был чисто метафизический вопрос, уж конечно, не менее трудный для Джо, чем для меня. Но Джо изъял его из области метафизики и таким способом справился с ним.
– В одном ты можешь не сомневаться, Пип, – сказал он, поразмыслив немного. – Ложь – она и есть ложь. Откуда бы она ни шла, все равно плохо, потому что идет она от отца лжи и к нему же обратно и приводит. Чтобы больше этого не было, Пип. Таким манером ты, дружок, от своей обыкновенности не избавишься. К тому же тут что-то не так. Ты кое в чем совсем даже необыкновенный. Вот, скажем, роста ты необыкновенно маленького. Опять же, ученость у тебя необыкновенная.
– Нет, Джо, какой уж я ученый!
– А ты вспомни, какое ты вчера письмо написал! – сказал Джо. – Да еще печатными буквами! Видал я на своем веку письма, и притом от господ, – так и то, головой тебе ручаюсь, они были написаны не печатными буквами.
– Ничего я не знаю, Джо. Просто тебе хочется меня утешить.
– Ну, Пип, – сказал Джо, – так ли это, нет ли, еще неизвестно, но ты сам посуди, ведь до того как стать необыкновенным ученым, надо быть обыкновенным или нет? Возьми хоть короля – сидит он на троне, с короной на голове, а разве мог бы он писать законы печатными буквами, если бы не начал с азбуки, когда еще был в чине принца? Да! – прибавил Джо и многозначительно тряхнул головой. – Если бы он не начал с первой буквы и не одолел бы их все как есть до самой последней? Я-то знаю, что это такое, хоть и не могу сказать, чтобы сам одолел.
В этих мудрых словах был проблеск надежды, и я немного воспрянул духом.
– Оно, пожалуй, и лучше было бы, – задумчиво продолжал Джо, – кабы обыкновенные люди, то есть кто попроще да победнее, так бы и держались друг за дружку, а не ходили играть с необыкновенными… кстати, флаг-то, может, все-таки был?
– Нет, Джо.
– Очень мне жалко, Пип, что флага не было. Но уж лучше там или не лучше, мы этого сейчас не будем касаться, не то сестра твоя сразу начнет лютовать; а уж самим на это напрашиваться – распоследнее дело. Ты послушай, Пип, что тебе скажет твой верный друг. Вот тебе твой верный друг что скажет: хочешь стать необыкновенным – добивайся своего правдой, а кривдой никогда ничего не добьешься. Так что гляди, чтоб больше этого не было, Пип, тогда и проживешь счастливо и умрешь спокойно.
– Ты на меня не сердишься, Джо?
– Нет, дружок. Но ежели вспомнить, каких ты только басен не выдумал и как у тебя только на это духу хватило, – это я про телячьи котлеты, ну и что собаки дрались, – так искренний доброжелатель посоветовал бы тебе, Пип, чтобы ты еще хорошенько обо всем этом подумал, когда пойдешь к себе наверх спать. Вот тебе и весь сказ, дружок, и больше так не делай.
Когда, поднявшись в свою каморку, я стал читать молитвы, я твердо помнил наставления Джо; а между тем юный мой ум был так взбудоражен и столь чужд благодарности, что, улегшись в постель, я еще долго думал о том, каким обыкновенным показался бы Эстелле Джо – простой кузнец, – какие у него грубые башмаки и какие шершавые руки. Я думал о том, что Джо и моя сестра сидят сейчас в кухне, и сам я только что пришел из кухни, а вот мисс Хэвишем и Эстелла никогда не сидят в кухне, – такая обыкновенная жизнь неизмеримо ниже их достоинства. Я заснул, вспоминая, как, «бывало», проводил время у мисс Хэвишем, словно я пробыл там не каких-нибудь два-три часа, а несколько недель или месяцев, словно воспоминания эти не родились только сегодня, а были давнишними и привычными.
То был памятный для меня день, потому что он произвел во мне большую перемену. Но так случается с каждым. Представьте себе, что из вашей жизни вычеркнули один особенно важный день, и подумайте, как по-иному повернулось бы ее течение. Вы, кто читаете эти строки, отложите на минуту книгу и подумайте о той длинной цепи из железа или золота, из терниев или цветов, которая не обвила бы вас, если бы первое звено ее не было выковано в какой-то один, навсегда памятный для вас день.
Глава X
Как-то утром я проснулся со счастливой мыслью, что, если я хочу стать необыкновенным, хорошо бы для начала позаимствовать у Бидди все, чему она успела выучиться. В осуществление этого блестящего замысла я в тот же вечер, придя в школу двоюродной бабушки мистера Уопсла, сказал Бидди, что по некоей важной причине я твердо намерен выйти в люди и буду ей очень обязан, если она поделится со мной своими знаниями. Бидди, добрая девочка, всегда готовая всем услужить, тотчас согласилась и, более того, немедля приступила к делу.
Систему или курс обучения, проводившийся двоюродной бабушкой мистера Уопсла, можно вкратце описать следующим образом: ученики грызли яблоки и совали друг другу за шиворот соломинки, пока двоюродная бабушка мистера Уопсла, собравшись с силами, не подступала к ним слабенькими шажками, грозя всем без разбора пучком березовых прутьев. Встретив этот натиск презрительными смешками, ученики выстраивались в ряд и под громкое гуденье начинали передавать друг другу истрепанную книжку. В этой книжке был алфавит, кое-какие цифры и таблицы и несколько страниц упражнений для чтения, – вернее, имелись признаки того, что когда-то все это в ней было. Как только сей фолиант пускали по рукам, двоюродная бабушка мистера Уопсла впадала в транс – состояние, вызывавшееся либо старческой сонливостью, либо приступом ревматизма. Тогда ученики сами себе устраивали конкурсный экзамен по увлекательнейшему предмету – Башмакам, имевший целью выяснить, кто кому больнее наступит на ногу. Эта гимнастика для ума продолжалась до тех пор, пока Бидди, взяв учеников штурмом, не раздавала им три обветшалых Библии (такой формы, точно их неумело отрубили от толстого бревна), напечатанные более неразборчиво, чем все антикварные книги, какие с тех пор попадались мне на глаза, украшенные разноцветными пятнами плесени и хранящие между своими листами сплющенные трупы множества разнообразных насекомых. Эта часть учебной программы обычно проходила оживленно благодаря поединкам, которые то и дело завязывались между Бидди и непокорными школярами. По окончании военных действий Бидди называла страницу, и мы душераздирающим хором читали вслух, что могли (и что не могли) разобрать, причем Бидди вела первый голос все на одной и той же высокой, пронзительной ноте, и никто из нас не понимал ни единого слова и не испытывал ни малейшего чувства благоговения. Этот безобразный шум длился довольно долго, но в конце концов от него просыпалась двоюродная бабушка мистера Уопсла и, выбрав наудачу какого-нибудь мальчика, ковыляла к нему, чтобы надрать ему уши. Так нам давалось понять, что на сегодня занятия окончены, и мы выбегали на улицу, оглашая воздух победными криками во славу науки. Справедливости ради следует заметить, что ученикам не возбранялось побаловаться грифельной доской или даже чернилами (если таковые имелись в наличии), но зимой эти ученые занятия оказывались почти недоступными, поскольку мелочная лавочка, где происходили уроки, служившая двоюродной бабушке мистера Уопсла также гостиной и спальней, освещалась одной-единственной подслеповатой сальной свечой, с которой к тому же нечем было снимать нагар.
Меня беспокоило, что при таких обстоятельствах немало времени уйдет на то, чтобы стать необыкновенным; но все же я решил попробовать и, заключив с Бидди особое соглашение, тут же получил от нее кое-какие сведения, содержавшиеся в ее маленьком прейскуранте под рубрикой «мелкий сахар», а также – для домашнего списывания – заглавное староанглийское Д, которое она срисовала с названия какой-то газеты и которое я лишь после ее разъяснений перестал принимать за изображение пряжки.
Само собой разумеется, в нашей деревне был трактир, и, само собой разумеется, Джо любил иногда посидеть там и выкурить трубочку. В тот вечер я получил от сестры строгий наказ – по пути из школы зайти за ним к «Трем веселым матросам» и привести его домой живого или мертвого. К «Трем веселым матросам» я поэтому и направил свой путь.
В первой комнате трактира была стойка, а за ней, на стене возле двери – написанные мелом удручающе длинные счета, по которым, как мне казалось, никто никогда не платил. Я видел их там с тех пор, как себя помнил, и росли они быстрее, чем я. Впрочем, мела в нашей местности было хоть отбавляй, и люди, возможно, пользовались всяким случаем, чтобы пустить его в дело.
Поскольку описываемый мною вечер приходился в субботу, я застал хозяина за мрачным созерцанием этих записей, но мне был нужен не он, а Джо, и потому я только поздоровался с ним и прошел дальше по коридору в заднюю комнату, где в очаге ярко пылал огонь и Джо курил свою трубочку в обществе мистера Уопсла и еще какого-то незнакомого мне человека. Джо встретил меня обычным своим приветствием: «А, Пип, здорово, дружок!», и не успел он произнести эти слова, как незнакомец обернулся и посмотрел на меня.
В этом человеке, которого я видел впервые, было немало таинственного. Голову он держал набок, и один глаз у него был прищурен, точно он целился во что-то из невидимого ружья. Он курил трубку, а тут вынул ее изо рта, медленно, не сводя с меня пристального взгляда, выпустил дым и кивнул головой. Я тоже кивнул, и тогда он кивнул еще раз и подвинулся на скамье, приглашая меня сесть с ним рядом.
Но так как я привык, бывая в этом приюте отдохновения, всегда садиться рядом с Джо, я только поблагодарил его и сел на скамью напротив, где Джо уже освободил мне местечко. Тогда незнакомец, взглянув на Джо и убедившись, что тот смотрит в другую сторону, снова кивнул мне головой и потер себе ногу пониже колена каким-то очень, на мой взгляд, странным движением.
– Вы как будто говорили, что вы кузнец, – сказал незнакомец, обращаясь к Джо.
– Говорил, – сказал Джо.
– Что будем пить, мистер… вы, кстати сказать, и не назвали себя.
Джо восполнил этот пробел, и теперь незнакомец обратился к нему по имени:
– Что будем пить, мистер Гарджери? За мой счет. Разгонную.
– Да знаете, – отвечал Джо, – сказать по правде, не в обычае у меня пить за чей-нибудь счет, кроме как за свой собственный.
– Не в обычае? Пусть, – возразил незнакомец, – но один-то разок не грех, особенно в субботу вечером. Ну же, мистер Гарджери, выбирайте, вам чего?
– Ладно, не буду портить компанию, – сказал Джо. – Рому.
– Рому, – повторил незнакомец. – А в каком смысле выскажется другой джентльмен?
– Рому, – сказал мистер Уопсл.
– Рому на троих! – крикнул незнакомец, вызывая хозяина. – Три стакана.
– Этот другой джентльмен, – пояснил Джо, решив, что настало время представить мистера Уопсла, – этот джентльмен – наш псаломщик. Вам бы надо послушать его в церкви.
– Ага! – быстро подхватил незнакомец и прищурился на меня. – В той церкви, что стоит на отлете от деревни, у самых болот, и вокруг нее могилы?
– Вот-вот, – сказал Джо.
Незнакомец с довольным видом крякнул, не вынимая трубки изо рта, и устроился с ногами на скамье, благо никто больше на ней не сидел. На нем была дорожная шляпа с большими обвислыми полями, а под ней платок, туго повязанный вокруг головы, так что волос совсем не было видно. Он смотрел на огонь, и мне показалось, что лицо у него стало вдруг очень хитрое; потом он усмехнулся.
– Я в этих краях не бывал, джентльмены, но сдается мне, что местность у вас тут ближе к реке пустынная.
– Но не совсем же все? Этак выходит, Пип, что там не было черной бархатной каре… – Он не договорил, увидев, что я качаю головой. – Но собаки-то уж наверно были, Пип? – умоляюще протянул Джо. – Ладно, пусть телячьих котлет не было, но собаки-то были?
– Нет, Джо.
– Ну хоть одна собака? – сказал Джо. – Хоть щеночек. А?
– Нет, Джо, ничего не было.
Я мрачно уставился на него, а он не отводил от меня огорченного, растерянного взгляда.
– Пип, дружок, ведь это никуда не годится! Ты сам подумай, что за это может быть?
– Это ужасно, Джо. Да?
– Ужасно? – вскричал Джо. – Просто уму непостижимо! И что на тебя нашло?
– Я не знаю, что на меня нашло, Джо, – отвечал я и, отпустив его рукав, уселся в кучу золы у его ног и понурил голову, – но только зачем ты научил меня говорить вместо трефы – крести и почему у меня такие грубые башмаки и такие шершавые руки?
И тут я рассказал Джо, что мне очень худо и что я не сумел ничего объяснить миссис Джо и Памблчуку, потому что они меня совсем задергали, и что у мисс Хэвишем была очень красивая девочка, страшная гордячка, и она сказала, что я – самый обыкновенный деревенский мальчик, и это так и есть, и очень мне неприятно, и отсюда и пошла вся моя ложь, хотя как это получилось – я и сам не знаю.
Это был чисто метафизический вопрос, уж конечно, не менее трудный для Джо, чем для меня. Но Джо изъял его из области метафизики и таким способом справился с ним.
– В одном ты можешь не сомневаться, Пип, – сказал он, поразмыслив немного. – Ложь – она и есть ложь. Откуда бы она ни шла, все равно плохо, потому что идет она от отца лжи и к нему же обратно и приводит. Чтобы больше этого не было, Пип. Таким манером ты, дружок, от своей обыкновенности не избавишься. К тому же тут что-то не так. Ты кое в чем совсем даже необыкновенный. Вот, скажем, роста ты необыкновенно маленького. Опять же, ученость у тебя необыкновенная.
– Нет, Джо, какой уж я ученый!
– А ты вспомни, какое ты вчера письмо написал! – сказал Джо. – Да еще печатными буквами! Видал я на своем веку письма, и притом от господ, – так и то, головой тебе ручаюсь, они были написаны не печатными буквами.
– Ничего я не знаю, Джо. Просто тебе хочется меня утешить.
– Ну, Пип, – сказал Джо, – так ли это, нет ли, еще неизвестно, но ты сам посуди, ведь до того как стать необыкновенным ученым, надо быть обыкновенным или нет? Возьми хоть короля – сидит он на троне, с короной на голове, а разве мог бы он писать законы печатными буквами, если бы не начал с азбуки, когда еще был в чине принца? Да! – прибавил Джо и многозначительно тряхнул головой. – Если бы он не начал с первой буквы и не одолел бы их все как есть до самой последней? Я-то знаю, что это такое, хоть и не могу сказать, чтобы сам одолел.
В этих мудрых словах был проблеск надежды, и я немного воспрянул духом.
– Оно, пожалуй, и лучше было бы, – задумчиво продолжал Джо, – кабы обыкновенные люди, то есть кто попроще да победнее, так бы и держались друг за дружку, а не ходили играть с необыкновенными… кстати, флаг-то, может, все-таки был?
– Нет, Джо.
– Очень мне жалко, Пип, что флага не было. Но уж лучше там или не лучше, мы этого сейчас не будем касаться, не то сестра твоя сразу начнет лютовать; а уж самим на это напрашиваться – распоследнее дело. Ты послушай, Пип, что тебе скажет твой верный друг. Вот тебе твой верный друг что скажет: хочешь стать необыкновенным – добивайся своего правдой, а кривдой никогда ничего не добьешься. Так что гляди, чтоб больше этого не было, Пип, тогда и проживешь счастливо и умрешь спокойно.
– Ты на меня не сердишься, Джо?
– Нет, дружок. Но ежели вспомнить, каких ты только басен не выдумал и как у тебя только на это духу хватило, – это я про телячьи котлеты, ну и что собаки дрались, – так искренний доброжелатель посоветовал бы тебе, Пип, чтобы ты еще хорошенько обо всем этом подумал, когда пойдешь к себе наверх спать. Вот тебе и весь сказ, дружок, и больше так не делай.
Когда, поднявшись в свою каморку, я стал читать молитвы, я твердо помнил наставления Джо; а между тем юный мой ум был так взбудоражен и столь чужд благодарности, что, улегшись в постель, я еще долго думал о том, каким обыкновенным показался бы Эстелле Джо – простой кузнец, – какие у него грубые башмаки и какие шершавые руки. Я думал о том, что Джо и моя сестра сидят сейчас в кухне, и сам я только что пришел из кухни, а вот мисс Хэвишем и Эстелла никогда не сидят в кухне, – такая обыкновенная жизнь неизмеримо ниже их достоинства. Я заснул, вспоминая, как, «бывало», проводил время у мисс Хэвишем, словно я пробыл там не каких-нибудь два-три часа, а несколько недель или месяцев, словно воспоминания эти не родились только сегодня, а были давнишними и привычными.
То был памятный для меня день, потому что он произвел во мне большую перемену. Но так случается с каждым. Представьте себе, что из вашей жизни вычеркнули один особенно важный день, и подумайте, как по-иному повернулось бы ее течение. Вы, кто читаете эти строки, отложите на минуту книгу и подумайте о той длинной цепи из железа или золота, из терниев или цветов, которая не обвила бы вас, если бы первое звено ее не было выковано в какой-то один, навсегда памятный для вас день.
Глава X
Как-то утром я проснулся со счастливой мыслью, что, если я хочу стать необыкновенным, хорошо бы для начала позаимствовать у Бидди все, чему она успела выучиться. В осуществление этого блестящего замысла я в тот же вечер, придя в школу двоюродной бабушки мистера Уопсла, сказал Бидди, что по некоей важной причине я твердо намерен выйти в люди и буду ей очень обязан, если она поделится со мной своими знаниями. Бидди, добрая девочка, всегда готовая всем услужить, тотчас согласилась и, более того, немедля приступила к делу.
Систему или курс обучения, проводившийся двоюродной бабушкой мистера Уопсла, можно вкратце описать следующим образом: ученики грызли яблоки и совали друг другу за шиворот соломинки, пока двоюродная бабушка мистера Уопсла, собравшись с силами, не подступала к ним слабенькими шажками, грозя всем без разбора пучком березовых прутьев. Встретив этот натиск презрительными смешками, ученики выстраивались в ряд и под громкое гуденье начинали передавать друг другу истрепанную книжку. В этой книжке был алфавит, кое-какие цифры и таблицы и несколько страниц упражнений для чтения, – вернее, имелись признаки того, что когда-то все это в ней было. Как только сей фолиант пускали по рукам, двоюродная бабушка мистера Уопсла впадала в транс – состояние, вызывавшееся либо старческой сонливостью, либо приступом ревматизма. Тогда ученики сами себе устраивали конкурсный экзамен по увлекательнейшему предмету – Башмакам, имевший целью выяснить, кто кому больнее наступит на ногу. Эта гимнастика для ума продолжалась до тех пор, пока Бидди, взяв учеников штурмом, не раздавала им три обветшалых Библии (такой формы, точно их неумело отрубили от толстого бревна), напечатанные более неразборчиво, чем все антикварные книги, какие с тех пор попадались мне на глаза, украшенные разноцветными пятнами плесени и хранящие между своими листами сплющенные трупы множества разнообразных насекомых. Эта часть учебной программы обычно проходила оживленно благодаря поединкам, которые то и дело завязывались между Бидди и непокорными школярами. По окончании военных действий Бидди называла страницу, и мы душераздирающим хором читали вслух, что могли (и что не могли) разобрать, причем Бидди вела первый голос все на одной и той же высокой, пронзительной ноте, и никто из нас не понимал ни единого слова и не испытывал ни малейшего чувства благоговения. Этот безобразный шум длился довольно долго, но в конце концов от него просыпалась двоюродная бабушка мистера Уопсла и, выбрав наудачу какого-нибудь мальчика, ковыляла к нему, чтобы надрать ему уши. Так нам давалось понять, что на сегодня занятия окончены, и мы выбегали на улицу, оглашая воздух победными криками во славу науки. Справедливости ради следует заметить, что ученикам не возбранялось побаловаться грифельной доской или даже чернилами (если таковые имелись в наличии), но зимой эти ученые занятия оказывались почти недоступными, поскольку мелочная лавочка, где происходили уроки, служившая двоюродной бабушке мистера Уопсла также гостиной и спальней, освещалась одной-единственной подслеповатой сальной свечой, с которой к тому же нечем было снимать нагар.
Меня беспокоило, что при таких обстоятельствах немало времени уйдет на то, чтобы стать необыкновенным; но все же я решил попробовать и, заключив с Бидди особое соглашение, тут же получил от нее кое-какие сведения, содержавшиеся в ее маленьком прейскуранте под рубрикой «мелкий сахар», а также – для домашнего списывания – заглавное староанглийское Д, которое она срисовала с названия какой-то газеты и которое я лишь после ее разъяснений перестал принимать за изображение пряжки.
Само собой разумеется, в нашей деревне был трактир, и, само собой разумеется, Джо любил иногда посидеть там и выкурить трубочку. В тот вечер я получил от сестры строгий наказ – по пути из школы зайти за ним к «Трем веселым матросам» и привести его домой живого или мертвого. К «Трем веселым матросам» я поэтому и направил свой путь.
В первой комнате трактира была стойка, а за ней, на стене возле двери – написанные мелом удручающе длинные счета, по которым, как мне казалось, никто никогда не платил. Я видел их там с тех пор, как себя помнил, и росли они быстрее, чем я. Впрочем, мела в нашей местности было хоть отбавляй, и люди, возможно, пользовались всяким случаем, чтобы пустить его в дело.
Поскольку описываемый мною вечер приходился в субботу, я застал хозяина за мрачным созерцанием этих записей, но мне был нужен не он, а Джо, и потому я только поздоровался с ним и прошел дальше по коридору в заднюю комнату, где в очаге ярко пылал огонь и Джо курил свою трубочку в обществе мистера Уопсла и еще какого-то незнакомого мне человека. Джо встретил меня обычным своим приветствием: «А, Пип, здорово, дружок!», и не успел он произнести эти слова, как незнакомец обернулся и посмотрел на меня.
В этом человеке, которого я видел впервые, было немало таинственного. Голову он держал набок, и один глаз у него был прищурен, точно он целился во что-то из невидимого ружья. Он курил трубку, а тут вынул ее изо рта, медленно, не сводя с меня пристального взгляда, выпустил дым и кивнул головой. Я тоже кивнул, и тогда он кивнул еще раз и подвинулся на скамье, приглашая меня сесть с ним рядом.
Но так как я привык, бывая в этом приюте отдохновения, всегда садиться рядом с Джо, я только поблагодарил его и сел на скамью напротив, где Джо уже освободил мне местечко. Тогда незнакомец, взглянув на Джо и убедившись, что тот смотрит в другую сторону, снова кивнул мне головой и потер себе ногу пониже колена каким-то очень, на мой взгляд, странным движением.
– Вы как будто говорили, что вы кузнец, – сказал незнакомец, обращаясь к Джо.
– Говорил, – сказал Джо.
– Что будем пить, мистер… вы, кстати сказать, и не назвали себя.
Джо восполнил этот пробел, и теперь незнакомец обратился к нему по имени:
– Что будем пить, мистер Гарджери? За мой счет. Разгонную.
– Да знаете, – отвечал Джо, – сказать по правде, не в обычае у меня пить за чей-нибудь счет, кроме как за свой собственный.
– Не в обычае? Пусть, – возразил незнакомец, – но один-то разок не грех, особенно в субботу вечером. Ну же, мистер Гарджери, выбирайте, вам чего?
– Ладно, не буду портить компанию, – сказал Джо. – Рому.
– Рому, – повторил незнакомец. – А в каком смысле выскажется другой джентльмен?
– Рому, – сказал мистер Уопсл.
– Рому на троих! – крикнул незнакомец, вызывая хозяина. – Три стакана.
– Этот другой джентльмен, – пояснил Джо, решив, что настало время представить мистера Уопсла, – этот джентльмен – наш псаломщик. Вам бы надо послушать его в церкви.
– Ага! – быстро подхватил незнакомец и прищурился на меня. – В той церкви, что стоит на отлете от деревни, у самых болот, и вокруг нее могилы?
– Вот-вот, – сказал Джо.
Незнакомец с довольным видом крякнул, не вынимая трубки изо рта, и устроился с ногами на скамье, благо никто больше на ней не сидел. На нем была дорожная шляпа с большими обвислыми полями, а под ней платок, туго повязанный вокруг головы, так что волос совсем не было видно. Он смотрел на огонь, и мне показалось, что лицо у него стало вдруг очень хитрое; потом он усмехнулся.
– Я в этих краях не бывал, джентльмены, но сдается мне, что местность у вас тут ближе к реке пустынная.