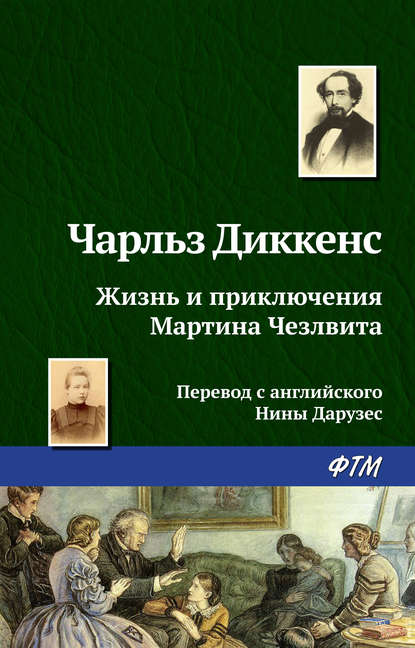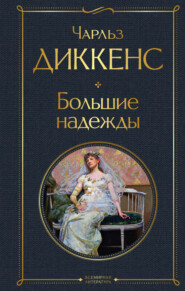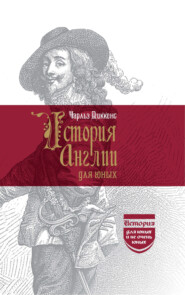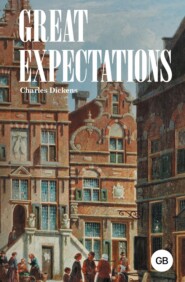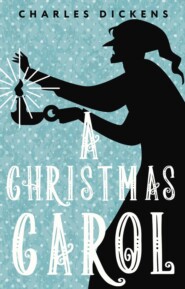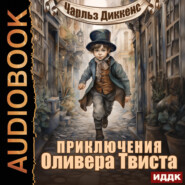По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Жизнь и приключения Мартина Чезлвита
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Да, да, – сказал Чаффи, весь просияв и становясь разумным человеческим существом при первом звуке его голоса, так что видеть это было и любопытно и трогательно, – да, да, совсем готов, мистер Чезлвит. Совсем готов, сэр. Готов, готов, готов. – Тут он остановился и стал слушать, не скажет ли старик что-нибудь еще; но так как с ним больше не говорили, свет мало-помалу угас на его лице, и он снова обратился в ничто, в нуль.
– Смотреть на него не очень приятно, имейте в виду, – сказал Джонас кузинам, передавая отцу тарелку с порцией старика. – Если это не суп, он всегда давится. Вот поглядите! Таращится, как слепая лошадь! Не будь это так смешно, я бы и не посадил его сегодня за стол; только, я думаю, это вас позабавит.
Бедный старик, предмет, этой гуманной речи, к счастью для себя, не понимал ее, как и почти всего, что при нем говорилось. Но так как баранина была жесткая, а зубов у него совсем не осталось, он вскоре оправдал замечание насчет его наклонности давиться и до такой степени мучился, пытаясь пообедать, что мистер Джонас ужасно развеселился и объявил, что старик сегодня решительно в ударе, просто лопнуть можно со смеху. Он до того разошелся, что стал уверять сестер, будто Чаффи даже папашу заткнет за пояс, а это, прибавил он многозначительно, не так-то легко сделать.
Казалось странным, что Энтони Чезлвит, сам глубокий старик, находил удовольствие в выходках своего любезного сынка по адресу бедной тени, сидевшей за их столом. Однако он находил в этом удовольствие, хотя, надо отдать ему справедливость, радовался не столько шуткам по адресу престарелого конторщика, сколько остроумию мистера Джонаса. По той же причине грубые намеки молодого человека, метившие даже в него самого, наполняли его ликованием, заставляя потирать руки и хихикать исподтишка, словно он хотел сказать: «Я его учил, я его воспитывал. Это мой наследник, мое произведение! Хитрый, пронырливый, скупой, он не растратит моих денег. Для этого я работал, на это я надеялся, это было целью всей моей жизни».
Поистине благородная цель, достижением которой стоило восхищаться! Но ведь есть и такие люди, которые, создав себе кумиров по образу и подобию своему, отказываются им поклоняться, обвиняя в их уродливости ни в чем не повинную природу. Энтони, во всяком случае, был лучше этих людей.
Чаффи так долго возился со своей тарелкой, что мистер Джонас, потеряв терпение, отобрал ее и попросил отца сообщить этому почтенному старичку, чтобы он лучше «навалился на хлеб», что Энтони и сделал.
– Да, да! – воскликнул старик, просияв, как прежде, едва это сообщение было ему передано. – Совершенно верно, совершенно верно. Весь в вас, мистер Чезлвит, ваш родной сын. Господь с ним, острого ума паренек! Господь с ним, господь с ним!
Мистеру Джонасу это показалось таким ребячеством (быть может, не без основания), что он расхохотался еще пуще и сказал кузинам, что в один прекрасный день Чаффи его, верно, уморит. После этого скатерть сняли и поставили на стол бутылку вина, из которой мистер Джонас налил девицам по стакану, прося их не церемониться с вином, так как там, откуда его взяли, найдется и еще. Однако, пошутив таким образом, он поторопился прибавить, что это он сказал только так и уверен, что они не приняли шутку всерьез.
– Я выпью за Пекснифа, – сказал Энтони. – За вашего отца, милые мои! Умный человек, этот Пексниф. Осмотрительный человек! Хотя и лицемер, а? Ведь он лицемер, милые, а? Ха-ха-ха! Да, лицемер. Между нами говоря, лицемер. Он от этого не хуже, хоть иной раз и хватает через край. Во всем можно перестараться, дорогие мои, даже и в лицемерии. Спросите хоть Джонаса!
– Ну, когда бережешь свое здоровье, не бойся перестараться, – заметил многообещающий юноша, набивая себе рот.
– Слышите, милые мои? – воскликнул Энтони в полном восторге. – Умно, умно! Отлично сказано, Джонас! Да, в этом отношении нельзя перестараться.
– Разве только, – шепнул мистер Джонас своей любимой кузине, – если заживешься на свете! Ха-ха! Послушайте, скажите это и той, другой.
– Господи боже! – воскликнула Черри обидчиво. – Неужели вы не можете сказать ей сами, если вам так хочется?
– Уж очень она любит издеваться, – отвечал мистер Джонас.
– Тогда чего же вы о ней беспокоитесь? – спросила Чарити. – По-моему, она не очень-то о вас беспокоится.
– Неужто нет? – спросил Джонас.
– Боже мой, разве вы сами не видите? – возразила молодая особа.
Мистер Джонас ничего не ответил, зато посмотрел на Мерри как-то странно и сказал, что от этого его сердце не разобьется, можете быть уверены. После чего он стал поглядывать на Чарити еще благосклоннее и попросил ее, со свойственной ему любезностью, «придвинуться поближе».
– А вот еще в чем нельзя перестараться, папаша, – заметил Джонас после краткого молчания.
– В чем это? – спросил отец, заранее ухмыляясь.
– В делах, – ответил сын. – Вот вам правило для всяких сделок. «Жми других, чтобы тебя не прижали». Вот чем надо руководиться в делах. А все прочее – обман.
Восхищенный отец откликнулся на эту мысль так горячо и до того обрадовался, что положил немало трудов, пытаясь сообщить ее своему дряхлому конторщику, который потирал руки, кивал трясущейся головой, мигал слезящимися глазами и восклицал тоненьким голосом: «Отлично! Отлично! Ваш родной сын, мистер Чезлвит! Весь в вас!» – выражая свой восторг всеми доступными ему средствами. Но это ликование старика скрашивалось тем, что было обращено к единственному человеку, с которым его соединяли узы привычки и теперешняя беспомощность. И если бы здесь присутствовал участливый наблюдатель, он сумел бы найти следы так и не развившихся человеческих чувств в мутном осадке на дне ветхого сосуда, именуемого Чаффи.
Однако не нашлось никого, кто принял бы в старике участие, и Чаффи опять удалился в темный уголок возле камина, где всегда проводил вечера; больше его никто уже не видел и не слышал, и только когда ему подали чашку чаю, присутствующие могли заметить, как он машинально макает в нее хлеб. Трудно было предположить, что он спит в это время или же видит, слышит, думает, чувствует что-нибудь. Он сидел, словно замороженный, если к нему можно применить такое сильное выражение, и оттаивал только на минуту, когда Энтони с ним заговаривал или прикасался к нему.
Мисс Чарити, разливавшая чай по просьбе мистера Джонаса, вошла в роль хозяйки дома и совсем расчувствовалась, тем более что мистер Джонас сидел рядом и нашептывал ей разные нежности, выражая свое восхищение.
Мисс Мерри, досадуя, что этот вечер и все удовольствия принадлежат несомненно и исключительно им двоим, безмолвно сожалела о коммерческих джентльменах, в эту самую минуту, конечно, тосковавших по ней, и зевала над вчерашней газетой. Что же касается Энтони, он сразу уснул; таким образом, арена была предоставлена Джонасу и Черри на все время, пока им самим будет угодно.
Когда чайный поднос, наконец, убрали, мистер Джонас достал замасленную колоду карт и принялся развлекать сестер разными фокусами, главная суть которых состояла в том, чтобы заставить кого-нибудь держать с вами пари, а потом выиграть пари и прикарманить денежки. Мистер Джонас сообщил девицам, что такие развлечения сейчас в большой моде в самом высшем обществе и что при азартной игре постоянно переходят из рук в руки большие деньги. Следует заметить, что он и сам этому искренне верил; на всякого хитреца довольно простоты, так же как и на всякого простака; и во всех случаях, где доверие основывалось на убеждении в человеческой низости и плутовстве, мистер Джонас оказывался самым легковерным человеком. Впрочем, читателю не следует также упускать из виду его поразительное невежество.
Этот прекрасный молодой человек имел все качества, чтобы стать записным кутилой, но к полному списку пороков ему недоставало единственного хорошего свойства, отличающего настоящего прожигателя жизни, а именно широты натуры. Ему мешали жадность и скаредность; и как один яд уничтожает действие другого там, где оказываются бессильны лекарства, так и этот порок удерживал его от полной меры зла, что вряд ли удалось бы добродетели.
После того как мистер Джонас показал свое нехитрое искусство, наступил уже поздний вечер; и так как мистер Пексниф все еще не показывался, девицы выразили желание отправиться домой. Но этого мистер Джонас по своей галантности никак не мог допустить, не угостив их сыром и портером, и даже тогда ему ужасно не хотелось с ними расставаться, и он то просил мисс Чарити посидеть еще немножко, то придвинуться поближе, – словом, не скупился на просьбы самого лестного характера, неуклюже играя роль радушного хозяина. Когда все его усилия удержать сестер оказались тщетны, он надел шляпу и пальто, готовясь сопровождать их в пансион, и заметил, что они, конечно, предпочтут идти пешком и что он со своей стороны вполне с ними согласен.
– Спокойной ночи, – сказал Энтони, – спокойной ночи! Кланяйтесь от меня – ха-ха-ха! – Пекснифу! Берегитесь вашего кузена, милые барышни. Бойтесь Джонаса, он опасный человек. Да смотрите не поссорьтесь из-за него.
– Ах он страшилище! – воскликнула Мерри. – Очень нужно из-за него ссориться. Можешь совсем взять его себе. Черри, милочка моя. Дарю тебе свою долю.
– Ага! Зелен виноград! Верно, сестрица? – сказал Джонас.
Этот остроумный ответ насмешил мисс Чарити гораздо больше, чем можно было ожидать, принимая во внимание почтенный возраст и крайнюю незамысловатость остроты. Но, как любящая сестра; она упрекнула мистера, Джонаса за то, что он бьет лежачего, и попросила оставить в покое бедную Мерри, иначе она, Чарити, его просто возненавидит. Мерри, которая не лишена была чувства юмора, только засмеялась на это, и они возвращались домой довольно мирно, без обмена колкостями по дороге. Мистер Джонас, находясь между двумя кузинами и ведя их под руки, иногда прижимал к себе не ту, которую следовало, и так крепко, что она едва терпела; но так как он все время шептался с Чарити и выказывал ей всяческое внимание, это была, вероятно, простая случайность. Как только они дошли до пансиона и им отперли дверь, Мерри сейчас же вырвалась от них и убежала наверх, а Чарити и Джонас целых пять минут простояли на крыльце, разговаривая; словом, как заметила миссис Тоджерс на следующее утро в беседе с третьим лицом, «было совершенно ясно, что между ними происходит, и она очень этому рада, потому что мисс Пексниф давно пора подумать о себе и пристроиться».
И вот уже близился день, когда светлое видение, так внезапно явившееся пансиону М. Тоджерс и озарившее солнечным сиянием мрачную душу Джинкинса, готовилось исчезнуть, когда его должны были запихнуть в дилижанс, словно бумажный сверток, или корзину с рыбой, или бочонок устриц, или какого-нибудь толстяка, или еще какую-нибудь скучную прозу жизни, и увезти далеко-далеко от Лондона!
– Никогда еще, дорогие мои мисс Пексниф, – говорила миссис Тоджерс, после того как они удалились на покой в последний день их пребывания в пансионе, – никогда еще мне не приходилось видеть, чтобы какое-нибудь заведение так горевало, как мое теперь. Не думаю, чтобы джентльмены опять сделались прежними джентльменами или стали хоть сколько-нибудь на себя похожи раньше чем через несколько недель, да и то вряд ли. И в этом виноваты вы, вы обе.
Девицы сочувственно ахали и скромно оправдывались, ссылаясь на неумышленность своей вины в этом печальном положении вещей.
– И ваш папа тоже, – продолжала миссис Тоджерс. – Это такая потеря! Милые мои мисс Пексниф, ваш благочестивый папа – вестник мира и любви! Ну, прямо миссионер!
Девицы, однако, приняли этот комплимент довольно холодно, не зная наверное, какого рода любовь подразумевает миссис Тоджерс.
– Если бы я осмелилась, – сказала миссис Тоджерс, заметив это, – нарушить то доверие, которого меня удостоили, и рассказать вам, почему я прошу вас не закрывать нынче вечером дверь между нашими комнатами, я думаю, вы бы услышали нечто весьма для вас интересное. Но я не могу этого сделать, я дала мистеру Джинкинсу честное слово, что буду молчать, как могила.
– Милая миссис Тоджерс! Что вы этим хотите сказать?
– Ну, в таком случае, милые мои мисс Пексниф, – начала хозяйка дома, – душеньки мои, если только вы позволите мне такую фамильярность накануне нашей с вами разлуки: мистер Джинкинс и остальные джентльмены составили по секрету небольшую музыкальную программу и намерены ровно в полночь задать вам серенаду перед дверью на лестнице. Признаться, я бы предпочла, – продолжала миссис Тоджерс с обычной своей предусмотрительностью, – чтобы они выбрали время часа на два пораньше, потому что, когда джентльмены долго засиживаются, они много пьют, а когда выпьют, то слушать их далеко не так приятно, как трезвых. Но все уже решено, и я знаю, что вы будете очень польщены таким их вниманием, дорогие мои мисс Пексниф.
Девицы сначала так взволновались и так обрадовались этой новости, что решили совсем не ложиться спать, пока не кончится серенада. Но полчаса ожидания охладили их и заставили переменить мнение, и они не только улеглись в постель, но и заснули, да еще мало того – отнюдь не пришли в восторг, когда через некоторое время были разбужены сладкозвучными руладами, нарушившими мирную тишину ночи.
Это было очень трогательно, очень! Более заунывного пения нельзя было пожелать, даже обладая самым придирчивым вкусом. Любитель вокальной музыки был первым факельщиком или главным плакальщиком, Джинкинс пел басом, остальные – кто во что горазд. Самый младший из джентльменов изливал свою меланхолию на флейте. Выливалось у него далеко не все, но это было только к лучшему. Даже если бы обе мисс Пексниф – и миссис Тоджерс вместе с ними – погибли от самовозгорания и серенада была дана их праху, то и тогда вряд ли она могла бы выразить такую безысходную скорбь, какая звучала в хоре «Туда, где слава тебя ожидает!». Это был реквием, панихида, плач, стон, вопль, жалоба, воплощение всего, что заунывно и невыносимо для слуха! Флейта младшего из джентльменов звучала как-то странно – и неровно. Она то затихала, то слышалась порывами, как ветер. Довольно долго казалось, что флейтист совсем перестал играть; но когда миссис Тоджерс и обе девицы уже решили, что он удалился, в избытке чувств заливаясь слезами, флейта вдруг опять вступила в строй, и при этом на такой визгливой ноте, что сама захлебнулась. Исполнитель он был бесподобный. Никак нельзя было предвидеть, в какую минуту его услышишь; и именно тогда, когда вы думали, что он отдыхает и собирается с силами, тут-то он и проделывал что-нибудь из ряда вон выходящее.
Таких номеров в программе было несколько, и даже, может быть, на два, на три больше, чем нужно, – хотя, как сказала миссис Тоджерс, всегда лучше ошибиться в эту сторону. Но даже и тут, в такую торжественную минуту, когда волнующие звуки должны были проникнуть, так сказать, в самую сокровенную глубину его существа, – если у него вообще имелась эта глубина, – Джинкинс не оставлял в покое младшего из джентльменов. Перед началом второго номера он попросил его довольно громко, да еще в порядке личного одолжения, – нет, вы заметьте, каков злодей! – не играть. Да, он так и выразился: не играть. Дыхание младшего из джентльменов было слышно даже сквозь замочную скважину. Он и не играл. Разве флейта могла дать выход страстям, бушевавшим в его груди? Тут и тромбон был бы слишком нежен.
Концерт близился к концу. Уже приступали к самому интересному номеру. Джентльмен литературной складки написал кантату на отъезд молодых девиц, приспособив ее к старому мотиву. Пели все, кроме младшего из джентльменов, который, по вышеуказанным причинам, хранил гробовое молчание. Кантата (носившая классический характер) обращалась к оракулу Аполлону и вопрошала, что станет с коммерческим пансионом М. Тоджерс, когда Сострадание и Милосердие его покинут? По обычаю, весьма распространенному среди оракулов, начиная с древнейших времен и до наших дней, оракул воздержался от сколько-нибудь вразумительного ответа. Не получив разъяснений по этому вопросу, кантата бросала его на полпути и переходила к дальнейшему, доказывая, что обе мисс Пексниф состоят в близком родстве с гимном «Правь, Британия»[39 - …с гимном «Правь, Британия»… – английская песня, сложенная в пору владычества Англии на морях. Ее автор – поэт Джеймс Томсон (1700–1748). Музыка написана композитором Т.А. Арном (1710–1778).] и что если б Англия не была островом, то обеих мисс Пексниф не было бы на свете. Затем кантата принимала мореходный характер и заканчивалась так:
Плыви, о Пексниф, дай Зевес
Тебе погоды ясной!
Ты архитектор, и артист,
И человек прекрасный!
Предоставив воображению дам дорисовывать картину отплытия, джентльмены неспешным шагом проследовали на покой, чтобы музыка эффектно замирала в отдалении; и когда ее звуки мало-помалу утихли, пансион М. Тоджерс погрузился к сон.
Мистер Бейли приберег свое вокальное подношение до утра; просунув голову в дверь как раз в ту минуту, когда девицы стояли на коленях перед чемоданами и укладывались, он изобразил завывания щенка в ту трудную минуту жизни, когда, по представлению людей, наделенных живой фантазией, это животное, желая облегчить душу, требует пера и чернил.
– Ну, барышни, – сказал этот юноша, – так, значит, вы уезжаете? Не везет же нам.