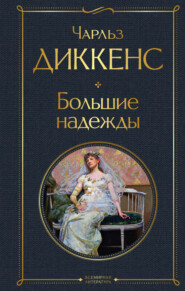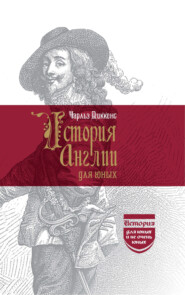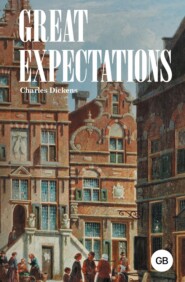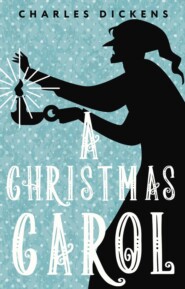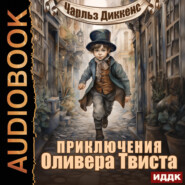По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Крошка Доррит. Знаменитый «роман тайн» в одном томе
Автор
Жанр
Год написания книги
1857
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Слова ее неприятно поразили слух Бэби. Тон, которым они были произнесены, словно предвещал, что совершиться должно непременно что-то дурное. «Ох, папочка!» – испуганным шепотком сказала девушка и совсем по-ребячьи попятилась ближе к отцу. Это не укрылось от глаз мисс Уэйд.
– Вашу хорошенькую дочку, – сказала она, – бросает в дрожь от подобной мысли. А между тем, – и она вперила в Бэби глубокий, пристальный взгляд, – где-то есть люди, которым назначено вмешаться в вашу жизнь, и они уже готовятся выполнить свое назначение. Можете не сомневаться, что они его выполнят. Быть может, эти люди еще далеко, за сотни и тысячи миль морского пути; быть может, они уже совсем близко; быть может, они обретаются среди самых жалких подонков этого города, куда мы попали проездом, – вам этого не узнать и не изменить.
Она более чем холодно распрощалась со всеми и с тем усталым выражением, от которого ее красота казалась блекнущей, хотя и находилась в самом расцвете, покинула залу.
Для того чтобы из этой части обширного помещения гостиницы попасть в отведенную ей комнату, мисс Уэйд нужно было пройти целый лабиринт лестниц и коридоров. Под самый конец этого сложного перехода, когда она уже очутилась в галерее, куда выходила ее комната, внимание ее вдруг привлекли чьи-то сердитые выкрики и рыдания. Одна из дверей была приотворена, и, проходя мимо, она увидела служанку семейства, с которым только что рассталась, – обладательницу столь странного имени.
Мисс Уэйд остановилась, с интересом наблюдая за девушкой. Строптива и горяча, сразу видно! Густые черные волосы в беспорядке рассыпались у нее по плечам, лицо горело, губы распухли от слез и от того, что, захлебываясь яростью, она поминутно дергала их беспощадной рукой.
– Черствые, бессердечные люди! – приговаривала девушка, задыхаясь и всхлипывая после каждого слова. – Бросили меня тут и думать забыли. Я умираю от голода, от жажды, от усталости, а им и горя мало! Изверги! Чудовища! Звери!
– Что с вами, бедняжка?
Она подняла свои красные заплаканные глаза, и ее руки повисли в воздухе, не дотянувшись до шеи, усеянной сине-багровыми пятнами от щипков, которыми она себя щедро награждала.
– А вам какое дело, что со мной? Никого это не касается!
– Почему вы так думаете? Мне очень неприятно видеть вас в слезах.
– Вовсе вам это не неприятно, – сказала девушка. – Вы даже рады этому. Да, рады. Со мной такое было только два раза в карантинном бараке; и оба раза вы меня заставали врасплох. Я вас боюсь.
– Боитесь?
– Да, боюсь. Вы всегда являетесь, как будто я вас накликала своим гневом, своей злостью, своей – не знаю как это назвать. А плачу я, потому что со мной дурно обращаются, да, дурно, дурно, дурно! – Тут рыдания возобновились, слезы полились обильнее, а руки принялись за свое прерванное занятие.
Свидетельница этой сцены созерцала ее со странной многозначительной усмешкой. И в самом деле, любопытно было наблюдать, как девушка, раздираемая яростной борьбой страстей, корчится и истязает себя, словно в нее, как бывало встарь, вселились бесы.
– Я двумя или тремя годами моложе ее, а между тем я должна ходить за ней, как старая нянька, а ее все ласкают, милуют, зовут деточкой! Ненавижу все эти ласковые прозвища! И ее ненавижу тоже! Они из нее дурочку делают своим баловством. Она думает только о себе, больше ни о ком; я для нее все равно что стул или стол! – Казалось, жалобам не будет конца.
– Нужно смириться.
– А я не хочу смиряться!
– Если ваши хозяева заботятся лишь о себе, пренебрегая вашими нуждами, вы не должны роптать на это.
– А я хочу роптать!
– Тсс! Будьте благоразумны. Вы забываете о своем зависимом положении.
– А мне все равно. Я убегу. Я натворю бед. Я не буду больше терпеть, не буду! Я умру, если попробую потерпеть еще.
Свидетельница, приложив руку к груди, смотрела на девушку с тем острым любопытством, с которым человек, пораженный тяжелой болезнью, следил бы за вскрытием и препарированием мертвеца, умершего от той же болезни.
А девушка еще долго металась и бушевала со всем пылом молодости и неизрасходованных жизненных сил; но мало-помалу ее страстные вопли уступили место прерывистым жалобным стонам, словно от боли. Она упала в кресло, потом соскользнула на колени и, наконец, повалилась на пол у кровати, стащив с нее покрывало, то ли чтобы спрятать в его складках пылающее от стыда лицо и мокрые волосы, то ли из потребности хоть что-нибудь прижать к стесненной раскаянием груди.
– Уходите! Уходите! Когда на меня такое накатит, я теряю рассудок. Я знаю, что могу сдержать себя, если соберу все силы; иногда я стараюсь, и мне это удается, а иногда не хочу стараться. Что я тут наговорила? Ведь я отлично знала, что говорю неправду. Они уверены, что обо мне позаботились и у меня есть все, что мне нужно. Ничего кроме добра я от них в жизни не видела. Я люблю их всем сердцем; они сделали для меня больше, чем заслужила такая неблагодарная тварь, как я. Уходите, оставьте меня, я вас боюсь. Я боюсь себя, когда чувствую, что готова впасть в бешенство, и точно так же боюсь вас. Уходите, дайте мне поплакать и помолиться, и мне станет легче.
День подошел к концу, снова иссяк палящий зной, и душная ночь спустилась над Марселем; утренний караван разбрелся, и каждый в одиночку продолжал назначенный ему путь. Вот так и все мы, путники, не знающие покоя, свершаем свое земное странствие, изо дня в день, из ночи в ночь, при солнце и при звездах, взбираемся на горы и устало бредем по долинам, встречаемся, и расходимся, и сталкиваемся вновь в неисповедимом скрещении судеб.
Глава III
Дома
Был лондонский воскресный вечер – унылый, тягостный и душный. В оглушительной какофонии церковных колоколов сталкивались мажор и минор, дребезжание и гул, заливчатый трезвон и мерные удары, и, подхваченное каменным эхом домов, все это нестерпимо резало уши. Меланхолическое зрелище улиц в траурных балахонах из сажи надрывало душу людям, обреченным на жестокую необходимость созерцать это зрелище из окна. В каждом проезде, в каждом тупике, на каждом перекрестке дрожал, стонал, бился в воздухе скорбный звон, словно город был во власти чумы и по улицам тянулись повозки с трупами. Все то, на чем изнуренный работой человек мог бы хоть сколько-нибудь отвести душу, было тщательно и надежно заперто на замок. Ни картин, ни диковинных животных, ни редких цветов или растений, ни природных или искусственных чудес Древнего мира – на все это просвещенный разум наложил табу, нерушимой твердости которого могли бы позавидовать безобразные божки диких племен в Британском музее. Не на что кинуть взгляд, кроме улиц, улиц, улиц. Негде подышать воздухом, кроме улиц, улиц, улиц. Нечем разогнать тоску и неоткуда набраться бодрости. Только и остается усталому труженику, что сравнивать унылое однообразие седьмого дня недели с унылым однообразием шести остальных, размышлять о своей горькой жизни и утешаться этим – или огорчаться, что более вероятно.
В этот приятный вечер, столь пользительный для укрепления религии и нравственности, мистер Артур Кленнэм, только что прибывший из Марселя через Дувр, откуда его доставил дуврский дилижанс, так называемая «Синеокая красотка», сидел у окна в кофейне на Ладгет-Хилл. Вокруг него было десять тысяч респектабельных домов, так хмуро глядевших на улицы, их обтекавшие, словно в каждом из них проживали те десять юношей из «Тысячи и одной ночи», которые по ночам вымазывали себе лица грязью и в горестных воплях оплакивали свои невзгоды. Вокруг него было пятьдесят тысяч жалких лачуг, где люди жили в такой тесноте и грязи, что чистая вода, в субботу вечером налитая в кувшин, в воскресенье утром уже не годилась к употреблению; хотя его милость, депутат от их округа, удивлялся, отчего это им не спится среди запахов лежалой говядины и баранины. На целые мили к северу, к югу, к западу, к востоку тянулись дома, похожие на колодцы или шахты, дома, обитатели которых всегда задыхались от недостатка воздуха. Через весь город, вместо красивой, прохладной реки, катила свои мутные воды сточная канава. Какие же мирские желания могли в день седьмой волновать миллион с лишним человеческих существ, шесть дней гнувших спину среди всех этих аркадских радостей, от сладостного постоянства которых им некуда было спастись с колыбели до гроба? Недремлющее око полиции – вот, разумеется, и все, что им требовалось.
Мистер Артур Кленнэм сидел у окна в кофейне на Ладгет-Хилл, прислушиваясь к звону ближайшего колокола, машинально подбирая ему в такт слова и припевы, и думал: сколько найдется за год слабых здоровьем людей, чью кончину ускорит это испытание? По мере того как приближался час начала церковной службы, колокол все чаще менял свой голос и от этого все неотвязней лез в уши. Когда осталось четверть часа, он забил с оживленно-мертвящей настойчивостью, торопя население в божий храм, в божий храм, в божий храм. Когда осталось десять минут, он увидел, что прихожане собираются туго, и, приуныв, стал глухо взывать: ждем вас, ждем вас, ждем вас. Когда осталось только пять минут, он потерял всякую надежду и все триста секунд сотрясал окрестные дома мрачными ударами, по одному в секунду, похожими на стон отчаяния.
– Слава богу! – сказал Кленнэм, когда время истекло и колокол умолк.
Но под этот звон ожили в его памяти многие печальные воскресенья прошлого, и мрачная вереница воспоминаний продолжала тянуться перед его мысленным взором даже и после того, как наступила тишина.
– Господи, прости меня, – сказал он, – и тех, кто был моими воспитателями, тоже. Как я ненавидел всегда этот день!
Вот мрачное воскресенье из его детства: он сидит, отупев от страха, над чудовищным трактатом, который еще в заглавии огорошивал несчастного ребенка вопросом, почему он идет к погибели (каковую любознательность существо в штанишках и курточке не в силах было удовлетворить), а в самом тексте, в качестве особого развлечения для младенческого ума, содержал через каждые две строки икающую ссылку в скобках, вроде: 2 посл. к Фесс., гл. III, ст. 6 и 7. Вот унылое воскресенье из его отрочества: трижды в день, под конвоем учителей, точно дезертир, он марширует в церковь, скованный с другим таким же мальчиком невидимыми наручниками нравственного долга; и думает о том, как охотно обменял бы две порции неудобоваримой церковной проповеди на лишний кусочек тощей баранины, предназначенной для насыщения его плоти за обедом. Вот бесконечное воскресенье из его юности: мать его, женщина суровая лицом и непреклонная душой, целый день сидит, загородясь большой Библией, облеченной, как и ее представления о ней, в твердый, негнущийся, точно деревянный переплет, без всяких украшений, если не считать одной-единственной завитушки в углу, похожей на звено цепи, да зловеще багрового обреза; словно эта – именно эта! – книга должна была служить оплотом против всяких изъявлений ласки, душевного тепла и попыток дружеской беседы. Вот тягостное воскресенье из более поздних лет: угрюмый и мрачный, он не знает, как скоротать затянувшийся день, и в сердце у него горькое чувство обиды, а душеспасительная сущность Нового Завета так же далека от него, как если бы он вырос среди идолопоклонников. Много, много воскресений медленно проплывали перед мысленным взором Кленнэма, и все это были дни неуемной тоски и неизгладимого унижения.
– Прошу прощенья, сэр, – прервал его мысли шустрый слуга, смахивая крошки со столика. – Желаете посмотреть номер?
– Да. Я как раз об этом думал.
– Коридорная! – закричал слуга. – Седьмой стол желают посмотреть номер.
– Нет, нет! – воскликнул Кленнэм, опомнясь. – Я ответил машинально, не сознавая, что говорю. Я не собираюсь ночевать здесь. Я пойду домой.
– Слушаю, сэр. Коридорная! Седьмой стол не желают смотреть номер. Пойдут домой.
День угасал, а он все еще сидел на том же месте, смотрел на хмурые фасады домов по другую сторону улицы и думал: если бестелесные ныне души прежних обитателей смотрят сюда с высоты, как им должно быть грустно, что вся их земная жизнь прошла в этих мрачных узилищах. Порой где-нибудь за мутным оконным стеклом появлялось человеческое лицо и тут же вновь исчезало во мраке, как будто достаточно насмотрелось на жизнь и спешило уйти от нее. Вдруг косые полосы дождя исчертили пространство, отделявшее Кленнэма от этих домов, застигнутые врасплох пешеходы спешили укрыться в соседних подворотнях и сокрушенно поглядывали оттуда на небо, видя, что дождь льет все сильнее и сильнее. Появились мокрые зонтики, заляпанные подолы, потеки грязи. Непонятно было, откуда вдруг вылезла вся эта грязь, где она пряталась раньше. Казалось, она собралась мгновенно, как собирается уличная толпа, и в какие-нибудь пять минут забрызгала всех сынов и дочерей Адамовых. Фонарщик уже совершал свой обход, и язычки пламени, вспыхивавшие от его прикосновения, словно удивлялись, как это им позволили расцветить яркими пятнами столь неприглядную картину.
Мистер Артур Кленнэм надел шляпу, застегнулся на все пуговицы и вышел. В деревне воздух после дождя наполнился бы благоуханной свежестью и на каждую упавшую каплю земля откликнулась бы новым и прекрасным проявлением жизни. В городе дождь только усиливал дурные, тошнотворные запахи да переполнял водостоки мутной, тепловатой, жирной от грязи водой.
У собора Св. Павла Кленнэм перешел на другую сторону и обходным путем стал спускаться к реке через целый лабиринт крутых, извилистых улочек (в те годы еще более извилистых и тесных), между набережной и Чипсайдом. Он проходил то мимо покрытых плесенью стен, за которыми в старину собиралось какое-нибудь благочестивое общество, то мимо освещенного фасада церкви без прихожан, словно дожидающейся, когда какой-нибудь предприимчивый Бельцони откопает ее и ее историю; он шел, минуя наглухо запертые ворота причалов и складов, пересекая узкие переулки, где порой на сырой стене плакал жалкий, намокший лоскут объявления со словами: «Найдено тело утопленника…» – и, наконец, очутился у того дома, который ему был нужен. Это был старый, закоптелый почти до черноты кирпичный особняк, одиноко стоявший в глубине двора. Перед ним был квадратный палисадник – два-три куста и полоска газона, настолько же заросшая сорной травой, насколько железная ограда вокруг была покрыта ржавчиной (а значит – довольно основательно); за ним уходило вдаль нагромождение городских крыш. Дом был двухэтажный, с высокими узкими окнами в массивных рамах. Много лет назад он обнаружил намерение свалиться набок; его спешно подперли, чтобы этого не случилось, и так он и стоял с тех пор, опираясь на полдюжины гигантских костылей, однако теперь вид этого сооружения – излюбленного пристанища соседских кошек, – подгнившего от дождей, замшелого от времени и почерневшего от дыма, не внушал особого доверия.
– Все по-старому, – сказал путешественник, остановившись и глядя на дом. – Так же мрачно и так же уныло. И матушкино окно освещено, словно в нем и не гасили света с той поры, как я, бывало, дважды в год возвращался на каникулы домой и проходил здесь, волоча свой сундучок по тротуару. Так, так, так…
Он подошел к двери, над которой был навес, украшенный резьбой в виде развешанных полотенец и детских головок со всеми признаками водянки мозга – очень модный в свое время узор; подошел и постучал. Послышались шаркающие шаги по каменным плитам пола, дверь отворилась, и на пороге показался старик со свечой в руке, сухой и сгорбленный, но с острыми, пронзительными глазами.
Он поднял свечу повыше, вглядываясь этими пронзительными глазами в посетителя.
– А, мистер Артур, – сказал он без всякого волнения. – Приехали наконец? Входите.
Мистер Артур вошел и закрыл за собой дверь.
– Вы пополнели, раздались в плечах, – заметил старик, оглядывая его при свете той же свечи и медленно качая головой, – но все-таки далеко вам до вашего отца. И до матушки тоже.
– А как матушкино здоровье?
– Так же, как и все эти годы. Когда она не прикована к постели болями, то просто сидит у себя в комнате. За пятнадцать лет она едва ли пятнадцать раз ступила за порог этой комнаты, Артур. – Они вошли в неприютную, скудно обставленную столовую. Старик поставил подсвечник на стол, подпер правый локоть левой рукой и, поглаживая свой пергаментный подбородок, внимательно уставился на гостя. Гость протянул ему руку. Старик дотронулся до нее без особого пыла; собственный подбородок явно был ему куда приятнее, и при первой возможности он предпочел ухватиться за него снова.
– Вашу хорошенькую дочку, – сказала она, – бросает в дрожь от подобной мысли. А между тем, – и она вперила в Бэби глубокий, пристальный взгляд, – где-то есть люди, которым назначено вмешаться в вашу жизнь, и они уже готовятся выполнить свое назначение. Можете не сомневаться, что они его выполнят. Быть может, эти люди еще далеко, за сотни и тысячи миль морского пути; быть может, они уже совсем близко; быть может, они обретаются среди самых жалких подонков этого города, куда мы попали проездом, – вам этого не узнать и не изменить.
Она более чем холодно распрощалась со всеми и с тем усталым выражением, от которого ее красота казалась блекнущей, хотя и находилась в самом расцвете, покинула залу.
Для того чтобы из этой части обширного помещения гостиницы попасть в отведенную ей комнату, мисс Уэйд нужно было пройти целый лабиринт лестниц и коридоров. Под самый конец этого сложного перехода, когда она уже очутилась в галерее, куда выходила ее комната, внимание ее вдруг привлекли чьи-то сердитые выкрики и рыдания. Одна из дверей была приотворена, и, проходя мимо, она увидела служанку семейства, с которым только что рассталась, – обладательницу столь странного имени.
Мисс Уэйд остановилась, с интересом наблюдая за девушкой. Строптива и горяча, сразу видно! Густые черные волосы в беспорядке рассыпались у нее по плечам, лицо горело, губы распухли от слез и от того, что, захлебываясь яростью, она поминутно дергала их беспощадной рукой.
– Черствые, бессердечные люди! – приговаривала девушка, задыхаясь и всхлипывая после каждого слова. – Бросили меня тут и думать забыли. Я умираю от голода, от жажды, от усталости, а им и горя мало! Изверги! Чудовища! Звери!
– Что с вами, бедняжка?
Она подняла свои красные заплаканные глаза, и ее руки повисли в воздухе, не дотянувшись до шеи, усеянной сине-багровыми пятнами от щипков, которыми она себя щедро награждала.
– А вам какое дело, что со мной? Никого это не касается!
– Почему вы так думаете? Мне очень неприятно видеть вас в слезах.
– Вовсе вам это не неприятно, – сказала девушка. – Вы даже рады этому. Да, рады. Со мной такое было только два раза в карантинном бараке; и оба раза вы меня заставали врасплох. Я вас боюсь.
– Боитесь?
– Да, боюсь. Вы всегда являетесь, как будто я вас накликала своим гневом, своей злостью, своей – не знаю как это назвать. А плачу я, потому что со мной дурно обращаются, да, дурно, дурно, дурно! – Тут рыдания возобновились, слезы полились обильнее, а руки принялись за свое прерванное занятие.
Свидетельница этой сцены созерцала ее со странной многозначительной усмешкой. И в самом деле, любопытно было наблюдать, как девушка, раздираемая яростной борьбой страстей, корчится и истязает себя, словно в нее, как бывало встарь, вселились бесы.
– Я двумя или тремя годами моложе ее, а между тем я должна ходить за ней, как старая нянька, а ее все ласкают, милуют, зовут деточкой! Ненавижу все эти ласковые прозвища! И ее ненавижу тоже! Они из нее дурочку делают своим баловством. Она думает только о себе, больше ни о ком; я для нее все равно что стул или стол! – Казалось, жалобам не будет конца.
– Нужно смириться.
– А я не хочу смиряться!
– Если ваши хозяева заботятся лишь о себе, пренебрегая вашими нуждами, вы не должны роптать на это.
– А я хочу роптать!
– Тсс! Будьте благоразумны. Вы забываете о своем зависимом положении.
– А мне все равно. Я убегу. Я натворю бед. Я не буду больше терпеть, не буду! Я умру, если попробую потерпеть еще.
Свидетельница, приложив руку к груди, смотрела на девушку с тем острым любопытством, с которым человек, пораженный тяжелой болезнью, следил бы за вскрытием и препарированием мертвеца, умершего от той же болезни.
А девушка еще долго металась и бушевала со всем пылом молодости и неизрасходованных жизненных сил; но мало-помалу ее страстные вопли уступили место прерывистым жалобным стонам, словно от боли. Она упала в кресло, потом соскользнула на колени и, наконец, повалилась на пол у кровати, стащив с нее покрывало, то ли чтобы спрятать в его складках пылающее от стыда лицо и мокрые волосы, то ли из потребности хоть что-нибудь прижать к стесненной раскаянием груди.
– Уходите! Уходите! Когда на меня такое накатит, я теряю рассудок. Я знаю, что могу сдержать себя, если соберу все силы; иногда я стараюсь, и мне это удается, а иногда не хочу стараться. Что я тут наговорила? Ведь я отлично знала, что говорю неправду. Они уверены, что обо мне позаботились и у меня есть все, что мне нужно. Ничего кроме добра я от них в жизни не видела. Я люблю их всем сердцем; они сделали для меня больше, чем заслужила такая неблагодарная тварь, как я. Уходите, оставьте меня, я вас боюсь. Я боюсь себя, когда чувствую, что готова впасть в бешенство, и точно так же боюсь вас. Уходите, дайте мне поплакать и помолиться, и мне станет легче.
День подошел к концу, снова иссяк палящий зной, и душная ночь спустилась над Марселем; утренний караван разбрелся, и каждый в одиночку продолжал назначенный ему путь. Вот так и все мы, путники, не знающие покоя, свершаем свое земное странствие, изо дня в день, из ночи в ночь, при солнце и при звездах, взбираемся на горы и устало бредем по долинам, встречаемся, и расходимся, и сталкиваемся вновь в неисповедимом скрещении судеб.
Глава III
Дома
Был лондонский воскресный вечер – унылый, тягостный и душный. В оглушительной какофонии церковных колоколов сталкивались мажор и минор, дребезжание и гул, заливчатый трезвон и мерные удары, и, подхваченное каменным эхом домов, все это нестерпимо резало уши. Меланхолическое зрелище улиц в траурных балахонах из сажи надрывало душу людям, обреченным на жестокую необходимость созерцать это зрелище из окна. В каждом проезде, в каждом тупике, на каждом перекрестке дрожал, стонал, бился в воздухе скорбный звон, словно город был во власти чумы и по улицам тянулись повозки с трупами. Все то, на чем изнуренный работой человек мог бы хоть сколько-нибудь отвести душу, было тщательно и надежно заперто на замок. Ни картин, ни диковинных животных, ни редких цветов или растений, ни природных или искусственных чудес Древнего мира – на все это просвещенный разум наложил табу, нерушимой твердости которого могли бы позавидовать безобразные божки диких племен в Британском музее. Не на что кинуть взгляд, кроме улиц, улиц, улиц. Негде подышать воздухом, кроме улиц, улиц, улиц. Нечем разогнать тоску и неоткуда набраться бодрости. Только и остается усталому труженику, что сравнивать унылое однообразие седьмого дня недели с унылым однообразием шести остальных, размышлять о своей горькой жизни и утешаться этим – или огорчаться, что более вероятно.
В этот приятный вечер, столь пользительный для укрепления религии и нравственности, мистер Артур Кленнэм, только что прибывший из Марселя через Дувр, откуда его доставил дуврский дилижанс, так называемая «Синеокая красотка», сидел у окна в кофейне на Ладгет-Хилл. Вокруг него было десять тысяч респектабельных домов, так хмуро глядевших на улицы, их обтекавшие, словно в каждом из них проживали те десять юношей из «Тысячи и одной ночи», которые по ночам вымазывали себе лица грязью и в горестных воплях оплакивали свои невзгоды. Вокруг него было пятьдесят тысяч жалких лачуг, где люди жили в такой тесноте и грязи, что чистая вода, в субботу вечером налитая в кувшин, в воскресенье утром уже не годилась к употреблению; хотя его милость, депутат от их округа, удивлялся, отчего это им не спится среди запахов лежалой говядины и баранины. На целые мили к северу, к югу, к западу, к востоку тянулись дома, похожие на колодцы или шахты, дома, обитатели которых всегда задыхались от недостатка воздуха. Через весь город, вместо красивой, прохладной реки, катила свои мутные воды сточная канава. Какие же мирские желания могли в день седьмой волновать миллион с лишним человеческих существ, шесть дней гнувших спину среди всех этих аркадских радостей, от сладостного постоянства которых им некуда было спастись с колыбели до гроба? Недремлющее око полиции – вот, разумеется, и все, что им требовалось.
Мистер Артур Кленнэм сидел у окна в кофейне на Ладгет-Хилл, прислушиваясь к звону ближайшего колокола, машинально подбирая ему в такт слова и припевы, и думал: сколько найдется за год слабых здоровьем людей, чью кончину ускорит это испытание? По мере того как приближался час начала церковной службы, колокол все чаще менял свой голос и от этого все неотвязней лез в уши. Когда осталось четверть часа, он забил с оживленно-мертвящей настойчивостью, торопя население в божий храм, в божий храм, в божий храм. Когда осталось десять минут, он увидел, что прихожане собираются туго, и, приуныв, стал глухо взывать: ждем вас, ждем вас, ждем вас. Когда осталось только пять минут, он потерял всякую надежду и все триста секунд сотрясал окрестные дома мрачными ударами, по одному в секунду, похожими на стон отчаяния.
– Слава богу! – сказал Кленнэм, когда время истекло и колокол умолк.
Но под этот звон ожили в его памяти многие печальные воскресенья прошлого, и мрачная вереница воспоминаний продолжала тянуться перед его мысленным взором даже и после того, как наступила тишина.
– Господи, прости меня, – сказал он, – и тех, кто был моими воспитателями, тоже. Как я ненавидел всегда этот день!
Вот мрачное воскресенье из его детства: он сидит, отупев от страха, над чудовищным трактатом, который еще в заглавии огорошивал несчастного ребенка вопросом, почему он идет к погибели (каковую любознательность существо в штанишках и курточке не в силах было удовлетворить), а в самом тексте, в качестве особого развлечения для младенческого ума, содержал через каждые две строки икающую ссылку в скобках, вроде: 2 посл. к Фесс., гл. III, ст. 6 и 7. Вот унылое воскресенье из его отрочества: трижды в день, под конвоем учителей, точно дезертир, он марширует в церковь, скованный с другим таким же мальчиком невидимыми наручниками нравственного долга; и думает о том, как охотно обменял бы две порции неудобоваримой церковной проповеди на лишний кусочек тощей баранины, предназначенной для насыщения его плоти за обедом. Вот бесконечное воскресенье из его юности: мать его, женщина суровая лицом и непреклонная душой, целый день сидит, загородясь большой Библией, облеченной, как и ее представления о ней, в твердый, негнущийся, точно деревянный переплет, без всяких украшений, если не считать одной-единственной завитушки в углу, похожей на звено цепи, да зловеще багрового обреза; словно эта – именно эта! – книга должна была служить оплотом против всяких изъявлений ласки, душевного тепла и попыток дружеской беседы. Вот тягостное воскресенье из более поздних лет: угрюмый и мрачный, он не знает, как скоротать затянувшийся день, и в сердце у него горькое чувство обиды, а душеспасительная сущность Нового Завета так же далека от него, как если бы он вырос среди идолопоклонников. Много, много воскресений медленно проплывали перед мысленным взором Кленнэма, и все это были дни неуемной тоски и неизгладимого унижения.
– Прошу прощенья, сэр, – прервал его мысли шустрый слуга, смахивая крошки со столика. – Желаете посмотреть номер?
– Да. Я как раз об этом думал.
– Коридорная! – закричал слуга. – Седьмой стол желают посмотреть номер.
– Нет, нет! – воскликнул Кленнэм, опомнясь. – Я ответил машинально, не сознавая, что говорю. Я не собираюсь ночевать здесь. Я пойду домой.
– Слушаю, сэр. Коридорная! Седьмой стол не желают смотреть номер. Пойдут домой.
День угасал, а он все еще сидел на том же месте, смотрел на хмурые фасады домов по другую сторону улицы и думал: если бестелесные ныне души прежних обитателей смотрят сюда с высоты, как им должно быть грустно, что вся их земная жизнь прошла в этих мрачных узилищах. Порой где-нибудь за мутным оконным стеклом появлялось человеческое лицо и тут же вновь исчезало во мраке, как будто достаточно насмотрелось на жизнь и спешило уйти от нее. Вдруг косые полосы дождя исчертили пространство, отделявшее Кленнэма от этих домов, застигнутые врасплох пешеходы спешили укрыться в соседних подворотнях и сокрушенно поглядывали оттуда на небо, видя, что дождь льет все сильнее и сильнее. Появились мокрые зонтики, заляпанные подолы, потеки грязи. Непонятно было, откуда вдруг вылезла вся эта грязь, где она пряталась раньше. Казалось, она собралась мгновенно, как собирается уличная толпа, и в какие-нибудь пять минут забрызгала всех сынов и дочерей Адамовых. Фонарщик уже совершал свой обход, и язычки пламени, вспыхивавшие от его прикосновения, словно удивлялись, как это им позволили расцветить яркими пятнами столь неприглядную картину.
Мистер Артур Кленнэм надел шляпу, застегнулся на все пуговицы и вышел. В деревне воздух после дождя наполнился бы благоуханной свежестью и на каждую упавшую каплю земля откликнулась бы новым и прекрасным проявлением жизни. В городе дождь только усиливал дурные, тошнотворные запахи да переполнял водостоки мутной, тепловатой, жирной от грязи водой.
У собора Св. Павла Кленнэм перешел на другую сторону и обходным путем стал спускаться к реке через целый лабиринт крутых, извилистых улочек (в те годы еще более извилистых и тесных), между набережной и Чипсайдом. Он проходил то мимо покрытых плесенью стен, за которыми в старину собиралось какое-нибудь благочестивое общество, то мимо освещенного фасада церкви без прихожан, словно дожидающейся, когда какой-нибудь предприимчивый Бельцони откопает ее и ее историю; он шел, минуя наглухо запертые ворота причалов и складов, пересекая узкие переулки, где порой на сырой стене плакал жалкий, намокший лоскут объявления со словами: «Найдено тело утопленника…» – и, наконец, очутился у того дома, который ему был нужен. Это был старый, закоптелый почти до черноты кирпичный особняк, одиноко стоявший в глубине двора. Перед ним был квадратный палисадник – два-три куста и полоска газона, настолько же заросшая сорной травой, насколько железная ограда вокруг была покрыта ржавчиной (а значит – довольно основательно); за ним уходило вдаль нагромождение городских крыш. Дом был двухэтажный, с высокими узкими окнами в массивных рамах. Много лет назад он обнаружил намерение свалиться набок; его спешно подперли, чтобы этого не случилось, и так он и стоял с тех пор, опираясь на полдюжины гигантских костылей, однако теперь вид этого сооружения – излюбленного пристанища соседских кошек, – подгнившего от дождей, замшелого от времени и почерневшего от дыма, не внушал особого доверия.
– Все по-старому, – сказал путешественник, остановившись и глядя на дом. – Так же мрачно и так же уныло. И матушкино окно освещено, словно в нем и не гасили света с той поры, как я, бывало, дважды в год возвращался на каникулы домой и проходил здесь, волоча свой сундучок по тротуару. Так, так, так…
Он подошел к двери, над которой был навес, украшенный резьбой в виде развешанных полотенец и детских головок со всеми признаками водянки мозга – очень модный в свое время узор; подошел и постучал. Послышались шаркающие шаги по каменным плитам пола, дверь отворилась, и на пороге показался старик со свечой в руке, сухой и сгорбленный, но с острыми, пронзительными глазами.
Он поднял свечу повыше, вглядываясь этими пронзительными глазами в посетителя.
– А, мистер Артур, – сказал он без всякого волнения. – Приехали наконец? Входите.
Мистер Артур вошел и закрыл за собой дверь.
– Вы пополнели, раздались в плечах, – заметил старик, оглядывая его при свете той же свечи и медленно качая головой, – но все-таки далеко вам до вашего отца. И до матушки тоже.
– А как матушкино здоровье?
– Так же, как и все эти годы. Когда она не прикована к постели болями, то просто сидит у себя в комнате. За пятнадцать лет она едва ли пятнадцать раз ступила за порог этой комнаты, Артур. – Они вошли в неприютную, скудно обставленную столовую. Старик поставил подсвечник на стол, подпер правый локоть левой рукой и, поглаживая свой пергаментный подбородок, внимательно уставился на гостя. Гость протянул ему руку. Старик дотронулся до нее без особого пыла; собственный подбородок явно был ему куда приятнее, и при первой возможности он предпочел ухватиться за него снова.