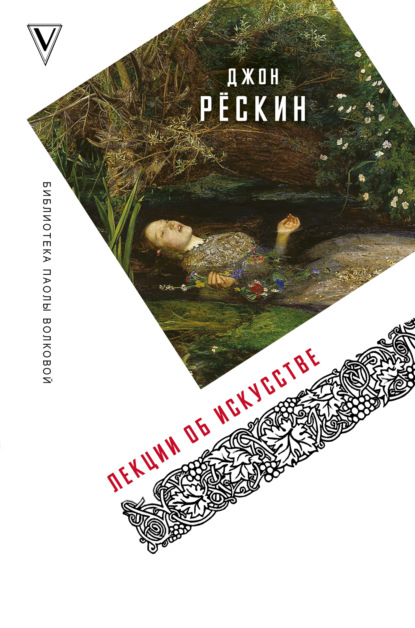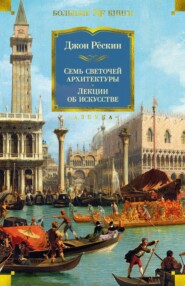По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Лекции об искусстве
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
25. Среди тех, кто интересуется искусством, даже среди самих художников, на сто человек, стоящих на средней ступени суждения, придется может быть один, достигший последней. И это происходит не потому, что они не обладают способностью открыть истину или наслаждаться ею, а потому что истина слишком похожа на заблуждение, последняя ступень на первую; вследствие этого каждое чувство, ведущее к ней, задерживается в своем начале. Стремительный и выдающийся художник поневоле смотрит с презрением на тех, кто уделяет больше внимания мельчайшим деталям, чем величию впечатления; его презрение до того велико, что ему почти невозможно понять последнюю великую ступень в искусстве, на которой сходятся и то, и другое. Ему так часто приходилось уничтожать изысканность в работе ученика и вымарывать детали с его загроможденного полотна, так много сетовать на недостаток широты и единства, и так редко обвинять его в несовершенстве мелочей, что он смотрит на совершенство частей как на верный знак неправильности, слабости и незнания. Таким образом, к концу жизни он нередко, подобно Рейнольдсу, смотрит на детали и целое, как на двух непримиримых врагов, а между тем нельзя быть великим художником, не примирив их. И на основании того, что одни детали, без отношения к конечной цели, указывают на ученический характер работы, он упускает из виду более отдаленную истину, что детали, представляющие совершенство в целом и содействующие конечной цели, доказывают принадлежность работы превосходному мастеру.
26. Таким образом, ни детали, к которым стремятся ради них самих, ни кирпичи, которые можно перечислить на картинах голландских мастеров, ни сосчитанные волосы, ни с педантической точностью сделанные изгибы Деннера не составляют истинного искусства; напротив, это самый низкий, презреннейший вид искусства; высшее искусство представляют те детали, при которых имеется в виду великая цель, к изображению которых стремятся ради высшей красоты, существующей в самых незначительных, в самых мельчайших творениях Бога, трактуемой мужественно, свободно, оставляющей неизгладимое впечатление. Трактуя ничтожнейшие черточки, художник может проявить столько же величия духа, столько же благородства в манере, как и тогда, когда он схватывает самые крупные. Это величие заключается, главным образом, в умении уловить родовой характер предмета со всеми теми великими элементами красоты, которые являются общими для него и для высших форм существования[8 - В следующих частях своего труда я покажу, что принципы универсальной красоты общи всем творениям Бога, и сообразно с тем, в какой доле она находится в предметах, одна форма бывает выше или ниже другой.]; при этом совершенно устраняются низшие элементы красоты, которые случайно принадлежат предмету, но не характерны для него в родовом отношении. Я не могу указать лучшего примера, чем изображение цветов в упомянутой выше картине Тициана. В то время, как схвачена каждая тычинка розы, – так как это необходимо, чтобы ярко отметить цветок; в то время, как изгибы и крупные черты листьев переданы с изысканной верностью, на картине нет следов второстепенной ткани, моху, налета, влаги, нет и других случайных признаков, капель росы, насекомых, каких бы то ни было украшений, ничего, помимо простых форм и оттенков цветов, и самые эти оттенки упрощены и переданы свободно. Например, аквилегия имеет в действительности сероватый, какой-то неопределенный тон цвета и никогда, вероятно, не достигает той яркой чистоты голубого цвета, которой наделил свой цветок Тициан. Но художник не стремился передать специальный цвет отдельного цветка. Он схватывает тип и передает его с величайшей чистотой и простотой, которая только доступна краске.
27. При соблюдении этих законов для художников становится не только возможным, но и обязательным, так сказать, священным долгом – изучение мельчайших деталей с неослабным вниманием. Каждая полевая трава и цветок заключают в себе родовую, отличающую их от других, совершенную красоту, имеют свое обиталище, свое специальное выражение, свои функции. Высшее искусство – то, которое улавливает этот родовой характер, развивает и освещает его; оно назначает ему его место в пейзаже; оно, наконец, при его помощи возвышает и усиливает великое впечатление, которое картина, по замыслу, должна произвести. И такое родовое воспроизведение необходимо не только по отношению к травам и цветам. Каждый вид скалы, каждый род земли, каждую форму облака следует изучать столь же прилежно и передавать с такой же точностью. И мы, таким образом, неизбежно придем к заключению, которое прямо противоположно постоянно повторяемому догмату критиков, болтающих, наподобие попугаев, будто черты природы следует «обобщать». Несомненный и грубо абсурдный характер этого догмата был бы обнаружен уже давно, если бы ее лживость не представлялась удобным прикрытием для лености, удобной маской для бездарности. Обобщать! Как будто возможно обобщить вещи, по существу различные. Я приведу характерный образчик этого критического жаргона, принадлежащий перу одного из критиков моей книги и помещенный в номере Athenaeum’a от 10 февраля настоящего года (т. е. 1898). «Он (т. е. автор) желал бы, чтобы пейзажисты – геологи, дендрологи, метеорологи и конечно энтомологи, ихтиологи, наконец всех видов художники-физиологи, – чтобы все это соединилось в одном лице. Горе истинно поэтическому искусству среди всех этих ученных фиванцев! Нет, пейзажист не должен доводить себя до снимания портретов с бездушных существ, подобно деннеровским портретным снимкам с земной поверхности… Древние пейзажисты усвоили более свободную, более глубокую и высшую точку зрения на свое искусство: они пренебрегали отдельными, частными черточками и передавали только общие, главные черты. Таким образом, им удавалось передать целое, достигнуть силы впечатления, гармоничного единства и простого эффекта, элементов величия и красоты».
28. На всякую подобную критику (я отметил ее только потому, что она выражает мысли, которые могут заразить некоторых людей чувствующих и мыслящих) ответ очень прост и ясен. Совершенно справедливо, что нельзя обобщить гранит и сланец, как нельзя обобщить человека и корову. Животное должно быть или тем, или другим; оно не может быть животным вообще, иначе оно вовсе перестает быть животным. Так же и скала должна быть той или иной; она не может быть скалой вообще, или она – не скала. Предположим, что на переднем плане картины нарисовано животное, относительно которого нельзя решить, пони ли оно или поросенок. Тогда критик Athenaeum’a, может быть, объявил бы, что это творение является «обобщением» пони и поросенка, a следовательно, высоким образцом «гармоничного единства и простого эффекта». Но я бы сказал, что это просто плохой рисунок. И когда я не могу узнать, представляют ли предметы на переднем плане картин Сальватора гранит, или сланец, или туф, – я утверждаю, что в них нет гармонического единства, ни простого эффекта, а есть простая уродливость. Здесь нет никакого величия, нет никакой красоты; ничего, кроме расстройства, беспорядка, разрушения нельзя достигнуть, совершая насилие над естественными отличительными признаками. Смешивая элементы животного царства, можно только испортить их; смешивая же элементы неорганического мира, можно лишь погубить их, погубить их совершенно. Мы можем, если хотим, создать центавров, но они все-таки должны быть наполовину людьми, наполовину лошадьми. Таким же образом, если пейзажист пожелает, он может изобразить нам скалу наполовину гранитную, наполовину сланцевую, но не такую, которая является одновременно и гранитной и сланцовой или которую можно принять или за ту или за другую. Каждая попытка воспроизвести какую бы то ни было скалу сведется к тому, что не получится никакой скалы.
29. Правда, отличительные свойства скал, деревьев и облаков менее бросаются в глаза и наблюдаются с меньшим постоянством, чем свойства животного мира. Но трудность наблюдения не оправдывает его небрежности. Она свидетельствует только об одном, именно о том, что мир до сих пор не знал ни одной совершенной школы пейзажной живописи. В самом деле, подобно тому, как высшая историческая живопись основана на совершенном знакомстве с жизнью человеческой формы и человеческого духа, так и высшая пейзажная живопись должна быть основана на совершенном знании формы, функций и системы каждой органической или обладающей определенной структурой жизни, которую эта живопись воспроизводит. Эта аналогия должна быть очевидна для всякого человека, способного мыслить. Всякий принцип, стоящий в противоречии с ней, или ошибочен, или ошибочно понят. Например, критик Athenaeum’a называет правильную передачу родовых отличий «портретированием наподобие Деннера». Если бы он нашел какие-нибудь признаки Деннера в том, что я выставил в качестве высшего образца пейзажной живописи, в недавних произведениях Тернера, тогда от души приветствую его открытие и его теорию. Но нет, портретная живопись в роде деннеровской была бы попыткой нарисовать отдельно кристаллы кварца и полевого шпата в граните, передать отдельные слои слюды в слюдистом сланце. Эта попытка столь же далека от того, что я считаю великим искусством (от свободной передачи родовых черт формы и в том и в другом камне), как новейшая скульптура кружев и петель далека от эльджинского мрамора. Мартин сделал попытку такого в деннеровском вкусе портретного изображения морской пены чуть ли не на целой десятине полотна. Успешно ли – это, я думаю, раз и навсегда решили критики его прошлогодней картины «Канут».
30. Из того, что упомянутое выше знание необходимо для художника, отнюдь не следует, что оно составляет художника, или что такое знание имеет цену само по себе без отношения к высшим целям. Всякого знания можно искать по низким побуждениям и ради низких целей; и лицо, приобревшее его таким образом, обладает низким знанием, между тем, буквально, то же самое знание в уме другого человека является средством достигнуть высшего величия и доставить величайшее блаженство. В этом и заключается различие между знанием растений, присущим ботанику, и великим знанием их, которым обладает поэт или художник. Один замечает их отличительные признаки с целью заполнить свой гербариум, другой – чтобы сделать их проводниками выражения и чувства. Один считает тычинки, ко всему прикрепляет имя и доволен. Другой наблюдает каждую черту цвета и формы растения; рассматривая каждое его свойство как элемент выражения, он извлекает из его линий грацию или энергию, незыблемость или спокойствие, отмечает слабость или силу, ясность или трепетание его оттенков; он наблюдает его местные свойства, его любовь к известным местам или боязнь таковых, питательную или разрушающую силу специальных влияний; он ассоциирует в своем уме все элементы тех условий, в которых живет растение, все вспомогательные условия, необходимые, чтобы поддержать его. Цветок для художника – живое существо; на листьях цветка написана его история, в движениях – чувствуется дыхание страсти. В картине этот цветок уже не место для наложения красок, не полоска света, лишенная мысли. Это – голос, идущий из земли, новый аккорд в музыке духа, необходимая нота в гармонии произведения, способствующая его нежности и величию, его красоте столько же, сколько его правдивости.
31. Изображение цветов у Шекспира и Шелли представляет многочисленные примеры замечательного искусства в обращении с деталями. Правда, у художника нет тех же средств для выражения мыслей, с которыми соединяются символы. Он в значительной степени зависит от знаний и чувств зрителя. Но, уничтожив детали, художник не сделает свое изображение более понятным невежде, а между тем оно потеряет интерес и для понимающего. Для неясно пишущего не может служить оправданием то соображение, что некоторые люди не могли бы прочесть написанного ясно.
32. Повторяю, обобщение, как обыкновенно понимают это слово, есть акт ума грубого, не способного и неразмышляющего. Видеть во всех горах только однородные груды земли, в скалах – однородные соединения твердых масс, в деревьях – однородные собрания листьев – не значит обладать высокими чувствами и широким умственным кругозором. Чем больше мы знаем и чувствуем, тем больше различаем, и различаем для того, чтобы овладеть более совершенным единством. В уме крестьянина камни укладываются так же, как они лежат на его полях: один похож на другой, и нет никакой связи между всеми ими. Геолог различает их и, различая, соединяет. Каждый камень отличается от своего соседа, но самым различием своим становится к нему в известное отношение; они не служат один повторением другого; они – части системы; каждый из них предполагает существование остальных и связан с ними. То обобщение правильно, истинно и благородно, которое основано на знании отличительных признаков и на изучении взаимного отношения отдельных видов. То обобщение неправильно, ложно и низко, которое основано на незнании тех и смешении других. В этом случае получается не обобщение, а путаница и хаос. Так можно обобщить только разбитую армию в виде бессилия, в котором ничего нельзя распознать, обобщить элементы трупа в виде праха.
Не останавливаясь подробнее на догматах художественных школ, перейдем к тем заключениям, к которым приводит нас наблюдение над законами природы.
33. Я только что заметил, что каждый род скал, земли, облаков художник должен знать столь же точно, как геолог и метеоролог[9 - Не значит ли это, спросят, быть может, меня, требовать от него больше, чем может вместить человеческая жизнь? Нисколько. Ведь требуется знание только внешних свойств. А если бы даже, что еще более желательно, требовались основательные научные знания, то время, которое наши художники тратят на увеличение незрелых этюдов или на довершение своих незрелых произведений, было бы достаточно, чтобы стать специалистом в любой науке, созданной современными исследованиями, и постигнуть всякую форму, проявляющуюся в природе. Если бы Мартин время, потраченное им на разные пустячки в его «Кануте», провел в прогулках по морскому берегу, то он приобрел бы много знаний; их было бы достаточно, чтобы создать несколькими взмахами картину, которая вечно трогала бы сердца человеческие, подобно пению морских волн.]. И это не с целью уловить характер самих этих мелких подробностей, а с целью постигнуть тот простой, серьезный и постоянный характер, который проявляется в общем эффекте каждого вида природы. Всякая геологическая формация имеет особенности, принадлежащие специально ей: известные линии излома, в результате чего являются определенные формы скал и земли; известные растительные продукты, среди которых вырабатываются новые видоизменения в зависимости от климата и высоты. В зависимости от этих различных условий происходит бесконечное разнообразие разрядов пейзажа, из которых каждый при различии отдельных черт обнаруживает совершенную гармонию и обладает идеальной красотой, присущей специально ему; эта красота не отличается только теми особенностями, которые приобретает внешняя форма человека благодаря климатическим изменениям; эта красота создается родовыми отличительными признаками, наиболее заметными и существенными; отдельные классы этих признаков нельзя обобщать и смешивать по своему желанию. Плоская поверхность болот и пышные луга третьей формации, округленные холмы и скудные пастбища меловой почвы, четырехугольные лощины и трещины небольших гор известковой породы, остроконечные вершины и зубчатые кручи первобытных гор не имеют ничего общего между собой. В них все различно, все не соединимо. Самая атмосфера, окружающая их, резко отличается; различны облака; различны самые особенности бури и солнечного сияния; различны цветы, животные, леса. Назначение каждого пейзажа, – а их разряды, повторяю, бесконечны по числу, в зависимости не только от скал различной породы, но и от частных условий, созданных наслоениями и позднейшими образованиями, в зависимости от бесчисленных видоизменений климата, положения, человеческого вмешательства, – назначение каждого пейзажа, говорю я, преподать особый урок, доставить специальное наслаждение. И говорить о соединении всех производимых ими впечатлений в какой-то идеальный ландшафт – такая же бессмыслица, как говорить о соединении всех родов питания в идеальную пищу, о смешении всех музыкальных мотивов в один идеальный, или о слиянии всех мыслей в одну идеальную идею.
34. Впрочем, сочетание различного рода пейзажей возможно, хотя невозможно их обобщение. Сама природа постоянно устраивает неожиданные соединения элементов, выражающих совершенно различное. Бесплодные скалы через лесистые выступы ниспускаются к равнине. Сквозь зеленые тени гирлянд винограда проглядывает бледный свет вечных снегов.
Художнику, таким образом, представляется на выбор: или выделить особенный характер пейзажа какого-нибудь отдельного разряда, или соединить вместе множество различных элементов, из которых каждый, в силу контраста, может усилить красоту другого.
Я думаю, что простой пейзаж, лишенный сложных соединений, если только при его обработке обращено надлежащее внимание на идеальную красоту заключающихся в нем черт, всегда более мощно трогает сердце. Контраст усиливает блеск красоты, но разрушает ее действие. Он увеличивает ее привлекательность, но уменьшает ее силу. Впоследствии мне еще много придется говорить по этому вопросу. В настоящее время я хочу только отметить то обстоятельство, что искренний художник, создающий на основании широких и простых принципов изображение цельного гармоничного пейзажа, стремится в искусстве к такой же высокой цели, как и самодовольный студент, который со «своим пятиминутным появлением повсюду» извлекает из разных концов земли материал для своей иллюстрированной газеты[10 - См. Don Juan X, LXXVI.]; если произведение последнего не регулируется строгой мыслью и отдельные части этого произведения не связаны натуральными звеньями, то в своей пестроте оно имеет меньше ценности, чем этюд, изображающий сорную траву при дороге.
35. Рискуя наскучить вам повторением общеизвестного, я решаюсь обратиться к общим принципам исторической живописи для того, чтобы указать вам применение их к пейзажу. Самый неопытный новичок знает, что каждая фигура, которая необходима в его картине, является для нее лишним бременем, и каждая фигура, которая не согласуется с целым, нарушает его. «Кто не собирает вместе со мною, тот расточает» – таков есть или должен быть принцип, руководящий замыслом художника; сила и величие его произведения будут в точности соответствовать единству чувства, которое обнаруживается в отдельных частях, а также естественному характеру и простоте их взаимных отношений.
Все сказанное вполне применимо к предметам неодушевленной природы. Цельность впечатления разрушается обилием противоречивых явлений и соединение, в котором нет гармонии, губит стройность. Тот, кто старается соединить простоту с пышностью, перейти от уединения к празднеству и сопоставить меланхолию с веселием, тот неизбежно в результате произведет неопределенную пустоту. Каждый вид имеет свой специальный смысл. Хотя контраст может иногда усилить ощущение, сделать его более интенсивным, но он все-таки должен играть второстепенную роль; противопоставляемое не должно быть равносильно с главным. Внесение всяких новых и разнообразных ощущений ослабляет силу того впечатления, которое уже произведено, a смешение всех эмоций должно повести в результате к равнодушию, как смешение всех цветов дает белый.
36. Позвольте мне приложить эти простые правила к оценке одного из «идеальных» пейзажей Клода, известного у итальянцев под именем Il Mulino (мельница).
Передний план представляет красивый и превосходно исполненный вид леса; на берегу ручья танцуют крестьяне; в руках настоящего мастера этого сюжета было бы совершенно достаточно для того, чтобы нарисовать законченную картину, оставляющую впечатление. Между тем на другом берегу ручья перед нами картина пастушеской жизни. Изображены человек и несколько быков и коз, головой вперед устремляющиеся в воду, словно ноги их внезапно поражены параличом. Уже эта группа является излишней. Пастуху вовсе не было нужды подводить свое стадо так близко к танцующим, a танцующие, наверное, испугали бы скот. Но когда мы долее всматриваемся в картину, наше чувство получает внезапный и сильный толчок благодаря неожиданному появлению солдат среди пастушеской, музыкальной идиллии. Римские солдаты верхом на лошадях; впереди пеший проводник явно побуждает их произвести немедленную и решительную атаку на музыкантов. За солдатами – круглый храм, очень плохой. Возле него, у самых стен, красивая водяная мельница на полном ходу. Около мельницы широкая река с плотиной. Плотина устроена не для мельницы (эта последняя получает воду с холмов посредством желоба, идущего над храмом), но она особенно некрасива и однообразна в линии падения, и вода внизу образует застывший пруд, в котором ловят рыбу с лодок. Берега этой реки по своим очертаниям похожи на геологические формации в окрестностях Лондона, составившиеся из черепков и устричных раковин. В невозможном расстоянии от мельницы находится город, состоящий из двадцати пяти круглых башен и одной пирамиды. За городом – красивый мост, за мостом – часть Кампаньи с обломками водопровода; за Кампаньей – цепь Альп; налево – тиволийские водопады.
Это, по-моему, прекрасный образчик того что обыкновенно называлось «идеальным» пейзажем, т. е. группа этюдов с натуры, которые схвачены наудачу и обладают такими противоположными характерами, что один уничтожает эффект другого; кроме того, они настолько неестественны и несогласованы, что производят вполне впечатление чего-то невозможного. Произведем анализ отдельных предметов в этом идеальном произведении Клода.
37. Может быть, на всей земле нет вида, производящего более сильное впечатление, чем уединенная местность римской Кампаньи при вечернем освещении. Пусть читатель на минуту мысленно удалится от шума и волнения живого мира и перенесется в эту дикую и пустынную равнину. Земля поддается и крошится под его ногами; никогда не ступал он так легко; почва под ним белая, рыхлая, прогнившая, подобно пыльным остаткам человеческих костей[11 - Плодородная почва Кампаньи образовалась, главным образом, из разложившейся лавы; под ней лежит пласт белой пемзы, в точности напоминающий остатки костей.]. Длинная переплетающаяся трава колеблется и волнуется слабо под дуновением вечернего ветерка, и тени, падающие при ее движении, дрожат и трепещут, словно лихорадочным трепетом, вдоль старых развалин, озаренных солнечным светом. Холмы рыхлой земли, словно волны, возвышаются вокруг него, словно мертвецы в своем сне затеяли беспокойную возню и приподнимают землю. А разбросанные в беспорядке глыбы черного камня, отесанные в правильную четырехугольную форму, жалкие руины некогда пышных, а теперь исчезнувших зданий, точно налегли на мертвых и крепко сдавили их там внизу. Ползучий, пурпуровый ядовитый туман низко стелется над степью, окутывая призрачные остатки массивных развалин, на их расщелинах играет красноватый свет, словно умирающее пламя оскверненных алтарей. Голубой хребет Албанской горы резко выделяется на пышном зеленом, ясном и спокойном фоне. Темные облака, словно сторожевые башни, неизменно сторожат Апеннинские вершины. От равнины к горам глыбы разбитого водопровода, одна за другою тают во мраке, словно бесчисленные тени похоронных плакальщиков, выходящих из могилы нации.
38. Произведем теперь вместе с Клодом некоторые «идеальные» изменения в этом пейзаже. Во-первых, превратим многочисленный Апеннинские стремнины в четыре сахарные головы. Во-вторых, уничтожим Албанскую гору и вместо нее поместим огромную мусорную кучу. Далее сотрем с лица земли большую часть водопроводов и оставим только одну или две арки с целью уничтожить неприятный вид однообразия, который получается благодаря их бесконечной длине. Вместо пурпурного тумана и заходящего солнца создадим светло-голубое небо с круглыми белыми облаками. Наконец, избавимся от неприятных развалин на переднем плане, посадим здесь несколько красивых деревьев; пошлем за скрипачами, устроим танцы и пикник.
Нетрудно видеть, что такого именно рода улучшение произвел Клод в том материале, который находился в его распоряжении. Откосы города Рима, спускающиеся к пирамиде Кая Цестия, дают разнообразнейшие и красивейшие линии; кроме того, каждая частица его построек представляет богатый материал для созерцания и размышления. Это место было идеализировано Клодом в виде одинаковых круглых башен; они не могут дать никакой идеи, разве только идею о своей непригодности для жилья; они не могут возбудить никакого интереса, разве только трудно разрешимый вопрос, зачем вообще они были построены. Развалины храма не производят впечатления благодаря близости водяной мельницы и необъяснимы благодаря введению римских солдат. Движение мутных струй меланхолического Тибра и Анио производит само по себе впечатление, но это впечатление тотчас же исчезнет, если мы нарушим тишину течения, устроив плотины, если мы украсим их заброшенные воды красивым мостом, поместим на их пустынной поверхности лодки, сети и рыболовов.
Подобные пейзажи, я думаю, могут производить лишь одно действие на человеческое сердце: оно становится черствым и низким; такие пейзажи уничтожают в нем любовь ко всему простому, серьезному и чистому и приучают его к поддельному, к тому, что извращено в своем целом, неправильно и несовершенно в своих деталях. Пока подобные произведения будут выставляться как образцы для подражания, пейзажная живопись будет фабрикацией, ее творения – пустяками, а ее покровители – детьми.
39. Цель предлагаемого труда – показать крайнюю ложность тех фактов и принципов, несовершенство того материала, ошибочность той системы, которые лежат в основании подобных произведений; далее, доказать необходимость и благородное значение серьезного, правильного, любовного изучения природы, такой, как она есть, внушить отвращение ко всем изменениям и поправкам, которые внесли в нее люди. И похвала, которую я воздаю в первой части труда некоторым английским художникам, находит свое оправдание только в этих основаниях. Они, часто правда с недостаточными способностями, с нескладными усилиями, но всегда честно и хорошо воспринимали слово Божие и в облаках, и в листьях, и в волнах, удержали его[12 - Те чувства, которые проявляет Констэбль по отношению к своему искусству, могли бы вполне служить образцом для молодых студентов, если бы он не впадал несколько в другую крайность: ему не мешало бы принимать больше в расчет произведения своих сотоварищей, которые могли кое в чем исправить и направить его. Картинами следует пользоваться не как авторитетами, а как толкованием природы; совершено так же, как богословы являются для нас не авторитетами, а только толкователями Библии. Констэбль из страха проявить излишнее поклонение святым лишается часто поучительного в Святом Писании, так как, читая его, он не желает воспользоваться помощью других людей. С другой стороны, Джорж Бомон в анекдотах из жизни Констэбля сообщает печальный пример того унижения, в которое может впасть человеческий ум, когда он дозволяет человеческим творениям стать между собою и Творцом. Тот факт, что он рекомендует цвет старой кремонской скрипки в качестве господствующего всюду, далее шаблонный вопрос «где поместите вы ваше темное дерево?» – все это указывает на прострацию ума, одновременно столь смешную и столь печальную, что она может служить лучшим предостережением для студента галереи. Такое служение искусству есть самая низкая праздность, на которую только возможно затратить жизнь. Итак, двух опасных крайностей следует избегать: следует, так сказать, не забывать Писания, но и не презирать богословов; следует опасаться, с одной стороны рабства, а с другой – излишнего вольнодумства. Уловить и удержать середину в искусстве столь же трудно, как и в религии, но великая опасность заключается и в излишней педантической точности. Тому, кто смиренно идет за природой, редко грозит опасность упустить из виду искусство. Во всем, что есть истинно великого в человеческих творениях, он всегда найдет частицу того, что послужило им оригиналом; за это он будет относиться к ним с благодарностью, а иногда и с уважением следовать им.Но тот, кто избирает своим руководителем не природу, а искусство, может совершенно потерять из виду все, что искусство истолковывает, он может одновременно впасть в грех идолопоклонства и в униженное состояние рабства.] и смиренно старались передать миру ту чистоту впечатления, которая одна способна сделать искусство орудием добра, а художественные творения предметом благодарности.
40. Необходимо беззаветно любить то, чему учит природа, необходимо безусловно покоряться ее урокам. Но если мне часто придется настаивать на этом положении, то не менее насущная обязанность моя заключается в том, чтобы высказывать осуждение небрежной передаче случайных впечатлений, механическому копированию незначительных предметов, которые так часто можно заметить в нашей новой школе[13 - Я должен бы был особенно остановиться на этом недостатке (потому что он является чем-то фатальным) в своем трактате, но причина его скорее кроется в самой публике, чем в художнике и в потребностях публики столько же, сколько в ее желании. Такие картины, которые сами художники пожелали бы рисовать, не могли бы найти достаточно высокой оценки. При современном состоянии общества всегда легче найти десять покупателей на этюды, стоящие по десяти гиней, чем одного покупателя на картину во сто гиней. Я часто поражался и печалился, видя, как публика оставляла без всякой награды стремление художника возвыситься над фабрикацией, его усилие создать что-нибудь похожее на законченное произведение. На последней акварельной выставке находилась прекрасная картина Давида Кокса, идеальная в настоящем смысле этого слова. Лесное ущелье с несколькими овцами, пробирающимися сквозь густой папоротник, и даль вечернего неба, торжественно открывающаяся над темными массами леса. Она стоила всех его вещиц, висевших по стенам, вместе взятых. И тем не менее публика расхватала все эти мелкие вещицы, все эти пятна и брызги, уток, сорные травы, колосья, все, что было ловко сделано и незначительно. А настоящая картина, свидетельствовавшая о полном развитии ума художника, осталась его собственностью. Как могу я, и всякий другой человек совести, советовать после этого художнику, чтобы он стремился к чему-нибудь более высокому, чем то, что требует ловкости и четверти часа работы? Каттермоля, по моему мнению, сковали и погубили таким же точно образом. Он начал свою карьеру с законченных и тщательно обработанных картин; они, я думаю, никогда не оплачивались; теперь он развращает себя, тратя свой прекрасный талант на удовлетворение поверхностного вкуса публики, и идет по позорному пути прибыли и бесславия. Виноваты, таким образом, обе стороны: художник выставляет напоказ свою ловкость, создавая своей кистью недостойные фокусы, между тем настоящая отделка, требующая в десять раз больше труда и знания, представляется чем-то нелепым извращенному вкусу, который художник сам воспитал в своих покровителях; так заурядный актер своими завываниями и криками часто делает на вид дикими лучшие штрихи совершенного творения. Виновата, с другой стороны, и публика: для того, чтобы узнать и отличить разнообразные способности великого художника, она затрачивает менее труда, чем для оценки достоинства повара или искусства танцора.]. Легкий и случайный характер их замысла, бесцельное умножение неотделанных произведений, недостаточная определенность и возвышенность цели накладывают пятно на всю систему и поддерживают в критике печальное предубеждение, будто поля и холмы менее пригодны для изучения, чем галереи и частные студии. Не всякая случайная мысль, которая приходит в голову при виде дождя или при свете солнца, не всякий луч палящего солнца, не всякая мечта, которую навеет прохлада молодого леса, должны быть переданы миру в том виде, как они явились: непродуманные, незаконченные и забытые художником тотчас же после того, как он покинул свой мольберт. Только то может считаться картиной, в чем душа, – не сырой материал, а одушевляющее чувство, навеянное многими такими впечатлениями, сконцентрировано и передано с помощью хорошо постигнутых, тщательно выбранных форм. Этот материал следует идеализировать в истинном смысле этого слова; при этом не следует предоставлять беспредельного простора той способности унижать дела Бога, которую человек называет «воображением»; необходимо обнаружить тщательное знакомство с каждой частью, с каждой чертой и функцией предмета. Детали должны быть отделаны до последней линии сообразно с величием и простотой целого; разработаны с тем благородным усердием, которое концентрирует чрезмерное, дает стройность беспорядочной груде. Это усердие не следует тратить на всякий сюжет, который только на вид возбуждает доброе чувство, но лишь на избранные сюжеты, в которых природа дает рукам художника самые чистые источники. Они могут занимать скромное место, но должны быть совершенными в своем роде. Есть совершенство кустарника и хижины, как есть совершенство леса и дворца. Выбрав и передав нам придорожную траву или береговые камешки, великий художник будет ближе к идеалу, чем незначительный талант, загромождающий передний план картины грандиозными колоннами и воздвигающий невозможные горы до небес. Наконец, эти избранные сюжеты не должны служить один повторением другого; каждый должен основываться на новой идее и развивать совершенно особый ход мыслей. Таким образом творения, созданные художником в течение всей его жизни, должны составить как бы целую последовательную серию опытов, восходящих постепенно по лестнице творения от самых скромных видов до самых возвышенных; каждая картина является необходимым звеном в общей цепи, звеном, которое держится на предшествующем и ведет к следующему, a целое в своей привлекательной стройности делает более тесными узы, связующие природу с человеческим сердцем.
41. Отсутствие старания у новых художников должно встретить с моей стороны такое же осуждение, как и ложное направление старых. Ввиду этого моя задача распадается, естественно, на три части. Во-первых, я постараюсь с научной точностью исследовать и привести в систему факты природы, указывая, как в некоторых идеальных своих произведениях старые мастера пренебрегали самыми первыми основами своего искусства. Установив раз и навсегда эти основы, я во второй части своего труда объясню и проанализирую природу двух чувств: прекрасного и возвышенного, исследую особенности каждого рода пейзажа и, насколько сумею, раскрою ту истину, вечную, неизъяснимую и неистощимую, прелестью которой Всевышний отметил все предметы, если только воспринимать их такими, какими Он дает их нам. Наконец, я постараюсь проследить действие всего этого на сердце и ум человека, указать на нравственные функции и цели искусства, определить ту роль, которую оно играет в наших мыслях, то влияние, которое оно оказывает на нашу жизнь, постараюсь навязать художнику ответственность проповедника и привить общественному сознанию то уважение к этому званию, которое ему по справедливости принадлежит.
Несомненно, что первая часть этой задачи, которая в сущности и есть все, что я способен предложить читателю, представляется наименее интересной и наиболее трудной, особенно вследствие того, что ее необходимо выполнить, не ссылаясь на какие бы то ни было принципы красоты или влияния чувства. Она есть сухая, правильная классификация материальных вещей, а не изучение мыслей и страстей. Не обвиняйте меня поэтому в недостатке чувств, которые я умышленно подавил в себе. Рассмотрение высших свойств не должно прерывать работой молотка и эндиометра.
42. Далее я попросил бы не считать мои частые ссылки на мастеров итальянской школы просто традиционной манерой. В дальнейших страницах, я думаю, найдется немало доказательств того, что блеск имени не легко может увлечь меня; ввиду этого беззаветная любовь, которую я питаю к творениям великих представителей исторической и религиозной живописи, искрение и зиждется на хороших основаниях. И действительно каждый защищаемый мною принцип искусства я могу иллюстрировать произведениями людей, которые считаются мастерами из мастеров. И пока мое учение развивает в публике высшее понимание и любовь к творениям Буонарроти, Леонардо, Рафаэля, Тирана и Кальяри, публика может без всякого страха предоставить мне право наносить удары (которые покажутся мне необходимыми для доказательства моих принципов) таким художникам, как Гаспар Пуссен и Вендевельде.
43. Действительно, я думаю, что одинаковое число поводов заставляют защищать и Микеланджело против мелочности современников, и Тернера против традиционных условностей прежнего времени. В самом деле, хотя имена отцов религиозной живописи у всех на устах, наша вера в них напоминает веру масс в свою религию, именно эта вера номинальна и мертва. Тщетно молодых студентов заставляют написать известное количество копий с произведений Микеланджело, когда их хлеб зависит от количества тех блестящих безделушек, которые они могут нагромоздить на полотно. И я готов порицать современную систему исторической живописи с таким же рвением, с каким я хвалю нашу школу пейзажа, но тяжелая и неблагодарная задача – нападать на произведения живых художников, борющихся с неблагоприятными условиями всякого рода и особенно с ложными вкусами нации, которая смотрит на произведения искусства или с чувствительностью ребенка, или с тупостью мегатерия[14 - Допотопное животное.].
44. Меня обвиняли в резких и грубых выражениях по отношению к тем произведениям, к которым я отнесся отрицательно. Возможно, что я несколько заразился, читая критические статьи наших журналов, в которых только и есть что грубость. Но в моих словах, я думаю, достаточно много правды, чтобы извинить их резкость. При том никакой меч не пробьет тех слишком сильно укрепившихся мнений, которыми как броней защищены известные художники против атаки разума. Мой ответ на подобные упреки давно уже предвосхищен знаменитым софистом, который сказал при таких же условиях: ??? ?’????? ????????? ?? ?????????? ??? ???? ????? ???????? ????? ?? ????? ????????; ??????? ???, ??????? ????? ???? ????????? ? ?? ??????. (Что за человек тот, кто настолько не воспитан, что в серьезном сочинении употребляет дурные слова? Такой человек, Гиппий, думает только об истине.)
45. Более поразило меня другое обвинение, именно обвинение в необдуманной строгости по отношению к произведениям современных художников. В самом деле, во всех тех случаях, когда мне приходилось нападать на них, я убежден, что причинял себе гораздо сильнейшую боль, чем я вообще способен причинить. В некоторых случаях я удерживался от слова осуждения, которое считал необходимым для полного понимания своего труда, удерживался из опасения огорчить или обидеть людей, чувства и обстоятельства которых мне были неведомы. В действительности фальшивый на первый взгляд и преувеличенный тон всей книги в благоприятном для современного искусства смысле в значительной степени зависит именно от того, что я избегал порицаний, которые придали бы ей равновесие, и хранил молчание там, где не мог хвалить. Я предпочел бы лучше подождать еще год-два с достижением своих целей, чем достигнуть их, разбивая человеческие сердца и очаги. Поэтому я позволял себе высказывать неблагоприятные мнения только там, где популярность художника и симпатии к нему были так велики, что мнение одного человека не имело для него значения.
46. В заключение еще два слова. Вот уже несколько лет, как мы слышим по адресу произведений Тернера обвинение в недостатке их правдивости. На все указания относительно их силы, возвышенности, красоты раздается один ответ: «Они не похожи на природу». Я вступил на ту почву, на которой стоят мои оппоненты, и старался тщательным исследованием действительных фактов доказать, что Тернер следует природе и рисует с натуры больше, чем всякий другой. Я ждал, что это положение (основу всех моих будущих усилий) будут отчаянно оспаривать и что мне придется завоевывать каждую пядь своего пути. Ничуть не бывало. Мои противники сразу покинули поле битвы. Один (сотрудник Атенеума) не нашел лучшей опоры, чем заявление, что он «не одобряет натурального стиля в живописи. Если кому-нибудь хочется видеть природу, то пусть идет и смотрит на нее самое. Зачем брать ее из вторых рук, с полотна?» Другой (Блэквуд), еще более пораженный, прибег к еще более характерному способу защиты. «Нам интересно видеть вещи не такими, каковы они в действительности во всех отношениях, нам интересно, как ум художника может превратить их в то, чем они не бывают». Пусть читатель выбирает сам, преуспевать ли ему вместе с Блэквудом и его товарищами в рассмотрении того, как ум художника превращает вещи в то, чем они не бывают, или же вместе со мною читатель предпримет более сухой, но в целом, быть может, более производительный труд и определит вещи так, как они бывают в действительности.
Часть I. Общие принципы
Отдел I. Природа идей, передаваемых искусством
Глава I. Введение
Едва ли можно оспаривать, что все, бывшее в течение веков предметом человеческого поклонения, обладало в каком-нибудь в отношении истинным достоинством и притом в высокой степени.
§ 1. Мнение публики может служить критерием не раньше, как по истечении большого периода времени
Если это так, то причина этого явления лежит вовсе не в том, что ум и чувство большинства наиболее способны отличить действительно превосходное, а в том, все ошибочные мнения не прочны, и все неосновательные скоропереходящи. Мысли и чувства, заставляющие отрицать заслуженную славу и приписывать незаслуженную, не имеют достаточных оснований и силы для того, чтобы прочно удержаться в течение большого периода времени. Между тем мнения, составленные на правильных основаниях немногими, действительно компетентными судьями, прочны и мало-помалу переходят от одного человека к другому. Спускаясь ниже и захватывая все более широкие сферы, они уравнивают все и с безусловной авторитетностью царят даже там, где не могут понять. От этой победы вечного над непрочным зависит репутация всего высшего в искусстве и литературе. Для всего великого в том и другом было бы оскорбительно предположение, что оно непосредственно обращается к незначительным и некультивированным силам. Мысль, что всякого человека может правильно оценить только равный или высший, слишком проста и ясна. Низший может переоценить его в своем энтузиазме или, что случается чаще, унизить его в своем невежестве, но он не может составить хорошо обоснованной и верной оценки. Я не стану приводить доказательств этой мысли, так как они потребовали бы слишком много места. Замечу, что нет такого процесса, посредством которого мысли, ошибочные каждая в отдельности, стали бы верны соединившись в массу[15 - Мнение большинства бывает правильно лишь в одном случае, когда каждый индивидуум, как можно предположить, скорее должен быть справедливым, чем несправедливым, например, в суде присяжных. Но где больше вероятности, что отдельные лица скорее ошибаются, чем судят верно, там верно мнение меньшинства. Так именно бывает в искусстве.]. Положим я, рассматривая какую-нибудь картину в академии, слышу как двадцать человек один за другим выражают свой восторг пред какой-нибудь плохой вещью, продуктом ремесла или подражания, за подкладку плаща или атласные туфли. Было бы нелепо воображать, что вместе они выразят осуждение тому, чему покланялись каждый в отдельности. Положим далее, что они равнодушно прошли мимо создания благороднейшего творчества, совершеннейшей истины только потому, что в нем нет фокусов кисти и кривлянья. Было бы нелепо думать, что они коллективно оценят то, что презирают каждый в отдельности; никакое время, никакое сравнение идей не заставить чувства и знание таких судей прийти к правильному заключению, не побудить их проникнуться уважением к действительно высокому в искусстве. Вопрос решается не ими, а для них; решается сначала немногими: чем выше достоинства произведения, тем меньше число оценивших его. Решение этих немногих передается людям, стоящим ступенью ниже в духовном отношении, а эти передают в еще более широкие и низшие сферы. Каждый класс сознает превосходство того, который стоить над ним и поэтому с уважением относится к его решению. Таким образом с течением времени правильное и вечное мнение сообщается всем, становится для всех делом веры, при чем оно тем прочнее укрепляется, чем более забываются его основания[16 - Впрочем, существуют тысячи влияющих условий, благодаря которым процесс этот не всегда неизбежен. Иногда он совершается быстро и верно, иногда он невозможен. Он не является неизбежным в ораторском искусстве и драме, потому что толпа – ближайший судья в этих искусствах, цель которых трогать толпу (хотя прекрасная драма должна иметь многое другое помимо того, что драматично по существу, но толпа понимает только драматический элемент в драме). Далее, этот процесс может не иметь места, когда, обладая высшими свойствами, произведение обращается вместе с тем к общим страстям, к тем способностям и чувствам, которые общи людям и животным. Тогда популярность является столь же быстрой, сколько основательной; искренно и чистосердечно содействует ей в каждый ум, но в каждом она основывается на достоинствах различного характера. Так случилось со многими лучшими творениями литературы. Возьмем, например, Дон Кихота. Самый низший ум отыщет для себя постоянное грубое развлечение в несчастьях рыцаря и беспрерывное удовольствие в симпатии к его оруженосцу. Человек среднего ума поймет сатирическое значение и силу книги, оценит ее остроумие, изящество и правдивость. Но только возвышенный, особый ум откроет в ней полную нравственную красоту любви и правды, которая является постоянным спутником всех самых слабых сторон и заблуждений героя. Поднявшись над грубыми приключениями и плоскими шутками, такой ум проникнет сквозь ржавые латы, в безумно блуждающем взоре он уловит выражение силы, самопожертвования и всечеловеческой любви. Так же обстоит дело с творениями Скотта и Байрона; их популярность распространилась мгновенно и была вполне заслужена, потому что они обращаются к общечеловеческим страстям и вместе с тем выражают мысли, доступные только немногим. Но большинство их поклонников восторгаются самыми слабыми частями их творений подобно тому, как большинство паствы восторгается любимым проповедником за самые худшие места его речи.Процесс бывает, далее, быстрым и прочным тогда, когда в произведении хотя и немного такого, что может увлечь сразу массу, но зато много таких сторон, которые могут доставить ей наслаждение при условии, что ее внимание авторитетно направят на них. Такова репутация Шекспира. Ни один заурядный ум не может понять, в чем его бесспорное превосходство. Но в его произведениях много забавного, много приводящего в содрогание, волнующего, много такого, что драматично в точном смысле слова, и все это не более, чем во всякой другой драме. При первом своем появлении произведения Шекспира были встречены средним успехом, как произведения с обычными достоинствами. Но когда было постановлено с высоты решение и круг расширился, публика добросовестно подхватила клич восторга. Дайте ей кинжалы, привидения, шутов и королей – при этих реальных и определенных источниках удовольствия она примет на себя добавочный труд заучить полдюжины цитат, не понимая их, и признает превосходство Шекспира без дальнейших колебаний. Едва ли непонимание среди публики всего действительно великого и ценного в Шекспире можно доказать лучше, чем сославшись на всеобщее восхищение Гамлетом в исполнении Маклиза.Процесс невозможен, если в произведении нет ничего привлекательного и есть что-нибудь отталкивающее для толпы. Ни их истинные достоинства, ни авторитет критиков – ничего не в состоянии сделать поэмы Вордсворта и Джорджа Герберта популярными в том смысле, в каком популярен Скотт и Байрон, потому что читать тех для толпы – труд, а не удовольствие. Кроме того, в них есть места, которые для таких читателей могут показаться только безвкусными или смешными. Большинство творений высшего искусства, например, произведения Рафаэля, Микеланджело и Да-Винчи находятся в таком положении как Шекспир. Все шаблонное и слабое в этих превосходных творениях принимается за сущность их. Причина та, что невоспитанное воображение поддерживает впечатление (в самом деле мы готовы вообразить, что чувствуем тогда, когда чувство в действительности является делом гордости или совестливости), а аффектация и претенциозность усиливают шум восторга, если не достоинство его. Джотто, Орканья, Анджелико, Перуджино, подобно Джорджу Герберту, существуют для немногих. Вильки становится, подобно Скотту, популярным, так как затрагивает общечеловеческие страсти и выражает всем понятные истины.].
Но когда процесс совершился и произведение освящено временем в умах человеческих, тогда уже не могут какое-нибудь новое произведение равного достоинства сравнивать беспристрастно с этим произведением.
§ 2. И потому оно упорно, раз образовалось
Исключение составляют только умы воспитанные и способные оценить достоинства, и при том достаточно сильные для того, чтобы сбросить с себя тяжесть предубеждения и традиции, которая неизменно тянет к старым фаворитам. Гораздо легче, говорить Берри, повторить известные достоинства Фидия, чем исследовать достоинства Агазия. В живописи необходимо много технических и практических знаний для правильного суждения о ней; поэтому здесь единственно компетентными судьями являются те, которые сами подлежать суду и которые не могут вследствие этого высказывать своего мнения: в виду всего этого должны пройти столетия, прежде чем станет возможным произвести справедливое сравнение между двумя художниками различных эпох: превосходство старинных художников сквозь долгий промежуток времени оказывает тиранническое, даже гибельное влияние на умы публики, и тех, для кого, при верном понимании, оно должно было бы служить руководителем и образцом. Ни в одном европейском городе, где интересуются искусством, горизонты его не являются столь безнадежными, a стремления – столь безрезультатными, как в Риме.
§ 3. Причины, побудившие автора в отдельных случаях восставать против него
Причина этого явления заключается в том, что среди студентов авторитет их предшественников в искусстве является безапелляционным, и тупой копировальщик изучает Рафаэля, а не то, что изучал сам Рафаэль. Поэтому на каждом, кто в состоянии указать определенно какие бы то ни было элементы превосходства в современном искусстве и чье положение при этом освобождает его от неприятности, на каждом таком человеке лежит священный долг. Именно он обязан вступить в борьбу без колебания, какие бы порицания ни падали на него, благодаря предубеждению даже со стороны самых искренних умов, благодаря еще более злобному противодействию со стороны тех, кто надеется поддержать свою собственную репутацию критика только поддержкой освященных заслуг: их можно восхвалять, без неудобной необходимости указывать причины. Я убежден, что есть известные элементы превосходства у современных художников, особенно у некоторых, которые еще не вполне поняты; люди же, оценившие их, едва ли находятся в таком положении, чтобы заявить о своем мнении. Ввиду этого моя цель – произвести тщательное сравнение между великими произведениями древних и новых пейзажистов, насколько возможно – рассеять тот обманчивый, воображаемый свет, сквозь который мы привыкли смотреть на прежние творения; и показать истинное соотношение между ними и нашими собственными, независимо от того, благоприятно ли оно для них или нет. Я знаю, что этого нельзя делать легко и опрометчиво, что каждому, кто берется за эту задачу, необходимо, с продолжительными сомнениями и строгими испытаниями, исследовать всякое мнение, противоречащее священному вердикту времени, и выставлять только то, что, по его по крайней мере убеждению, зиждется на более прочной основе, чем чувство или вкус.
§ 4. Но только в тех пунктах, которые можно доказать
На следующих страницах я выставлял только то, что мог сопроводить доказательствами. Эти последние могут быть правильны или ложны, совершенны или условны, но с ними можно бороться только на их собственной почве; их никоим образом нельзя ниспровергнуть или поразить одной авторитетностью великих имен. Впрочем, даже при этих условиях я едва ли решился бы говорить так смело, как я это сделал. Но я твердо убежден, что мы не должны соединять вместе исторических живописцев XV и пейзажистов XVII веков под общим именем «старые мастера», словно существует что-нибудь сходное в тех путях, которыми шла каждая из этих двух групп. Я убежден, что принципы их работы были совершенно противоположны; пейзажистов прославили только за то, что они в отношении механики и техники обнаружили некоторое сходство с манерой знаменитейших исторических живописцев, но принципы, которыми руководились эти последние в замысле и в композиции, пейзажисты перевернули вверх дном. Ход занятий, который привел меня к почтительному преклонению пред Микеланджело и Да Винчи, отвратил меня мало-помалу от Клода и Гаспара. Я не могу одновременно питать уважение к сильному и мелкому, к истинам высшего знания и к манерности недисциплинированного воображения. Там, где я впоследствии буду говорить о старых мастерах, как о чем-то целом, мои слова не будут относиться ни к одному из исторических живописцев, к которым я питаю полное уважение; оно справедливо в своей основе, хотя, быть может преувеличено в степени. Далее, если я отдельно не упоминаю о Никола Пуссене, то и он не входит в число осуждаемых «старых мастеров». Его пейзажи имеют особый возвышенный характер, вследствие чего их необходимо рассматривать отдельно от всех других. Говоря вообще о старейших мастерах, я имею в виду только Клода, Гаспара, Пуссена, Сальватора Роза, Кюипа. Бергема, Бота, Рюисдаля, Гоббима, Теньера (в его пейзажах), Поттера, Каналетто и разных Ванов, разных Беков, а в особенности злят меня те, кто писал пасквили на море.
Я обязан, конечно, в начале своей работы изложить вкратце те принципы, которые, по моему мнению, должны лежать в основе всякой правильной художественной критики. Эти вступительные главы следует прочесть особенно внимательно, потому что всякая критика бесплодна, когда пределы и основания ее имеют двусмысленный характер. Обычный язык знатоков и критиков, даже допустив, что они сами понимают себя, для других представляется невнятным жаргоном благодаря их привычке употреблять технические термины, при помощи которых они хотят сказать все, а не говорят ничего.
В применении этих принципов я старался сохранить беспристрастие. Но если чувства и симпатии, которые я питаю к некоторым произведениям нового искусства, прорывались иногда там, где не следовало, то мне можно простить их.
§ 5. Пристрастие автора к новым творениям извинительно
Они служат противовесом тому благоговению, с которым читатель относится к творениям старых мастеров; в его уме эти последние всегда синонимы всего великого и совершенного. Я не говорю, что это уважение несправедливо, что мы не должны прислушиваться к голосу веков. Но не следует забывать, что если слава – удел мертвых, то благодарность возможна только по отношению к живым. Кто хоть однажды стоял над могилами и думал о невозвратном прошлом, сокрытом в них навеки, кто хоть раз почувствовал, что безумная любовь и острая скорбь сожаления бессильны доставить один миг наслаждения умолкшему сердцу, бессильны вознаградить успокоившийся дух за один час былой жестокости, тот едва ли примет на себя в будущем долг, который можно уплатить только бездыханному праху. Но урок, который люди могут воспринять, как отдельные индивидумы, они не в состоянии усвоить как нация. Они постоянно видели, как сходят в могилу славнейшие из них; они воображали, что достаточно увить гирляндой венков их могильные камни, и не возлагали венков на их чело; они воздавали пеплу те почести, в которых отказывали живому духу. Пусть же не сердятся, если посреди шума и сутолки повседневной жизни их пригласят прислушаться к немногим голосам, взглянуть на немногие светочи. Бог вложил в них звуки и свет, чтобы они восхищали людей и руководили ими; пусть люди не ждут того момента, когда звуки замолкнут и светочи угаснут для того, чтобы знакомиться с ними.
Глава II. Определение величия в искусстве
В пятнадцатой лекции Рейнольдса мимоходом упоминается о различии между двумя видами достоинств в художнике: одни принадлежат художнику как таковому, другие он разделяет со всеми людьми ума, это именно те главные и высокие силы, которые обнаруживаются и выражаются в искусстве, а не подчиняют его себе.
26. Таким образом, ни детали, к которым стремятся ради них самих, ни кирпичи, которые можно перечислить на картинах голландских мастеров, ни сосчитанные волосы, ни с педантической точностью сделанные изгибы Деннера не составляют истинного искусства; напротив, это самый низкий, презреннейший вид искусства; высшее искусство представляют те детали, при которых имеется в виду великая цель, к изображению которых стремятся ради высшей красоты, существующей в самых незначительных, в самых мельчайших творениях Бога, трактуемой мужественно, свободно, оставляющей неизгладимое впечатление. Трактуя ничтожнейшие черточки, художник может проявить столько же величия духа, столько же благородства в манере, как и тогда, когда он схватывает самые крупные. Это величие заключается, главным образом, в умении уловить родовой характер предмета со всеми теми великими элементами красоты, которые являются общими для него и для высших форм существования[8 - В следующих частях своего труда я покажу, что принципы универсальной красоты общи всем творениям Бога, и сообразно с тем, в какой доле она находится в предметах, одна форма бывает выше или ниже другой.]; при этом совершенно устраняются низшие элементы красоты, которые случайно принадлежат предмету, но не характерны для него в родовом отношении. Я не могу указать лучшего примера, чем изображение цветов в упомянутой выше картине Тициана. В то время, как схвачена каждая тычинка розы, – так как это необходимо, чтобы ярко отметить цветок; в то время, как изгибы и крупные черты листьев переданы с изысканной верностью, на картине нет следов второстепенной ткани, моху, налета, влаги, нет и других случайных признаков, капель росы, насекомых, каких бы то ни было украшений, ничего, помимо простых форм и оттенков цветов, и самые эти оттенки упрощены и переданы свободно. Например, аквилегия имеет в действительности сероватый, какой-то неопределенный тон цвета и никогда, вероятно, не достигает той яркой чистоты голубого цвета, которой наделил свой цветок Тициан. Но художник не стремился передать специальный цвет отдельного цветка. Он схватывает тип и передает его с величайшей чистотой и простотой, которая только доступна краске.
27. При соблюдении этих законов для художников становится не только возможным, но и обязательным, так сказать, священным долгом – изучение мельчайших деталей с неослабным вниманием. Каждая полевая трава и цветок заключают в себе родовую, отличающую их от других, совершенную красоту, имеют свое обиталище, свое специальное выражение, свои функции. Высшее искусство – то, которое улавливает этот родовой характер, развивает и освещает его; оно назначает ему его место в пейзаже; оно, наконец, при его помощи возвышает и усиливает великое впечатление, которое картина, по замыслу, должна произвести. И такое родовое воспроизведение необходимо не только по отношению к травам и цветам. Каждый вид скалы, каждый род земли, каждую форму облака следует изучать столь же прилежно и передавать с такой же точностью. И мы, таким образом, неизбежно придем к заключению, которое прямо противоположно постоянно повторяемому догмату критиков, болтающих, наподобие попугаев, будто черты природы следует «обобщать». Несомненный и грубо абсурдный характер этого догмата был бы обнаружен уже давно, если бы ее лживость не представлялась удобным прикрытием для лености, удобной маской для бездарности. Обобщать! Как будто возможно обобщить вещи, по существу различные. Я приведу характерный образчик этого критического жаргона, принадлежащий перу одного из критиков моей книги и помещенный в номере Athenaeum’a от 10 февраля настоящего года (т. е. 1898). «Он (т. е. автор) желал бы, чтобы пейзажисты – геологи, дендрологи, метеорологи и конечно энтомологи, ихтиологи, наконец всех видов художники-физиологи, – чтобы все это соединилось в одном лице. Горе истинно поэтическому искусству среди всех этих ученных фиванцев! Нет, пейзажист не должен доводить себя до снимания портретов с бездушных существ, подобно деннеровским портретным снимкам с земной поверхности… Древние пейзажисты усвоили более свободную, более глубокую и высшую точку зрения на свое искусство: они пренебрегали отдельными, частными черточками и передавали только общие, главные черты. Таким образом, им удавалось передать целое, достигнуть силы впечатления, гармоничного единства и простого эффекта, элементов величия и красоты».
28. На всякую подобную критику (я отметил ее только потому, что она выражает мысли, которые могут заразить некоторых людей чувствующих и мыслящих) ответ очень прост и ясен. Совершенно справедливо, что нельзя обобщить гранит и сланец, как нельзя обобщить человека и корову. Животное должно быть или тем, или другим; оно не может быть животным вообще, иначе оно вовсе перестает быть животным. Так же и скала должна быть той или иной; она не может быть скалой вообще, или она – не скала. Предположим, что на переднем плане картины нарисовано животное, относительно которого нельзя решить, пони ли оно или поросенок. Тогда критик Athenaeum’a, может быть, объявил бы, что это творение является «обобщением» пони и поросенка, a следовательно, высоким образцом «гармоничного единства и простого эффекта». Но я бы сказал, что это просто плохой рисунок. И когда я не могу узнать, представляют ли предметы на переднем плане картин Сальватора гранит, или сланец, или туф, – я утверждаю, что в них нет гармонического единства, ни простого эффекта, а есть простая уродливость. Здесь нет никакого величия, нет никакой красоты; ничего, кроме расстройства, беспорядка, разрушения нельзя достигнуть, совершая насилие над естественными отличительными признаками. Смешивая элементы животного царства, можно только испортить их; смешивая же элементы неорганического мира, можно лишь погубить их, погубить их совершенно. Мы можем, если хотим, создать центавров, но они все-таки должны быть наполовину людьми, наполовину лошадьми. Таким же образом, если пейзажист пожелает, он может изобразить нам скалу наполовину гранитную, наполовину сланцевую, но не такую, которая является одновременно и гранитной и сланцовой или которую можно принять или за ту или за другую. Каждая попытка воспроизвести какую бы то ни было скалу сведется к тому, что не получится никакой скалы.
29. Правда, отличительные свойства скал, деревьев и облаков менее бросаются в глаза и наблюдаются с меньшим постоянством, чем свойства животного мира. Но трудность наблюдения не оправдывает его небрежности. Она свидетельствует только об одном, именно о том, что мир до сих пор не знал ни одной совершенной школы пейзажной живописи. В самом деле, подобно тому, как высшая историческая живопись основана на совершенном знакомстве с жизнью человеческой формы и человеческого духа, так и высшая пейзажная живопись должна быть основана на совершенном знании формы, функций и системы каждой органической или обладающей определенной структурой жизни, которую эта живопись воспроизводит. Эта аналогия должна быть очевидна для всякого человека, способного мыслить. Всякий принцип, стоящий в противоречии с ней, или ошибочен, или ошибочно понят. Например, критик Athenaeum’a называет правильную передачу родовых отличий «портретированием наподобие Деннера». Если бы он нашел какие-нибудь признаки Деннера в том, что я выставил в качестве высшего образца пейзажной живописи, в недавних произведениях Тернера, тогда от души приветствую его открытие и его теорию. Но нет, портретная живопись в роде деннеровской была бы попыткой нарисовать отдельно кристаллы кварца и полевого шпата в граните, передать отдельные слои слюды в слюдистом сланце. Эта попытка столь же далека от того, что я считаю великим искусством (от свободной передачи родовых черт формы и в том и в другом камне), как новейшая скульптура кружев и петель далека от эльджинского мрамора. Мартин сделал попытку такого в деннеровском вкусе портретного изображения морской пены чуть ли не на целой десятине полотна. Успешно ли – это, я думаю, раз и навсегда решили критики его прошлогодней картины «Канут».
30. Из того, что упомянутое выше знание необходимо для художника, отнюдь не следует, что оно составляет художника, или что такое знание имеет цену само по себе без отношения к высшим целям. Всякого знания можно искать по низким побуждениям и ради низких целей; и лицо, приобревшее его таким образом, обладает низким знанием, между тем, буквально, то же самое знание в уме другого человека является средством достигнуть высшего величия и доставить величайшее блаженство. В этом и заключается различие между знанием растений, присущим ботанику, и великим знанием их, которым обладает поэт или художник. Один замечает их отличительные признаки с целью заполнить свой гербариум, другой – чтобы сделать их проводниками выражения и чувства. Один считает тычинки, ко всему прикрепляет имя и доволен. Другой наблюдает каждую черту цвета и формы растения; рассматривая каждое его свойство как элемент выражения, он извлекает из его линий грацию или энергию, незыблемость или спокойствие, отмечает слабость или силу, ясность или трепетание его оттенков; он наблюдает его местные свойства, его любовь к известным местам или боязнь таковых, питательную или разрушающую силу специальных влияний; он ассоциирует в своем уме все элементы тех условий, в которых живет растение, все вспомогательные условия, необходимые, чтобы поддержать его. Цветок для художника – живое существо; на листьях цветка написана его история, в движениях – чувствуется дыхание страсти. В картине этот цветок уже не место для наложения красок, не полоска света, лишенная мысли. Это – голос, идущий из земли, новый аккорд в музыке духа, необходимая нота в гармонии произведения, способствующая его нежности и величию, его красоте столько же, сколько его правдивости.
31. Изображение цветов у Шекспира и Шелли представляет многочисленные примеры замечательного искусства в обращении с деталями. Правда, у художника нет тех же средств для выражения мыслей, с которыми соединяются символы. Он в значительной степени зависит от знаний и чувств зрителя. Но, уничтожив детали, художник не сделает свое изображение более понятным невежде, а между тем оно потеряет интерес и для понимающего. Для неясно пишущего не может служить оправданием то соображение, что некоторые люди не могли бы прочесть написанного ясно.
32. Повторяю, обобщение, как обыкновенно понимают это слово, есть акт ума грубого, не способного и неразмышляющего. Видеть во всех горах только однородные груды земли, в скалах – однородные соединения твердых масс, в деревьях – однородные собрания листьев – не значит обладать высокими чувствами и широким умственным кругозором. Чем больше мы знаем и чувствуем, тем больше различаем, и различаем для того, чтобы овладеть более совершенным единством. В уме крестьянина камни укладываются так же, как они лежат на его полях: один похож на другой, и нет никакой связи между всеми ими. Геолог различает их и, различая, соединяет. Каждый камень отличается от своего соседа, но самым различием своим становится к нему в известное отношение; они не служат один повторением другого; они – части системы; каждый из них предполагает существование остальных и связан с ними. То обобщение правильно, истинно и благородно, которое основано на знании отличительных признаков и на изучении взаимного отношения отдельных видов. То обобщение неправильно, ложно и низко, которое основано на незнании тех и смешении других. В этом случае получается не обобщение, а путаница и хаос. Так можно обобщить только разбитую армию в виде бессилия, в котором ничего нельзя распознать, обобщить элементы трупа в виде праха.
Не останавливаясь подробнее на догматах художественных школ, перейдем к тем заключениям, к которым приводит нас наблюдение над законами природы.
33. Я только что заметил, что каждый род скал, земли, облаков художник должен знать столь же точно, как геолог и метеоролог[9 - Не значит ли это, спросят, быть может, меня, требовать от него больше, чем может вместить человеческая жизнь? Нисколько. Ведь требуется знание только внешних свойств. А если бы даже, что еще более желательно, требовались основательные научные знания, то время, которое наши художники тратят на увеличение незрелых этюдов или на довершение своих незрелых произведений, было бы достаточно, чтобы стать специалистом в любой науке, созданной современными исследованиями, и постигнуть всякую форму, проявляющуюся в природе. Если бы Мартин время, потраченное им на разные пустячки в его «Кануте», провел в прогулках по морскому берегу, то он приобрел бы много знаний; их было бы достаточно, чтобы создать несколькими взмахами картину, которая вечно трогала бы сердца человеческие, подобно пению морских волн.]. И это не с целью уловить характер самих этих мелких подробностей, а с целью постигнуть тот простой, серьезный и постоянный характер, который проявляется в общем эффекте каждого вида природы. Всякая геологическая формация имеет особенности, принадлежащие специально ей: известные линии излома, в результате чего являются определенные формы скал и земли; известные растительные продукты, среди которых вырабатываются новые видоизменения в зависимости от климата и высоты. В зависимости от этих различных условий происходит бесконечное разнообразие разрядов пейзажа, из которых каждый при различии отдельных черт обнаруживает совершенную гармонию и обладает идеальной красотой, присущей специально ему; эта красота не отличается только теми особенностями, которые приобретает внешняя форма человека благодаря климатическим изменениям; эта красота создается родовыми отличительными признаками, наиболее заметными и существенными; отдельные классы этих признаков нельзя обобщать и смешивать по своему желанию. Плоская поверхность болот и пышные луга третьей формации, округленные холмы и скудные пастбища меловой почвы, четырехугольные лощины и трещины небольших гор известковой породы, остроконечные вершины и зубчатые кручи первобытных гор не имеют ничего общего между собой. В них все различно, все не соединимо. Самая атмосфера, окружающая их, резко отличается; различны облака; различны самые особенности бури и солнечного сияния; различны цветы, животные, леса. Назначение каждого пейзажа, – а их разряды, повторяю, бесконечны по числу, в зависимости не только от скал различной породы, но и от частных условий, созданных наслоениями и позднейшими образованиями, в зависимости от бесчисленных видоизменений климата, положения, человеческого вмешательства, – назначение каждого пейзажа, говорю я, преподать особый урок, доставить специальное наслаждение. И говорить о соединении всех производимых ими впечатлений в какой-то идеальный ландшафт – такая же бессмыслица, как говорить о соединении всех родов питания в идеальную пищу, о смешении всех музыкальных мотивов в один идеальный, или о слиянии всех мыслей в одну идеальную идею.
34. Впрочем, сочетание различного рода пейзажей возможно, хотя невозможно их обобщение. Сама природа постоянно устраивает неожиданные соединения элементов, выражающих совершенно различное. Бесплодные скалы через лесистые выступы ниспускаются к равнине. Сквозь зеленые тени гирлянд винограда проглядывает бледный свет вечных снегов.
Художнику, таким образом, представляется на выбор: или выделить особенный характер пейзажа какого-нибудь отдельного разряда, или соединить вместе множество различных элементов, из которых каждый, в силу контраста, может усилить красоту другого.
Я думаю, что простой пейзаж, лишенный сложных соединений, если только при его обработке обращено надлежащее внимание на идеальную красоту заключающихся в нем черт, всегда более мощно трогает сердце. Контраст усиливает блеск красоты, но разрушает ее действие. Он увеличивает ее привлекательность, но уменьшает ее силу. Впоследствии мне еще много придется говорить по этому вопросу. В настоящее время я хочу только отметить то обстоятельство, что искренний художник, создающий на основании широких и простых принципов изображение цельного гармоничного пейзажа, стремится в искусстве к такой же высокой цели, как и самодовольный студент, который со «своим пятиминутным появлением повсюду» извлекает из разных концов земли материал для своей иллюстрированной газеты[10 - См. Don Juan X, LXXVI.]; если произведение последнего не регулируется строгой мыслью и отдельные части этого произведения не связаны натуральными звеньями, то в своей пестроте оно имеет меньше ценности, чем этюд, изображающий сорную траву при дороге.
35. Рискуя наскучить вам повторением общеизвестного, я решаюсь обратиться к общим принципам исторической живописи для того, чтобы указать вам применение их к пейзажу. Самый неопытный новичок знает, что каждая фигура, которая необходима в его картине, является для нее лишним бременем, и каждая фигура, которая не согласуется с целым, нарушает его. «Кто не собирает вместе со мною, тот расточает» – таков есть или должен быть принцип, руководящий замыслом художника; сила и величие его произведения будут в точности соответствовать единству чувства, которое обнаруживается в отдельных частях, а также естественному характеру и простоте их взаимных отношений.
Все сказанное вполне применимо к предметам неодушевленной природы. Цельность впечатления разрушается обилием противоречивых явлений и соединение, в котором нет гармонии, губит стройность. Тот, кто старается соединить простоту с пышностью, перейти от уединения к празднеству и сопоставить меланхолию с веселием, тот неизбежно в результате произведет неопределенную пустоту. Каждый вид имеет свой специальный смысл. Хотя контраст может иногда усилить ощущение, сделать его более интенсивным, но он все-таки должен играть второстепенную роль; противопоставляемое не должно быть равносильно с главным. Внесение всяких новых и разнообразных ощущений ослабляет силу того впечатления, которое уже произведено, a смешение всех эмоций должно повести в результате к равнодушию, как смешение всех цветов дает белый.
36. Позвольте мне приложить эти простые правила к оценке одного из «идеальных» пейзажей Клода, известного у итальянцев под именем Il Mulino (мельница).
Передний план представляет красивый и превосходно исполненный вид леса; на берегу ручья танцуют крестьяне; в руках настоящего мастера этого сюжета было бы совершенно достаточно для того, чтобы нарисовать законченную картину, оставляющую впечатление. Между тем на другом берегу ручья перед нами картина пастушеской жизни. Изображены человек и несколько быков и коз, головой вперед устремляющиеся в воду, словно ноги их внезапно поражены параличом. Уже эта группа является излишней. Пастуху вовсе не было нужды подводить свое стадо так близко к танцующим, a танцующие, наверное, испугали бы скот. Но когда мы долее всматриваемся в картину, наше чувство получает внезапный и сильный толчок благодаря неожиданному появлению солдат среди пастушеской, музыкальной идиллии. Римские солдаты верхом на лошадях; впереди пеший проводник явно побуждает их произвести немедленную и решительную атаку на музыкантов. За солдатами – круглый храм, очень плохой. Возле него, у самых стен, красивая водяная мельница на полном ходу. Около мельницы широкая река с плотиной. Плотина устроена не для мельницы (эта последняя получает воду с холмов посредством желоба, идущего над храмом), но она особенно некрасива и однообразна в линии падения, и вода внизу образует застывший пруд, в котором ловят рыбу с лодок. Берега этой реки по своим очертаниям похожи на геологические формации в окрестностях Лондона, составившиеся из черепков и устричных раковин. В невозможном расстоянии от мельницы находится город, состоящий из двадцати пяти круглых башен и одной пирамиды. За городом – красивый мост, за мостом – часть Кампаньи с обломками водопровода; за Кампаньей – цепь Альп; налево – тиволийские водопады.
Это, по-моему, прекрасный образчик того что обыкновенно называлось «идеальным» пейзажем, т. е. группа этюдов с натуры, которые схвачены наудачу и обладают такими противоположными характерами, что один уничтожает эффект другого; кроме того, они настолько неестественны и несогласованы, что производят вполне впечатление чего-то невозможного. Произведем анализ отдельных предметов в этом идеальном произведении Клода.
37. Может быть, на всей земле нет вида, производящего более сильное впечатление, чем уединенная местность римской Кампаньи при вечернем освещении. Пусть читатель на минуту мысленно удалится от шума и волнения живого мира и перенесется в эту дикую и пустынную равнину. Земля поддается и крошится под его ногами; никогда не ступал он так легко; почва под ним белая, рыхлая, прогнившая, подобно пыльным остаткам человеческих костей[11 - Плодородная почва Кампаньи образовалась, главным образом, из разложившейся лавы; под ней лежит пласт белой пемзы, в точности напоминающий остатки костей.]. Длинная переплетающаяся трава колеблется и волнуется слабо под дуновением вечернего ветерка, и тени, падающие при ее движении, дрожат и трепещут, словно лихорадочным трепетом, вдоль старых развалин, озаренных солнечным светом. Холмы рыхлой земли, словно волны, возвышаются вокруг него, словно мертвецы в своем сне затеяли беспокойную возню и приподнимают землю. А разбросанные в беспорядке глыбы черного камня, отесанные в правильную четырехугольную форму, жалкие руины некогда пышных, а теперь исчезнувших зданий, точно налегли на мертвых и крепко сдавили их там внизу. Ползучий, пурпуровый ядовитый туман низко стелется над степью, окутывая призрачные остатки массивных развалин, на их расщелинах играет красноватый свет, словно умирающее пламя оскверненных алтарей. Голубой хребет Албанской горы резко выделяется на пышном зеленом, ясном и спокойном фоне. Темные облака, словно сторожевые башни, неизменно сторожат Апеннинские вершины. От равнины к горам глыбы разбитого водопровода, одна за другою тают во мраке, словно бесчисленные тени похоронных плакальщиков, выходящих из могилы нации.
38. Произведем теперь вместе с Клодом некоторые «идеальные» изменения в этом пейзаже. Во-первых, превратим многочисленный Апеннинские стремнины в четыре сахарные головы. Во-вторых, уничтожим Албанскую гору и вместо нее поместим огромную мусорную кучу. Далее сотрем с лица земли большую часть водопроводов и оставим только одну или две арки с целью уничтожить неприятный вид однообразия, который получается благодаря их бесконечной длине. Вместо пурпурного тумана и заходящего солнца создадим светло-голубое небо с круглыми белыми облаками. Наконец, избавимся от неприятных развалин на переднем плане, посадим здесь несколько красивых деревьев; пошлем за скрипачами, устроим танцы и пикник.
Нетрудно видеть, что такого именно рода улучшение произвел Клод в том материале, который находился в его распоряжении. Откосы города Рима, спускающиеся к пирамиде Кая Цестия, дают разнообразнейшие и красивейшие линии; кроме того, каждая частица его построек представляет богатый материал для созерцания и размышления. Это место было идеализировано Клодом в виде одинаковых круглых башен; они не могут дать никакой идеи, разве только идею о своей непригодности для жилья; они не могут возбудить никакого интереса, разве только трудно разрешимый вопрос, зачем вообще они были построены. Развалины храма не производят впечатления благодаря близости водяной мельницы и необъяснимы благодаря введению римских солдат. Движение мутных струй меланхолического Тибра и Анио производит само по себе впечатление, но это впечатление тотчас же исчезнет, если мы нарушим тишину течения, устроив плотины, если мы украсим их заброшенные воды красивым мостом, поместим на их пустынной поверхности лодки, сети и рыболовов.
Подобные пейзажи, я думаю, могут производить лишь одно действие на человеческое сердце: оно становится черствым и низким; такие пейзажи уничтожают в нем любовь ко всему простому, серьезному и чистому и приучают его к поддельному, к тому, что извращено в своем целом, неправильно и несовершенно в своих деталях. Пока подобные произведения будут выставляться как образцы для подражания, пейзажная живопись будет фабрикацией, ее творения – пустяками, а ее покровители – детьми.
39. Цель предлагаемого труда – показать крайнюю ложность тех фактов и принципов, несовершенство того материала, ошибочность той системы, которые лежат в основании подобных произведений; далее, доказать необходимость и благородное значение серьезного, правильного, любовного изучения природы, такой, как она есть, внушить отвращение ко всем изменениям и поправкам, которые внесли в нее люди. И похвала, которую я воздаю в первой части труда некоторым английским художникам, находит свое оправдание только в этих основаниях. Они, часто правда с недостаточными способностями, с нескладными усилиями, но всегда честно и хорошо воспринимали слово Божие и в облаках, и в листьях, и в волнах, удержали его[12 - Те чувства, которые проявляет Констэбль по отношению к своему искусству, могли бы вполне служить образцом для молодых студентов, если бы он не впадал несколько в другую крайность: ему не мешало бы принимать больше в расчет произведения своих сотоварищей, которые могли кое в чем исправить и направить его. Картинами следует пользоваться не как авторитетами, а как толкованием природы; совершено так же, как богословы являются для нас не авторитетами, а только толкователями Библии. Констэбль из страха проявить излишнее поклонение святым лишается часто поучительного в Святом Писании, так как, читая его, он не желает воспользоваться помощью других людей. С другой стороны, Джорж Бомон в анекдотах из жизни Констэбля сообщает печальный пример того унижения, в которое может впасть человеческий ум, когда он дозволяет человеческим творениям стать между собою и Творцом. Тот факт, что он рекомендует цвет старой кремонской скрипки в качестве господствующего всюду, далее шаблонный вопрос «где поместите вы ваше темное дерево?» – все это указывает на прострацию ума, одновременно столь смешную и столь печальную, что она может служить лучшим предостережением для студента галереи. Такое служение искусству есть самая низкая праздность, на которую только возможно затратить жизнь. Итак, двух опасных крайностей следует избегать: следует, так сказать, не забывать Писания, но и не презирать богословов; следует опасаться, с одной стороны рабства, а с другой – излишнего вольнодумства. Уловить и удержать середину в искусстве столь же трудно, как и в религии, но великая опасность заключается и в излишней педантической точности. Тому, кто смиренно идет за природой, редко грозит опасность упустить из виду искусство. Во всем, что есть истинно великого в человеческих творениях, он всегда найдет частицу того, что послужило им оригиналом; за это он будет относиться к ним с благодарностью, а иногда и с уважением следовать им.Но тот, кто избирает своим руководителем не природу, а искусство, может совершенно потерять из виду все, что искусство истолковывает, он может одновременно впасть в грех идолопоклонства и в униженное состояние рабства.] и смиренно старались передать миру ту чистоту впечатления, которая одна способна сделать искусство орудием добра, а художественные творения предметом благодарности.
40. Необходимо беззаветно любить то, чему учит природа, необходимо безусловно покоряться ее урокам. Но если мне часто придется настаивать на этом положении, то не менее насущная обязанность моя заключается в том, чтобы высказывать осуждение небрежной передаче случайных впечатлений, механическому копированию незначительных предметов, которые так часто можно заметить в нашей новой школе[13 - Я должен бы был особенно остановиться на этом недостатке (потому что он является чем-то фатальным) в своем трактате, но причина его скорее кроется в самой публике, чем в художнике и в потребностях публики столько же, сколько в ее желании. Такие картины, которые сами художники пожелали бы рисовать, не могли бы найти достаточно высокой оценки. При современном состоянии общества всегда легче найти десять покупателей на этюды, стоящие по десяти гиней, чем одного покупателя на картину во сто гиней. Я часто поражался и печалился, видя, как публика оставляла без всякой награды стремление художника возвыситься над фабрикацией, его усилие создать что-нибудь похожее на законченное произведение. На последней акварельной выставке находилась прекрасная картина Давида Кокса, идеальная в настоящем смысле этого слова. Лесное ущелье с несколькими овцами, пробирающимися сквозь густой папоротник, и даль вечернего неба, торжественно открывающаяся над темными массами леса. Она стоила всех его вещиц, висевших по стенам, вместе взятых. И тем не менее публика расхватала все эти мелкие вещицы, все эти пятна и брызги, уток, сорные травы, колосья, все, что было ловко сделано и незначительно. А настоящая картина, свидетельствовавшая о полном развитии ума художника, осталась его собственностью. Как могу я, и всякий другой человек совести, советовать после этого художнику, чтобы он стремился к чему-нибудь более высокому, чем то, что требует ловкости и четверти часа работы? Каттермоля, по моему мнению, сковали и погубили таким же точно образом. Он начал свою карьеру с законченных и тщательно обработанных картин; они, я думаю, никогда не оплачивались; теперь он развращает себя, тратя свой прекрасный талант на удовлетворение поверхностного вкуса публики, и идет по позорному пути прибыли и бесславия. Виноваты, таким образом, обе стороны: художник выставляет напоказ свою ловкость, создавая своей кистью недостойные фокусы, между тем настоящая отделка, требующая в десять раз больше труда и знания, представляется чем-то нелепым извращенному вкусу, который художник сам воспитал в своих покровителях; так заурядный актер своими завываниями и криками часто делает на вид дикими лучшие штрихи совершенного творения. Виновата, с другой стороны, и публика: для того, чтобы узнать и отличить разнообразные способности великого художника, она затрачивает менее труда, чем для оценки достоинства повара или искусства танцора.]. Легкий и случайный характер их замысла, бесцельное умножение неотделанных произведений, недостаточная определенность и возвышенность цели накладывают пятно на всю систему и поддерживают в критике печальное предубеждение, будто поля и холмы менее пригодны для изучения, чем галереи и частные студии. Не всякая случайная мысль, которая приходит в голову при виде дождя или при свете солнца, не всякий луч палящего солнца, не всякая мечта, которую навеет прохлада молодого леса, должны быть переданы миру в том виде, как они явились: непродуманные, незаконченные и забытые художником тотчас же после того, как он покинул свой мольберт. Только то может считаться картиной, в чем душа, – не сырой материал, а одушевляющее чувство, навеянное многими такими впечатлениями, сконцентрировано и передано с помощью хорошо постигнутых, тщательно выбранных форм. Этот материал следует идеализировать в истинном смысле этого слова; при этом не следует предоставлять беспредельного простора той способности унижать дела Бога, которую человек называет «воображением»; необходимо обнаружить тщательное знакомство с каждой частью, с каждой чертой и функцией предмета. Детали должны быть отделаны до последней линии сообразно с величием и простотой целого; разработаны с тем благородным усердием, которое концентрирует чрезмерное, дает стройность беспорядочной груде. Это усердие не следует тратить на всякий сюжет, который только на вид возбуждает доброе чувство, но лишь на избранные сюжеты, в которых природа дает рукам художника самые чистые источники. Они могут занимать скромное место, но должны быть совершенными в своем роде. Есть совершенство кустарника и хижины, как есть совершенство леса и дворца. Выбрав и передав нам придорожную траву или береговые камешки, великий художник будет ближе к идеалу, чем незначительный талант, загромождающий передний план картины грандиозными колоннами и воздвигающий невозможные горы до небес. Наконец, эти избранные сюжеты не должны служить один повторением другого; каждый должен основываться на новой идее и развивать совершенно особый ход мыслей. Таким образом творения, созданные художником в течение всей его жизни, должны составить как бы целую последовательную серию опытов, восходящих постепенно по лестнице творения от самых скромных видов до самых возвышенных; каждая картина является необходимым звеном в общей цепи, звеном, которое держится на предшествующем и ведет к следующему, a целое в своей привлекательной стройности делает более тесными узы, связующие природу с человеческим сердцем.
41. Отсутствие старания у новых художников должно встретить с моей стороны такое же осуждение, как и ложное направление старых. Ввиду этого моя задача распадается, естественно, на три части. Во-первых, я постараюсь с научной точностью исследовать и привести в систему факты природы, указывая, как в некоторых идеальных своих произведениях старые мастера пренебрегали самыми первыми основами своего искусства. Установив раз и навсегда эти основы, я во второй части своего труда объясню и проанализирую природу двух чувств: прекрасного и возвышенного, исследую особенности каждого рода пейзажа и, насколько сумею, раскрою ту истину, вечную, неизъяснимую и неистощимую, прелестью которой Всевышний отметил все предметы, если только воспринимать их такими, какими Он дает их нам. Наконец, я постараюсь проследить действие всего этого на сердце и ум человека, указать на нравственные функции и цели искусства, определить ту роль, которую оно играет в наших мыслях, то влияние, которое оно оказывает на нашу жизнь, постараюсь навязать художнику ответственность проповедника и привить общественному сознанию то уважение к этому званию, которое ему по справедливости принадлежит.
Несомненно, что первая часть этой задачи, которая в сущности и есть все, что я способен предложить читателю, представляется наименее интересной и наиболее трудной, особенно вследствие того, что ее необходимо выполнить, не ссылаясь на какие бы то ни было принципы красоты или влияния чувства. Она есть сухая, правильная классификация материальных вещей, а не изучение мыслей и страстей. Не обвиняйте меня поэтому в недостатке чувств, которые я умышленно подавил в себе. Рассмотрение высших свойств не должно прерывать работой молотка и эндиометра.
42. Далее я попросил бы не считать мои частые ссылки на мастеров итальянской школы просто традиционной манерой. В дальнейших страницах, я думаю, найдется немало доказательств того, что блеск имени не легко может увлечь меня; ввиду этого беззаветная любовь, которую я питаю к творениям великих представителей исторической и религиозной живописи, искрение и зиждется на хороших основаниях. И действительно каждый защищаемый мною принцип искусства я могу иллюстрировать произведениями людей, которые считаются мастерами из мастеров. И пока мое учение развивает в публике высшее понимание и любовь к творениям Буонарроти, Леонардо, Рафаэля, Тирана и Кальяри, публика может без всякого страха предоставить мне право наносить удары (которые покажутся мне необходимыми для доказательства моих принципов) таким художникам, как Гаспар Пуссен и Вендевельде.
43. Действительно, я думаю, что одинаковое число поводов заставляют защищать и Микеланджело против мелочности современников, и Тернера против традиционных условностей прежнего времени. В самом деле, хотя имена отцов религиозной живописи у всех на устах, наша вера в них напоминает веру масс в свою религию, именно эта вера номинальна и мертва. Тщетно молодых студентов заставляют написать известное количество копий с произведений Микеланджело, когда их хлеб зависит от количества тех блестящих безделушек, которые они могут нагромоздить на полотно. И я готов порицать современную систему исторической живописи с таким же рвением, с каким я хвалю нашу школу пейзажа, но тяжелая и неблагодарная задача – нападать на произведения живых художников, борющихся с неблагоприятными условиями всякого рода и особенно с ложными вкусами нации, которая смотрит на произведения искусства или с чувствительностью ребенка, или с тупостью мегатерия[14 - Допотопное животное.].
44. Меня обвиняли в резких и грубых выражениях по отношению к тем произведениям, к которым я отнесся отрицательно. Возможно, что я несколько заразился, читая критические статьи наших журналов, в которых только и есть что грубость. Но в моих словах, я думаю, достаточно много правды, чтобы извинить их резкость. При том никакой меч не пробьет тех слишком сильно укрепившихся мнений, которыми как броней защищены известные художники против атаки разума. Мой ответ на подобные упреки давно уже предвосхищен знаменитым софистом, который сказал при таких же условиях: ??? ?’????? ????????? ?? ?????????? ??? ???? ????? ???????? ????? ?? ????? ????????; ??????? ???, ??????? ????? ???? ????????? ? ?? ??????. (Что за человек тот, кто настолько не воспитан, что в серьезном сочинении употребляет дурные слова? Такой человек, Гиппий, думает только об истине.)
45. Более поразило меня другое обвинение, именно обвинение в необдуманной строгости по отношению к произведениям современных художников. В самом деле, во всех тех случаях, когда мне приходилось нападать на них, я убежден, что причинял себе гораздо сильнейшую боль, чем я вообще способен причинить. В некоторых случаях я удерживался от слова осуждения, которое считал необходимым для полного понимания своего труда, удерживался из опасения огорчить или обидеть людей, чувства и обстоятельства которых мне были неведомы. В действительности фальшивый на первый взгляд и преувеличенный тон всей книги в благоприятном для современного искусства смысле в значительной степени зависит именно от того, что я избегал порицаний, которые придали бы ей равновесие, и хранил молчание там, где не мог хвалить. Я предпочел бы лучше подождать еще год-два с достижением своих целей, чем достигнуть их, разбивая человеческие сердца и очаги. Поэтому я позволял себе высказывать неблагоприятные мнения только там, где популярность художника и симпатии к нему были так велики, что мнение одного человека не имело для него значения.
46. В заключение еще два слова. Вот уже несколько лет, как мы слышим по адресу произведений Тернера обвинение в недостатке их правдивости. На все указания относительно их силы, возвышенности, красоты раздается один ответ: «Они не похожи на природу». Я вступил на ту почву, на которой стоят мои оппоненты, и старался тщательным исследованием действительных фактов доказать, что Тернер следует природе и рисует с натуры больше, чем всякий другой. Я ждал, что это положение (основу всех моих будущих усилий) будут отчаянно оспаривать и что мне придется завоевывать каждую пядь своего пути. Ничуть не бывало. Мои противники сразу покинули поле битвы. Один (сотрудник Атенеума) не нашел лучшей опоры, чем заявление, что он «не одобряет натурального стиля в живописи. Если кому-нибудь хочется видеть природу, то пусть идет и смотрит на нее самое. Зачем брать ее из вторых рук, с полотна?» Другой (Блэквуд), еще более пораженный, прибег к еще более характерному способу защиты. «Нам интересно видеть вещи не такими, каковы они в действительности во всех отношениях, нам интересно, как ум художника может превратить их в то, чем они не бывают». Пусть читатель выбирает сам, преуспевать ли ему вместе с Блэквудом и его товарищами в рассмотрении того, как ум художника превращает вещи в то, чем они не бывают, или же вместе со мною читатель предпримет более сухой, но в целом, быть может, более производительный труд и определит вещи так, как они бывают в действительности.
Часть I. Общие принципы
Отдел I. Природа идей, передаваемых искусством
Глава I. Введение
Едва ли можно оспаривать, что все, бывшее в течение веков предметом человеческого поклонения, обладало в каком-нибудь в отношении истинным достоинством и притом в высокой степени.
§ 1. Мнение публики может служить критерием не раньше, как по истечении большого периода времени
Если это так, то причина этого явления лежит вовсе не в том, что ум и чувство большинства наиболее способны отличить действительно превосходное, а в том, все ошибочные мнения не прочны, и все неосновательные скоропереходящи. Мысли и чувства, заставляющие отрицать заслуженную славу и приписывать незаслуженную, не имеют достаточных оснований и силы для того, чтобы прочно удержаться в течение большого периода времени. Между тем мнения, составленные на правильных основаниях немногими, действительно компетентными судьями, прочны и мало-помалу переходят от одного человека к другому. Спускаясь ниже и захватывая все более широкие сферы, они уравнивают все и с безусловной авторитетностью царят даже там, где не могут понять. От этой победы вечного над непрочным зависит репутация всего высшего в искусстве и литературе. Для всего великого в том и другом было бы оскорбительно предположение, что оно непосредственно обращается к незначительным и некультивированным силам. Мысль, что всякого человека может правильно оценить только равный или высший, слишком проста и ясна. Низший может переоценить его в своем энтузиазме или, что случается чаще, унизить его в своем невежестве, но он не может составить хорошо обоснованной и верной оценки. Я не стану приводить доказательств этой мысли, так как они потребовали бы слишком много места. Замечу, что нет такого процесса, посредством которого мысли, ошибочные каждая в отдельности, стали бы верны соединившись в массу[15 - Мнение большинства бывает правильно лишь в одном случае, когда каждый индивидуум, как можно предположить, скорее должен быть справедливым, чем несправедливым, например, в суде присяжных. Но где больше вероятности, что отдельные лица скорее ошибаются, чем судят верно, там верно мнение меньшинства. Так именно бывает в искусстве.]. Положим я, рассматривая какую-нибудь картину в академии, слышу как двадцать человек один за другим выражают свой восторг пред какой-нибудь плохой вещью, продуктом ремесла или подражания, за подкладку плаща или атласные туфли. Было бы нелепо воображать, что вместе они выразят осуждение тому, чему покланялись каждый в отдельности. Положим далее, что они равнодушно прошли мимо создания благороднейшего творчества, совершеннейшей истины только потому, что в нем нет фокусов кисти и кривлянья. Было бы нелепо думать, что они коллективно оценят то, что презирают каждый в отдельности; никакое время, никакое сравнение идей не заставить чувства и знание таких судей прийти к правильному заключению, не побудить их проникнуться уважением к действительно высокому в искусстве. Вопрос решается не ими, а для них; решается сначала немногими: чем выше достоинства произведения, тем меньше число оценивших его. Решение этих немногих передается людям, стоящим ступенью ниже в духовном отношении, а эти передают в еще более широкие и низшие сферы. Каждый класс сознает превосходство того, который стоить над ним и поэтому с уважением относится к его решению. Таким образом с течением времени правильное и вечное мнение сообщается всем, становится для всех делом веры, при чем оно тем прочнее укрепляется, чем более забываются его основания[16 - Впрочем, существуют тысячи влияющих условий, благодаря которым процесс этот не всегда неизбежен. Иногда он совершается быстро и верно, иногда он невозможен. Он не является неизбежным в ораторском искусстве и драме, потому что толпа – ближайший судья в этих искусствах, цель которых трогать толпу (хотя прекрасная драма должна иметь многое другое помимо того, что драматично по существу, но толпа понимает только драматический элемент в драме). Далее, этот процесс может не иметь места, когда, обладая высшими свойствами, произведение обращается вместе с тем к общим страстям, к тем способностям и чувствам, которые общи людям и животным. Тогда популярность является столь же быстрой, сколько основательной; искренно и чистосердечно содействует ей в каждый ум, но в каждом она основывается на достоинствах различного характера. Так случилось со многими лучшими творениями литературы. Возьмем, например, Дон Кихота. Самый низший ум отыщет для себя постоянное грубое развлечение в несчастьях рыцаря и беспрерывное удовольствие в симпатии к его оруженосцу. Человек среднего ума поймет сатирическое значение и силу книги, оценит ее остроумие, изящество и правдивость. Но только возвышенный, особый ум откроет в ней полную нравственную красоту любви и правды, которая является постоянным спутником всех самых слабых сторон и заблуждений героя. Поднявшись над грубыми приключениями и плоскими шутками, такой ум проникнет сквозь ржавые латы, в безумно блуждающем взоре он уловит выражение силы, самопожертвования и всечеловеческой любви. Так же обстоит дело с творениями Скотта и Байрона; их популярность распространилась мгновенно и была вполне заслужена, потому что они обращаются к общечеловеческим страстям и вместе с тем выражают мысли, доступные только немногим. Но большинство их поклонников восторгаются самыми слабыми частями их творений подобно тому, как большинство паствы восторгается любимым проповедником за самые худшие места его речи.Процесс бывает, далее, быстрым и прочным тогда, когда в произведении хотя и немного такого, что может увлечь сразу массу, но зато много таких сторон, которые могут доставить ей наслаждение при условии, что ее внимание авторитетно направят на них. Такова репутация Шекспира. Ни один заурядный ум не может понять, в чем его бесспорное превосходство. Но в его произведениях много забавного, много приводящего в содрогание, волнующего, много такого, что драматично в точном смысле слова, и все это не более, чем во всякой другой драме. При первом своем появлении произведения Шекспира были встречены средним успехом, как произведения с обычными достоинствами. Но когда было постановлено с высоты решение и круг расширился, публика добросовестно подхватила клич восторга. Дайте ей кинжалы, привидения, шутов и королей – при этих реальных и определенных источниках удовольствия она примет на себя добавочный труд заучить полдюжины цитат, не понимая их, и признает превосходство Шекспира без дальнейших колебаний. Едва ли непонимание среди публики всего действительно великого и ценного в Шекспире можно доказать лучше, чем сославшись на всеобщее восхищение Гамлетом в исполнении Маклиза.Процесс невозможен, если в произведении нет ничего привлекательного и есть что-нибудь отталкивающее для толпы. Ни их истинные достоинства, ни авторитет критиков – ничего не в состоянии сделать поэмы Вордсворта и Джорджа Герберта популярными в том смысле, в каком популярен Скотт и Байрон, потому что читать тех для толпы – труд, а не удовольствие. Кроме того, в них есть места, которые для таких читателей могут показаться только безвкусными или смешными. Большинство творений высшего искусства, например, произведения Рафаэля, Микеланджело и Да-Винчи находятся в таком положении как Шекспир. Все шаблонное и слабое в этих превосходных творениях принимается за сущность их. Причина та, что невоспитанное воображение поддерживает впечатление (в самом деле мы готовы вообразить, что чувствуем тогда, когда чувство в действительности является делом гордости или совестливости), а аффектация и претенциозность усиливают шум восторга, если не достоинство его. Джотто, Орканья, Анджелико, Перуджино, подобно Джорджу Герберту, существуют для немногих. Вильки становится, подобно Скотту, популярным, так как затрагивает общечеловеческие страсти и выражает всем понятные истины.].
Но когда процесс совершился и произведение освящено временем в умах человеческих, тогда уже не могут какое-нибудь новое произведение равного достоинства сравнивать беспристрастно с этим произведением.
§ 2. И потому оно упорно, раз образовалось
Исключение составляют только умы воспитанные и способные оценить достоинства, и при том достаточно сильные для того, чтобы сбросить с себя тяжесть предубеждения и традиции, которая неизменно тянет к старым фаворитам. Гораздо легче, говорить Берри, повторить известные достоинства Фидия, чем исследовать достоинства Агазия. В живописи необходимо много технических и практических знаний для правильного суждения о ней; поэтому здесь единственно компетентными судьями являются те, которые сами подлежать суду и которые не могут вследствие этого высказывать своего мнения: в виду всего этого должны пройти столетия, прежде чем станет возможным произвести справедливое сравнение между двумя художниками различных эпох: превосходство старинных художников сквозь долгий промежуток времени оказывает тиранническое, даже гибельное влияние на умы публики, и тех, для кого, при верном понимании, оно должно было бы служить руководителем и образцом. Ни в одном европейском городе, где интересуются искусством, горизонты его не являются столь безнадежными, a стремления – столь безрезультатными, как в Риме.
§ 3. Причины, побудившие автора в отдельных случаях восставать против него
Причина этого явления заключается в том, что среди студентов авторитет их предшественников в искусстве является безапелляционным, и тупой копировальщик изучает Рафаэля, а не то, что изучал сам Рафаэль. Поэтому на каждом, кто в состоянии указать определенно какие бы то ни было элементы превосходства в современном искусстве и чье положение при этом освобождает его от неприятности, на каждом таком человеке лежит священный долг. Именно он обязан вступить в борьбу без колебания, какие бы порицания ни падали на него, благодаря предубеждению даже со стороны самых искренних умов, благодаря еще более злобному противодействию со стороны тех, кто надеется поддержать свою собственную репутацию критика только поддержкой освященных заслуг: их можно восхвалять, без неудобной необходимости указывать причины. Я убежден, что есть известные элементы превосходства у современных художников, особенно у некоторых, которые еще не вполне поняты; люди же, оценившие их, едва ли находятся в таком положении, чтобы заявить о своем мнении. Ввиду этого моя цель – произвести тщательное сравнение между великими произведениями древних и новых пейзажистов, насколько возможно – рассеять тот обманчивый, воображаемый свет, сквозь который мы привыкли смотреть на прежние творения; и показать истинное соотношение между ними и нашими собственными, независимо от того, благоприятно ли оно для них или нет. Я знаю, что этого нельзя делать легко и опрометчиво, что каждому, кто берется за эту задачу, необходимо, с продолжительными сомнениями и строгими испытаниями, исследовать всякое мнение, противоречащее священному вердикту времени, и выставлять только то, что, по его по крайней мере убеждению, зиждется на более прочной основе, чем чувство или вкус.
§ 4. Но только в тех пунктах, которые можно доказать
На следующих страницах я выставлял только то, что мог сопроводить доказательствами. Эти последние могут быть правильны или ложны, совершенны или условны, но с ними можно бороться только на их собственной почве; их никоим образом нельзя ниспровергнуть или поразить одной авторитетностью великих имен. Впрочем, даже при этих условиях я едва ли решился бы говорить так смело, как я это сделал. Но я твердо убежден, что мы не должны соединять вместе исторических живописцев XV и пейзажистов XVII веков под общим именем «старые мастера», словно существует что-нибудь сходное в тех путях, которыми шла каждая из этих двух групп. Я убежден, что принципы их работы были совершенно противоположны; пейзажистов прославили только за то, что они в отношении механики и техники обнаружили некоторое сходство с манерой знаменитейших исторических живописцев, но принципы, которыми руководились эти последние в замысле и в композиции, пейзажисты перевернули вверх дном. Ход занятий, который привел меня к почтительному преклонению пред Микеланджело и Да Винчи, отвратил меня мало-помалу от Клода и Гаспара. Я не могу одновременно питать уважение к сильному и мелкому, к истинам высшего знания и к манерности недисциплинированного воображения. Там, где я впоследствии буду говорить о старых мастерах, как о чем-то целом, мои слова не будут относиться ни к одному из исторических живописцев, к которым я питаю полное уважение; оно справедливо в своей основе, хотя, быть может преувеличено в степени. Далее, если я отдельно не упоминаю о Никола Пуссене, то и он не входит в число осуждаемых «старых мастеров». Его пейзажи имеют особый возвышенный характер, вследствие чего их необходимо рассматривать отдельно от всех других. Говоря вообще о старейших мастерах, я имею в виду только Клода, Гаспара, Пуссена, Сальватора Роза, Кюипа. Бергема, Бота, Рюисдаля, Гоббима, Теньера (в его пейзажах), Поттера, Каналетто и разных Ванов, разных Беков, а в особенности злят меня те, кто писал пасквили на море.
Я обязан, конечно, в начале своей работы изложить вкратце те принципы, которые, по моему мнению, должны лежать в основе всякой правильной художественной критики. Эти вступительные главы следует прочесть особенно внимательно, потому что всякая критика бесплодна, когда пределы и основания ее имеют двусмысленный характер. Обычный язык знатоков и критиков, даже допустив, что они сами понимают себя, для других представляется невнятным жаргоном благодаря их привычке употреблять технические термины, при помощи которых они хотят сказать все, а не говорят ничего.
В применении этих принципов я старался сохранить беспристрастие. Но если чувства и симпатии, которые я питаю к некоторым произведениям нового искусства, прорывались иногда там, где не следовало, то мне можно простить их.
§ 5. Пристрастие автора к новым творениям извинительно
Они служат противовесом тому благоговению, с которым читатель относится к творениям старых мастеров; в его уме эти последние всегда синонимы всего великого и совершенного. Я не говорю, что это уважение несправедливо, что мы не должны прислушиваться к голосу веков. Но не следует забывать, что если слава – удел мертвых, то благодарность возможна только по отношению к живым. Кто хоть однажды стоял над могилами и думал о невозвратном прошлом, сокрытом в них навеки, кто хоть раз почувствовал, что безумная любовь и острая скорбь сожаления бессильны доставить один миг наслаждения умолкшему сердцу, бессильны вознаградить успокоившийся дух за один час былой жестокости, тот едва ли примет на себя в будущем долг, который можно уплатить только бездыханному праху. Но урок, который люди могут воспринять, как отдельные индивидумы, они не в состоянии усвоить как нация. Они постоянно видели, как сходят в могилу славнейшие из них; они воображали, что достаточно увить гирляндой венков их могильные камни, и не возлагали венков на их чело; они воздавали пеплу те почести, в которых отказывали живому духу. Пусть же не сердятся, если посреди шума и сутолки повседневной жизни их пригласят прислушаться к немногим голосам, взглянуть на немногие светочи. Бог вложил в них звуки и свет, чтобы они восхищали людей и руководили ими; пусть люди не ждут того момента, когда звуки замолкнут и светочи угаснут для того, чтобы знакомиться с ними.
Глава II. Определение величия в искусстве
В пятнадцатой лекции Рейнольдса мимоходом упоминается о различии между двумя видами достоинств в художнике: одни принадлежат художнику как таковому, другие он разделяет со всеми людьми ума, это именно те главные и высокие силы, которые обнаруживаются и выражаются в искусстве, а не подчиняют его себе.