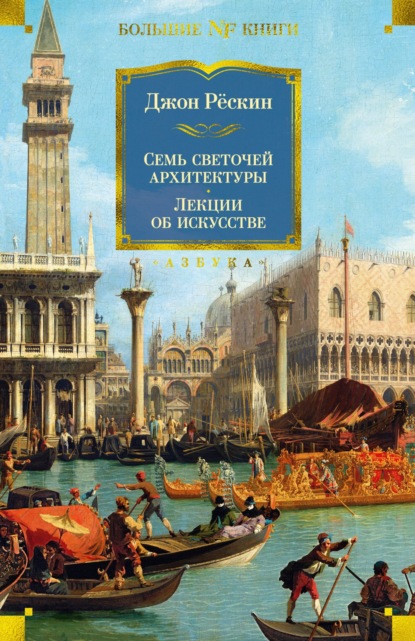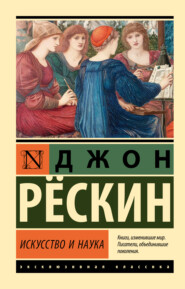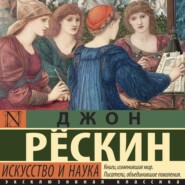По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Семь светочей архитектуры. Камни Венеции. Лекции об искусстве. Прогулки по Флоренции
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Что касается второго направления, главным образом связанного с искусствами, оправданность жертвы вызывает еще большие сомнения; здесь она определяется нашим ответом на самый общий вопрос: действительно ли Бог может почитаться преподнесением Ему неких обладающих ценностью материальных предметов или обращенных к Нему рвения и мудрости, каковые не несут непосредственного блага людям?
Речь идет, заметим, не о том, отвечают ли красота и величие здания какой-либо моральной цели, и не о результате затраченного на него труда, но просто о высокой стоимости сооружения – воплощенной в материале, усердии и времени как таковых: спросим, являются ли они, вне зависимости от итога, допустимыми подношениями Богу, воспримет ли Он их поистине воздающими Ему славу? Пока мы пытаемся решить этот вопрос, опираясь на чувства, совесть или разум, ответ будет противоречивым или неубедительным; полноценный ответ возможен единственно при увязке с другим, совершенно иным вопросом: составляет Библия одну или две книги, совпадает ли образ Всевышнего, представленный в Ветхом Завете, с Его образом в Новом Завете?
IV. Самая надежная истина заключается в следующем: хотя отдельные Божественные предписания, определенные свыше для особых надобностей в тот или иной период человеческой истории, могут в другой период той же самой Божественной властью отвергаться, немыслимо, чтобы образ Господа, воплощенный в заветах прошлого, при отмене этого предписания мог бы измениться или восприниматься иначе. Бог един и неизменен, угодно или неугодно Ему всегда одно и то же, хотя та или иная сторона Его благорасположения в одно время может быть выражена сильнее, нежели в другое, а способ, каким следует Ему угождать, может по Его же милости приспосабливаться к обстоятельствам смертных. Так, к примеру, было необходимо – для осознания человеком замысла Искупления – изначально упредить его образом кровавого жертвоприношения. Однако во времена Моисея подобное жертвоприношение было угодно Богу ничуть не более, чем ныне; Бог никогда не принимал никакой другой искупительной жертвы, кроме единственной – грядущей; мы не можем питать ни тени сомнения на этот счет: негодность всякой иной жертвы, нежели эта, провозглашена именно тогда, когда требовалась обычная распространеннейшая форма символического жертвоприношения, требовалась самым категорическим образом. Бог – это духовное начало, и почитать Его было возможно только в сфере духа и истины столь же безоговорочно, как в те дни, когда настоятельно предписывалась жертва сугубо традиционная и материальная, так и теперь, когда Он ждет от нас жертвы, приносимой только сердцем.
Наиболее надежный принцип, следовательно, таков: если известные нам обстоятельства, сопровождавшие характер исполнения любого ритуала когда бы то ни было, по рассказам или вследствие обоснованных умозаключений, некогда угодны Господу, то же самое будет угодно Ему во все времена, при исполнении всех обрядов, за исключением тех ситуаций, когда позднее выясняется, что ради некоторых целей по Его воле эти обстоятельства должны быть упразднены. Эти доводы обретут еще большую силу, если можно будет продемонстрировать, что подобные условия несущественны с точки зрения их земного смысла, а лишь добавлены к ритуалу, самому по себе угодному Господу.
V. Поставим вопрос: было ли обязательным для левитского жертвоприношения как символа или ради его пригодности в качестве истолкования Божественного промысла, чтобы жертва обладала ценностью для того, кто ее приносил? Напротив, жертва, которую предвещало левитское жертвоприношение, должна была стать свободным даром Богу; и если предмет, в данном случае приносимый в жертву, стоил дорого или являлся редкостью, это отчасти затемняло смысл жертвоприношения, лишало его сходства с приношением, которое Бог дарует всем людям. Однако условием пригодности жертвы была, как правило, ее высокая стоимость: «…не вознесу Господу, Богу моему, жертвы, взятой даром». Высокая[2 - 2 Цар. 24: 24; Втор. 16: 17. – Примеч. авт.] стоимость сделалась, следовательно, желаемым условием для всех людских подношений во все времена; ибо, если она была угодна Господу однажды, она должна быть угодна Ему всегда, если только впоследствии Он не наложит прямого запрета, чего так и не произошло.
С другой стороны, для образцовой полноты левитского жертвоприношения было ли необходимо приносить в жертву лучшего из стада? Безукоризненность жертвы, несомненно, делает ее особенно значительной для христиан; но была ли она столь выразительна именно потому, что такую жертву действительно и в столь многих словах требовал Господь? Вовсе нет. Божественное требование явно опиралось на те же основания, какими руководствовался бы земной повелитель, желая видеть в жертве доказательство уважения к себе. «Поднеси это твоему князю». А менее ценное подношение отвергалось не потому, что не символизировало Христа или не отвечало задачам жертвенности, но потому, что указывало на скупость со стороны жертвующего, утаивающего от Всевышнего лучшее из своей собственности, которую Он же и даровал; в глазах людей это выглядело прямой неблагодарностью. Отсюда следует неопровержимый вывод: какого рода приношения мы ни сочли бы резонным посвятить Господу (не уточняю, какие именно), условием их приемлемости ныне, как и прежде, является то, что жертвуется самое лучшее.[3 - Мал. 1: 8. – Примеч. авт.]
VI. Но далее: были ли необходимы для правил обрядности, по Моисею, изощренная искусность и пышность скинии или храма? Были ли необходимы для образцовой полноты того или иного традиционного ритуала голубые, пурпуровые, червленые драпировки? Медные крючки и серебряные подножия? Отделка из кедра, покрытая золотом? Очевидно, по крайней мере, одно: во всем этом таилась огромная и страшная опасность – опасность того, что Бог, столь ими почитаемый, может связаться в умах египетских рабов с теми богами, которым, как они видели, делали сходные подношения и воздавали сходные почести. В наши времена вероятность чувств католика по сравнению с опасностью симпатии, проявленной израильтянином к язычнику-египтянину[4 - Вероятность этого сравнительно невелика, но тем не менее она существует и ежедневно увеличивается. Надеюсь, никто не подумает, что я недооцениваю опасность такого сочувствия, хотя я и говорю об этой возможности легко. Я уверен, что основные религиозные убеждения англичан и шотландцев не только не испорчены католицизмом, но и решительно ему противостоят; и, при всей видимости странного и быстрого распространения среди нас ереси протестантизма и влияния папизма, я уверен, что преграда нашей живой национальной веры для них непреодолима. Однако эта уверенность основана только на истинной приверженности вере среди немногих, а не на защищенности нации от греха и наказуемости частичного отступничества. И то и другое в известной мере у нас уже присутствует; и пусть не назовут меня суеверным и неразумным, если я скажу, что беды и горе, которые сейчас испытывает множество людей, тесно связаны с поощрением, которое во многих направлениях дается папизму. Ни один человек никогда не был более меня склонен – в силу естественного характера и опыта общения со многими людьми – к сочувствию отдельным принципам и формам Римско-католической церкви; и в ее порядке есть много такого, что как разумом, так и сердцем я мог бы принимать и поддерживать. Но, признавая эту склонность, я тем не менее настаиваю на том, что в целом вся доктрина и система этой церкви являются в полном смысле антихристианскими; что ее неправедная и идолопоклонническая Власть есть самая темная чума, которая когда-либо поражала Землю; что вся эта жажда объединения, вмешательства в чужие дела и всеобщего подчинения, ставшая корнем наших нынешних ересей, столь же фальшива в своей основе, сколь и фатальна в своих последствиях; что мы не можем иметь ничего общего с выразителями этой жуткой Лжи; что нам нечего от них ждать, кроме вероломства и вражды; что только если мы будем строго блюсти свою независимость от них, Господь пошлет свое благословение нашей стране в ее не только духовной, но и мирской жизни. То, как тесно было до сих пор соответствие между сопротивлением католицизму, выраженным в наших национальных законах, и честью, которую эти законы нам принесли, было хорошо показано в коротком очерке автора, чьи исследования влияния религии на судьбу наций чрезвычайно серьезны и имеют большой отклик, – автора, как и я, убежденного в том, что Англия никогда не будет снова процветающей страной, что честь ее оружия будет опорочена, ее торговля подорвана, а национальный характер будет деградировать, пока католик не изгнан с того места, которое нечестиво предоставлено ему среди ее законодателей. «Как бы ни было велико число тех, для кого грех – наследие, горе тому, для кого он – выбор. Если Англия, свободная среди всех других наций от тех испытаний, которые на ее глазах изъязвили Европу пожарами и кровопролитием, и просвещенная подлинным знанием Божественной истины, откажется от верности обету, который дал ей эти несравненные преимущества, ее приговор неминуем. Она уже сделала одну остановку, полную опасности. Она совершила главную ошибку, сочтя чисто политическим вопросом то, что было вопросом чисто религиозным. Ее нога уже занесена над краем пропасти. Нужно снова обеими ногами твердо встать на родную почву, иначе от империи останется одно название. Когда темные тучи неумолимо сгущаются над политической жизнью – когда усиливаются волнения в Европе и лихорадочная неудовлетворенность у нас, – может быть, даже трудно различить, где живет та сила, которая может возродить утраченное величие наших установлений. Но мощное средство заключено в искренности; и если ни одно чудо никогда не совершалось для неверующих и отчаявшихся, то страна, которая поможет себе, никогда не останется без помощи Небес» (Исторические очерки преп. д-ра Кроули, 1842). Первый из этих очерков – «Англия – оплот христианства» – я настоятельно рекомендую к рассмотрению всякому, кто сомневается в том, что Божественная воля посылает нации за преступления особое возмездие, и из всех преступлений прежде всего – за предательство истины и веры, которые ей дарованы.], ничтожна, однако та опасность вовсе не была гипотетической и недоказанной: она роковым образом воплотилась грехопадением в тот месяц, когда они были предоставлены сами себе реально добровольной изменой в продолжение целого месяца, – уступкой греху самого раболепного идолопоклонства, сопровождавшегося, однако, такими подношениями кумиру, какие их вождь очень скоро повелел посвящать Господу. Эта опасность была неотвратимой, постоянной и самого грозного свойства: именно против нее Бог предостерег не только посредством заповедей, угроз и посулов – настоятельнейших, внушительных и неоднократных, но и через временные предписания, столь ужасные, что они едва ли не затмили в глазах избранного Им народа присущее Богу милосердие. Основополагающий смысл каждого учреждавшегося внутри данной теократии закона, Божьего покровительства, каким пользовалось это государство, сводился к свидетельству о ненависти Всевышнего к идолопоклонству – ненависти, сопровождавшей израильтян на каждом шагу во время их скитаний, написанной кровью хананеев, но еще более суровой во мраке их отчаяния, когда дети и грудные младенцы умирали от голода на улицах Иерусалима, а львы умерщвляли свои жертвы в городах Самарийских. И все же предостережение против этой смертельной опасности было облечено не в ту форму, каковая человеческому разумению представлялась бы наиболее простой, естественной и действенной, – то есть изъятием из почитания Божественного Существа всего того, что могло тешить чувства, давать пищу воображению или привязывать идею Божества к определенному месту. Этот путь Бог отверг, требуя для Себя таких почестей [5 - Плач 2: 11; 4 Цар. 17: 25. – Примеч. авт.]и принимая для Себя такое местное обиталище, какие посвящались идолам язычниками. Так как же это можно объяснить? Было ли великолепие скинии необходимо для того, чтобы представить величие Господа и образ Его избранному народу? Как! Нужны ли пурпуровая и червленая шерсть народу, видевшему великую египетскую реку алой от крови после наложенного Им проклятия? Как! Разве светильник из золота и золотой херувим необходимы тем, кто видел громы и пламя окутавшими мантией гору Синай, куда был открыт доступ их смертному законодателю? Как! Разве серебряные крючки и связи необходимы тем, кто видел расступившиеся воды Чермного моря, когда влага встала, как стена, и покрыла колесницы и всадников всего войска фараонова? Нет – не так.
Обоснование было одним-единственным и непреходящим: поскольку Завет, заключенный Богом с людьми, сопровождался неким внешним знамением как свидетельством его постоянства и постоянства памяти о Нем, то и принятие этого Завета также должно было быть выражено и отмечено со стороны смертных неким внешним обозначением их любви и покорности, знаком подчинения их самих и их воли воле Божией; а их благодарность Творцу и неизменная память о Нем могли бы найти выражение в качестве постоянного доказательства верности не только закланием первородного из скота, не только приношением земных плодов и десятины, но и всех сокровищ мудрости и красоты: мысли плодотворной и руки трудолюбивой, богатства дерева и тяжести камня, прочности железа и сияния золота.
И давайте же отныне не упускать из виду этот всеобщий и неизменный принцип – можно сказать, и не подлежащий отмене до тех пор, пока люди будут получать земные дары из рук Господа. Ото всего, чем они обладают, десятая часть должна посвящаться Ему, дабы не был Он ни в чем забыт: приношения искусства и богатства, силы и ума, времени и труда должны вручаться с благоговением; и если существует некая разница между левитским и христианским жертвоприношением, то состоит она в том, что последнее может быть настолько же шире по охвату, насколько оно менее условно по смыслу, и суть его – благодарность вместо жертвенности. Уклонения со ссылкой на то, что Божество якобы не обитает ныне зримо в Своем храме, неприемлемы: если Бог невидим, то только вследствие упадка нашей веры; нельзя согласиться и с отговорками тех, кто утверждает, будто иные требования более насущны и даже более священны: исполняй и этот долг, и всякий другой тоже. Однако на данное возражение – столь же частое, сколь и шаткое – следует ответить более развернуто.
VII. Сказано – и это следует повторять как истину, – что лучшее и достойнейшее жертвоприношение Господу заключается, скорее, в оказании помощи беднякам, в распространении знаний о Нем, в следовании добродетелям, освященным Его именем, более, нежели в вещественных дарах Его храмам. Это несомненно так: горе тем, кто помыслит, будто теми или иными видами и способами приношений можно заместить перечисленные выше! Нуждаются люди в месте для молитвы и в призывах внять слову Господа? Тогда незачем шлифовать колонны и украшать резьбой кафедру проповедника: давайте ограничимся простыми стенами и крышей над головой. Нуждаются люди в домашних проповедях и в хлебе насущном? Тогда нам потребны священники и пастыри, но не архитекторы. Я настаиваю на этом, молю об этом; но давайте пристально заглянем в себя: есть ли у нас действительные основания для медлительности с делом, требующим меньшего труда? Вопрос не в выборе между домом Господа и Его бедняками, но между домом Господа и Его Евангелием. Этот выбор – между домом Господа и нашим собственным. Разве нет у нас полов из цветной мозаики? Причудливых фресок на потолках? Изваяний, помещенных в коридорные ниши? Позолоченной мебели в жилых комнатах? Драгоценных камней в горках? Но была ли хотя бы десятая часть этого богатства принесена в жертву? Все это – знаки (или таковыми они должны быть) достаточной меры богатства, уделенного великим целям человеческой деятельности, остаток которого возможно потратить на предметы роскоши, однако помимо эгоистического наслаждения роскошью существует и другое, более величественное и похвальное, а именно – способность поставить некую долю этого богатства на службу священным целям, принести ее в память того, что как наше удовольствие, так и наш труд освящены воспоминанием о Нем, давшем нам и силы, и воздаяние. До тех пор пока это не будет осуществлено, мне неясно, как можно владеть подобной собственностью со спокойной душой. Мне непонятно стремление, побуждающее перекрывать аркой вход в наши дома и мостить крыльцо, оставляя в церкви узкие двери и стертый подошвами порог; стремление украшать наши жилища всевозможными дорогостоящими вещами и вместе с тем мириться с голыми стенами и скудным убранством храма. Делать столь суровый выбор приходится нечасто, нечасто требуется и столь большое самоотвержение. Встречаются особые случаи, когда душевное равновесие и умственная активность человека зависят от определенного уровня роскоши в его домашней обстановке, но тогда это подлинная роскошь, которая приносит чувственное наслаждение и хорошо окупается. [6 - Числ. 31: 54; Пс. 76: 12. – Примеч. авт.]Во множестве других примеров ни о роскоши, ни о наслаждении ею речь не идет: обычные ресурсы среднеобеспеченного человека не позволяют никаких излишеств, а доступные блага удовольствия не доставляют, и без них вполне можно обойтись. В нижеследующих главах будет показано, что я вовсе не ратую за убожество частных жилищ. Я с радостью придал бы им всяческое великолепие, красоту и ухоженность, где только это возможно; однако отвергаю бесполезные траты на никем не замечаемые ухищрения и прикрасы: потолки с карнизами и двери с имитацией дорогих пород дерева; занавеси, отделанные бахромой, – и тысячи подобных ненужностей; эти предметы вздорным и бессмысленным образом сделались привычными; от их повседневного использования зависит существование целого ряда ремесел, но сами они не доставляли ни единого проблеска радости и не влекли за собой даже малейшей надобности; стоящие половину жизненных трат, они лишают жизнь огромной доли комфорта, мужественности, респектабельности, свежести и удобства. Говорю, опираясь на собственный опыт: я знаю, что значит жить в хижине с деревянным полом и дощатой крышей и с очагом из слюдяных плит, и уверен, что такая жизнь во многих отношениях гораздо здоровее и счастливее, нежели жизнь между турецким ковром и позолоченным потолком, близ каминной решетки из полированной стали. Не возьмусь утверждать, будто эти предметы обихода всегда неуместны и неправомерны, однако хочу настойчиво подчеркнуть, что десятой части расходов на тщеславные домашние причуды, порой совершенно бессмысленно потраченных на дополнительные неудобства, оказалось бы достаточно для строительства на общие взносы церквей из мрамора во всех городах Англии; такая церковь, радуя взоры даже случайных прохожих, озабоченных повседневными делами, даровала бы благодать и всем, кто только ее завидит, когда возвышалась бы она над скромными крышами, крытыми красной черепицей.
VIII. Я сказал: во всех городах, но я вовсе не призываю строить церкви из мрамора в каждой деревушке; для меня построение богатой церкви – вовсе не самоцель; мне важен духовный порыв, побуждающий ее строить. Церковь совершенно не нуждается в какой бы то ни было внешней пышности: ее сила не в пышности, – напротив, незапятнанная чистота церкви в определенной степени ей противоположна. Простота приходского алтаря притягательнее величия городского храма, и едва ли это величие могло когда-либо способствовать росту благочестия, однако для строителей храма оно, несомненно, было и впредь будет таковым. Не сама церковь нам потребна, но жертва; не восхищение, но поклонение; не получение дара, но дарение[7 - Много внимания в последнее время уделяется религиозному искусству, и мы теперь располагаем всевозможными толкованиями и классификациями и его, и основных фактов его истории. Но самый большой вопрос из всех, с ним связанных, остается совершенно открытым: что дало оно истинной религии? Ни по одному другому вопросу я не был бы так рад видеть серьезное и добросовестное исследование – исследование, предпринятое не в состоянии художнического энтузиазма или монашеской созерцательности, но настойчивое, беспощадное и бесстрашное. Я люблю религиозное искусство Италии, как и большинство людей, но есть большая разница между любовью к нему как проявлению индивидуального чувства и отношением к нему как к средству достижения общего блага. Я не имею достаточных познаний, чтобы сформировать хоть какое-то мнение по последнему из этих двух пунктов, и был бы весьма признателен любому, кто помог бы мне это сделать. Тут, на мой взгляд, надо рассмотреть три отдельных вопроса. Первый – каково воздействие внешнего великолепия на искренность и убежденность христианского богослужения? Второй – какова цель живописного или скульптурного изображения в передаче христианского исторического знания или в пробуждении религиозного чувства? Третий – как занятие религиозным искусством отражается на жизни художника?Отвечая на эти вопросы, нам следовало бы отдельно рассмотреть каждое косвенное влияние и обстоятельство и путем самого тонкого анализа отделить подлинное воздействие искусства от воздействия постороннего, с которым оно было связано. Это мог бы сделать только христианин; не любой человек, который зачарован восхитительным цветом и восхитительной выразительностью, но тот, для кого главной целью является подлинная вера и соотнесенная с ней жизнь. Это еще никогда не делалось, и этот вопрос остается предметом бесконечных тщетных споров между партиями, представляющими противоположные предрассудки и темпераменты.]. Вдумайтесь, насколько уяснение этой мысли способно стимулировать благотворительность со стороны лиц, придерживающихся противоположных убеждений, и насколько больше благородства в самой работе. Нет ни малейшей нужды оскорблять взор назойливой, самодовольной роскошью. Изваять пару колонн из порфира, стоимость которого понятна только тем, кто захотел использовать его именно с этой целью; потратить месяц-другой дополнительного труда на отделку капителей, чью изысканность едва ли заметит и оценит по достоинству хотя бы один из десяти тысяч; проследить, чтобы обычная каменная кладка была безупречна и основательна, – для тех, кто способен все это увидеть, этого окажется достаточно, во всяком случае, не будет оскорблять их чувств. Не следует считать такие чувства причудой, а сам поступок бесцельным. Какую пользу принесла дорого купленная вода из Вифлеемского колодца, которой царь Израиля увлажнил прах Одоллама? Но разве лучше было бы, если бы он ее выпил? Какая польза была в пылкой жертве христианки, осуждение которой, впервые произнесенное лживым языком, мы ныне отвергаем как несущее в себе зловещее предзнаменование? Посему не станем задаваться вопросом, какую пользу принесет церкви наше подношение: для [8 - Ин. 12: 5. – Примеч. авт.]нас в любом случае оно лучше, нежели если бы мы сохранили его для себя. Оно может стать благом и для других, – по крайней мере, вероятность этого сохраняется, хотя мы всячески и со страхом должны гнать прочь даже мысль, что великолепие храма способно существенно повлиять на выгоды от нашего поклонения и силу молитвы. Что бы мы ни предпринимали и какие жертвы ни предлагали бы, пусть сохранится простота первого и не умалится пылкость второй. В том-то и состоит извращенное заблуждение католицизма, прямо противоречащее истинному духу христианского жертвоприношения. Преимущественная задача папистского храма – показная демонстрация: самоцельная отделка наружного вида; вред и опасность католического церковного убранства заключаются не в нем самом, не в его богатстве и не в искусстве его исполнения, о которых низшие сословия просто не подозревают, но в помпезности и мишурности, в позолоте святынь и раскрашенности статуй, в пышно расшитых выцветших одеяниях и скоплении поддельных драгоценностей; все это часто выдвигается в центр внимания ради сокрытия действительных достоинств и величия церковных сооружений[9 - Меня нередко удивляет предположение, что католицизм в настоящем состоянии мог бы либо покровительствовать искусству, либо извлекать из него пользу. Благородные витражи церкви Сен-Маклу в Руане и многих других церквей во Франции совершенно заслонены сооруженными за алтарем огромными нагромождениями позолоченных деревянных лучей с херувимами между ними.]. О приношении благодарности, вовсе не показном, за каковое не ждут награды, не рассчитывают снискать хвалу или купить спасение, католик и понятия не имеет.
IX. Хотя я, разумеется, особенно настоятельно отвергаю приписывание жертве какой-либо пригодности или полезности помимо той, какой она обладает в силу самого духовного порыва, его вдохновившего, стоит отметить и побочную выгоду, неизменно сопровождающую почтительное следование любому высокому принципу. Начатки плодов требовались от иудея как доказательство его верности, однако приношение таковых тем не менее всегда вознаграждалось умножением его урожая. Обеспеченность, долгая жизнь, спокойствие – вот что становилось обещанной и достоверной наградой за жертву, хотя получение этих благ отнюдь не являлось целью таковой. Десятина, вносимая в житницу, была непременным условием благоденствия, которое едва ли можно измерить. И так должно быть вовек: Бог никогда не забывает приношений любви, и какими бы ни были плоды усилий и трудов, от которых Ему жертвовались первые и лучшие доли, Он увеличит и умножит их семикратно. Итак, хотя религия и не нуждается в искусстве, само это искусство никогда не достигнет расцвета, если изначально не посвятит себя Божественному служению – как со стороны архитектора, так и нанимателя: первого – посредством ревностного, скрупулезного, любовно разработанного проекта; второго – готовностью на затраты, по крайней мере более щедрые, чем при тратах на собственные нужды. Давайте же раз и навсегда четко усвоим этот принцип: как бы его ни пытались отвергать, сколь бы слабо ни сказывался он на практике, насколько ни умалялась бы его святость противодействием тщеславия и эгоизма, его признание само по себе несет награду, а изобилие средств и богатство интеллекта, коими мы ныне располагаем, придадут искусству новый стимул и воодушевят его силу и жизненность, неведомые нам с тринадцатого столетия. Все это, как я убежден, не может являться ничем иным, как только самым естественным следствием: когда возвышенные духовные силы применены мудро и в религиозных целях, они не могут не дать большую отдачу; попросту говоря, этот принцип надежен; он естественным образом вытекает из подчинения двум главным условиям, к коим обязывает Дух Жертвы: первое – в любом деле необходимо делать все от тебя зависящее; второе – зримые свидетельства труда, вложенного в постройку, умножают его красоту. Вот несколько практических выводов из сказанного.
X. Касательно первого: для достижения успеха одного этого условия достаточно, и неудачи постоянно нас сопровождают именно потому, что мы им пренебрегаем. Среди нас нет настолько хороших архитекторов, чтобы привычно работать ниже своих возможностей, однако из известных мне зданий, возведенных недавно, нет ни одного, где и архитектор, и строители выложились бы сполна. Это отличительная особенность современного труда. Почти всякая работа в старину была тяжкой. Тяжко трудились дети, варвары, сельские жители, но трудились они всегда с наибольшим напряжением сил. Мы же то и дело работаем с оглядкой на денежную выгоду, готовые при первой же возможности сложить руки, вяло миримся с низкими требованиями, не прилагая особых усилий. Давайте немедля покончим с подобной работой: отбросим малейшие попытки поддаться соблазну, не позволим себе впасть в добровольную деградацию, а затем невнятно сокрушаться о своих недостатках; давайте открыто сознаемся в собственной бедности или скаредности, но не станем возводить клевету на человеческий интеллект. Вопрос даже не в том, сколько должны мы сделать, а в том, чтобы делать лучше. Не будем украшать потолки жалкими, грубо вырезанными розетками с тупыми краями, не будем ставить по обеим сторонам ворот жалкие имитации средневековых скульптур. Такие поделки только оскорбляют здравый смысл и лишают нас способности ощутить благородство прообразов. Положим, на украшение дома предстоит потратить столько-то и столько-то: обратимся к какому-нибудь современному Флаксману, предложим ему высечь для нас статую, изготовить фриз или капитель – в том количестве, какое позволят нам наши средства, поставив перед ним единственное условие: чтобы они были лучшим творением его рук; поместим эти произведения искусства там, где они будут иметь наибольшую ценность, и этим удовольствуемся. Пусть прочие капители останутся простыми блоками, а прочие ниши будут пустовать. Это несущественно: лучше оставить работу незавершенной, нежели законченной, но плохо. Возможно, что столь изысканные украшения нежелательны: изберем в таком случае менее совершенный стиль, а равно и, если угодно, материал погрубее; провозглашаемое нами правило сводится к требованию выбирать лучшее из любой разновидности: вместо фриза и статуй Флаксмана отдайте, скажем, предпочтение норманнской резьбе, но пусть эта резьба будет совершенной; если мрамор вам не по средствам, используйте канский камень, однако из наилучшего пласта; если не камень, то кирпич, однако отборный кирпич; всегда предпочитайте лучшее из более простого материала или работы плохому из дорогого материала и дорогой работы, поскольку это не только способ достичь совершенства в любой работе и из любого материала, но это будет и честнее, и скромнее, а кроме того, это соответствовало бы прочим справедливым, прямым и мужественным принципам, применение которых мы рассмотрим ниже.
XI. Мы отметили и еще одно условие: высоко ценятся зримые свидетельства того, что в архитектуру вложен немалый труд. Мне уже доводилось говорить об этом ранее: тут таится один из главных источников удовольствия, даруемого архитектурой, хотя это удовольствие имеет и свои границы. Нелегко сразу объяснить, почему напрасно потраченная работа с ценным материалом не вызывает у нас ощущения ошибки, но видеть бесцельную трату усилий мастера всегда тяжело. Тем не менее это так: драгоценные материалы могут без счета применяться ради вящего великолепия мало кому видимых сооружений и их частей, но пустой расход человеческого труда воспринимается как нарушение божеских законов; поделиться драгоценным материалом во имя высокой цели иной раз бывает и полезно, а вот тратить бесцельно Божественный дар творческого созидания противно замыслу Творца. Равновесие между духовными усилиями, с одной стороны, и бесплодным их расточением – с другой, вызывает больше вопросов, нежели ответов, если рассматривать их со всей справедливостью и осмотрительностью. Вообще нас задевает не столько бесплодная трата усилий, сколько недомыслие, к ней ведущее; так, мы довольно терпимы к тем случаям, когда, работая ради самой работы, люди делают это вполне сознательно, а не потому, что не знают, как привлечь к ней чье-то внимание. Наоборот: мы испытываем удовольствие, если усилия тратятся из принципа или с целью избежать обмана. Этот закон, вообще-то, следовало бы отнести к другой части нашего исследования, однако нам, вероятно, будет позволено отметить уже сейчас следующее: если некоторые части строящегося здания, скрытые от глаз, являются продолжением других, видимых частей и вдоль этих последних тянется орнамент, то было бы нехорошо не распро[10 - Современные художники. Часть I, раздел I, глава 3. – Примеч. авт.]странить этот орнамент на скрытые элементы; поступить так значило бы обмануть доверие; это касается, например, задней стороны статуи, установленной на фронтон храма: возможно, никто и никогда не увидит ее, но оставить отделку этой части незавершенной было бы противно правилам. То же относится к орнаменту в темных или потаенных местах, где лучше сделать лишнее, чем недоделать, и к пояскам, идущим по кругу, и к прочим протяженным деталям; это не значит, что орнамент нельзя оборвать, если он устремляется в недоступный угол, но тогда пусть он будет оборван смело и откровенно, каким-нибудь отчетливым завершением, без намеков на то, что он существует там, где его на самом деле нет. Трансепты Руанского собора увенчаны по бокам башнями, и в пазухах свода там имеются розетки с трех видимых сторон, но не с той, которая обращена к крыше. Правомерно ли это – вот вопрос, который имеет смысл обдумать.
XII. Доступность для зрения, однако, зависит, как следует помнить, не только от местоположения, но и от расстояния: самым прискорбным и неразумным образом труд архитектора теряется именно вследствие чрезмерно утонченной проработки деталей, слишком далеко отстоящих от глаз. Здесь, впрочем, также следует руководствоваться принципом добросовестности: орнамент, который, возможно, предназначен для украшения здания в целом, нельзя отделывать скрупулезно там, где он на виду, и небрежно там, где он не виден. Это жульничество и бесчестность. Обдумайте сначала какие архитектурные украшения будут выигрышно выглядеть издали, а какие вблизи, и распределите их соответственно: более изысканные по своему характеру – ниже, перед глазами; другие – погрубее и примитивнее – поместите наверх; если же некой их разновидности предстоит находиться и близко, и на расстоянии, позаботьтесь об отделке – равно грубой и примитивной в обоих случаях, дабы зритель имел четкое представление о том, что она такое и чего стоит. Так, клетчатый орнамент – и вообще орнамент, посильный для заурядного работника, – может простираться на все здание, однако барельефы, тонкую пластику в нишах и капители следует располагать внизу: здравый подход всегда придаст постройке нужные достоинства, даже при определенной неловкости и неуклюжести исполнения. К примеру, в церкви Сан-Дзено в Вероне барельефы, очень уместные и исполненные значимости, сосредоточены внутри параллелограмма на фасаде, достигая капителей колонн портика. Выше мы видим простую, но в высшей степени очаровательную аркадку, а над ней – только глухую стену с прямоугольными пилястрами. Общее впечатление намного величественней и выгодней, чем если бы весь фасад был изукрашен грубой резьбой и мог бы служить примером того, как обходятся малым там, где нельзя позволить многое. Опять-таки, порталы трансепта в Руане обрамлены изощренными барельефами (о которых я буду говорить подробно ниже), возвышающимися примерно до полуторакратного человеческого роста, а выше находятся обычные и хорошо различимые статуи и ниши. То же самое во флорентийской кампаниле: замкнутая цепь барельефов на самом нижнем ярусе, над ними – статуи, а еще выше – узорная мозаика и витые колонны, законченно совершенные, как и всё в итальянском искусстве того времени, но тем не менее в глазах флорентийца – неотделанные и грубые в сравнении с барельефами. Наиболее утонченно отделанные ниши и лучшие лепные украшения французской готики располагаются, как правило, на порталах и невысоко поднятых над землей окнах, хорошо доступных глазу; хотя, поскольку самой сутью этого стиля являлся расчет на эффект, достигаемый благодаря избыточности, подчас наблюдается устремленность ввысь, в небо, как на фронтоне западного фасада Руана и в углублении круглого окна-розы за ним, где помещены весьма изощренные лепные украшения в виде цветов, едва видимые снизу и лишь усиливающие игру теней, придающих контрастность выдвинутому вперед фронтону. Примечательно, однако, что изделия эти представляют собой образец дурной пламенеющей готики и обладают извращенными, характерными для Ренессанса признаками как в работе над деталями, так и в самом их применении; тогда как построенные ранее и более величественные северный и южный входы отличаются благородством отделки: ниши и статуи, венчающие северный вход на высоте приблизительно сотни футов от земли, равно грандиозны и незамысловаты при взгляде снизу, но и наверху они отделаны добросовестно и полноценно; очертания их прекрасны, предельно выразительны и столь же искусно доведены до совершенства, как всякое произведение искусства того времени.[11 - Здесь и далее, удобства ради, под аналогичным наименованием города позвольте мне подразумевать находящийся в нем кафедральный собор. – Примеч. авт.]
XIII. Необходимо, впрочем, помнить, что, хотя украшения каждого старинного здания (насколько мне известно, исключений здесь нет) у цоколя имеют самую тщательную отделку, в верхних частях их часто еще больше. В высоких башнях это совершенно естественно и правомерно: целостность основания здесь так же обязательна, как и расчлененность и проницаемость надстройки; отсюда большая легкость и ажурность позднеготических башен. Уже упоминавшаяся колокольня Джотто во Флоренции – великолепный пример единства этих принципов: утонченные барельефы украшают массивный фундамент, тогда как сквозное кружево верхних окон привлекает взгляд изысканной затейливостью, а все здание увенчано роскошным карнизом. Во всех подобных случаях, когда размещение выполнено удачно, отделка верхней части здания хорошо выглядит благодаря изобилию и затейливости, нижние же части – изысканности; именно так обстоит дело в руанской Тур-де-Бёр, где, впрочем, детали всюду массивны, однако по мере подъема вверх делаются все более расчлененными. Этот принцип нельзя применять с той же уверенностью для главных объемов зданий, однако разбор его выходит за рамки нашей темы.
XIV. Наконец, работа может оказаться растраченной впустую потому, что либо слишком хороша для выбранного материала, либо слишком тонко исполнена и пригодна только для интерьера, что стало, начиная с Ренессанса, вероятно, одним из худших недостатков современных зданий. Не знаю ничего более тягостного и прискорбного, нежели резьба из слоновой кости, которой инкрустированы Certosa в Павии и часовня склепа Коллеоне в Бергамо, думать о которой утомительно и даже просто смотреть на нее мучительно. Причиной тому – не изобилие и не скверное исполнение, напротив, оно искусно и изобретательно: нет, вид у этой резьбы такой, словно она пригодна лишь для хранения не то в инкрустированных деревянных ларцах, не то в выложенных бархатом шкатулках и не способна выдержать ни ливня, ни заморозка. Мы боимся за нее и чувствуем, что массивная колонна, рельефная тень удачно заменили бы всю эту роскошь. Тем не менее даже в подобных случаях многое зависит от того, насколько архитектурная отделка достигает своей цели. Если это действительно украшение и возникающая благодаря ему светотень влияет на общий эффект, нас не покоробит открытие, что скульптор от избытка фантазии не ограничился просто бликами, а скомпоновал из них группы фигур. Но если украшение себя не оправдывает, не способно действовать на расстоянии, если при беглом взгляде оно кажется просто ни о чем не говорящей неровностью поверхности, то мы лишь расстроимся, когда, подойдя поближе, обнаружим, что оно стоило не одного года труда, изображает великое множество фигур и историй и было бы лучше рассматривать его через лупу Стенхопа. В том и заключается величие северной готики по сравнению с поздней итальянской. Она достигает почти такой же степени детализации, не упуская собственного архитектурного смысла, никогда не утрачивает декоративной силы: даже крохотный листок в ней много говорит взгляду, в том числе и на большом расстоянии; а раз так, то не существует ограничений для роскошеств, в которых подобная работа может быть и оправданной, и уместной.
I. Орнаменты из Руана, Сен-Ло и Венеции
XV. Никаких границ: архитекторы любят говорить о перегруженности украшений деталями. Если украшения хороши, они не вызывают чувства избыточности; если плохи – всегда излишни. Привожу на соседней странице (рис. I, 1) изображение одной из самых малых ниш центрального портала Руана. Этот портал я считаю наиболее совершенным образцом пламенеющего стиля из числа существующих; хотя я вижу в верхней части, в особенности в заглубленном окне, свидетельства упадка, сам портал относится к периоду, свободному от губительного влияния Ренессанса. По обеим сторонам крыльца расположены четыре ряда ниш (каждая с двумя фигурами внизу) высотой от земли до верха арки, с двумя промежуточными рядами ниш большего размера и гораздо более проработанных; кроме того, здесь расположены шесть балдахинов на каждом из внешних столбов. Общее число одних только второстепенных ниш, каждая из которых проработана так, как показано на рисунке, причем в каждом отделении каждой из них представлен различный образчик ажурного узора, составляет сто семьдесят шесть[12 - Я, конечно, не изучал все семьсот четыре узора (по четыре в каждой нише), дабы убедиться, что ни один из них не повторяется; но они выглядят постоянно меняющимися, и даже розы подвесных украшений в маленьких нишах с крестовым сводом все имеют разный узор.]. И однако во всем этом орнаменте не найти ни единого выступа, ни единого флерона, которые были бы никчемны, ни единого напрасного взмаха резца; изящество и роскошь целого очевидны – точнее, осмысленны – даже для праздного взора; и вся эта предельная скрупулезность нисколько не умаляет величественности, разве что усугубляя тайну прекрасного нерасчлененного свода. Уместность украшений не может служить предметом гордости для одного стиля, как для другого – отсутствие необходимости в них; однако мы не слишком часто задумываемся над тем, что эти самые стили, преимуществом которых считается показная простота, столь привлекательны благодаря контрасту, а став универсальными, наводили бы уныние. Эти стили – скучная повседневность искусства: куда более возвышенными и упоительными восторгами мы обязаны прекрасным фасадам с пестрой мозаикой, где теснятся причудливые фантазии, сонмы смутных образов, многочисленней и чудесней которых не рождал ни один сон в летнюю ночь, эти сводчатые порталы, тесно оплетенные листвой, эти окна-лабиринты из витых кружев и звездчатых просветов, эти неясные громады бессчетных шпицев и увенчанных коронами башен предстают нашим глазам как единственные, быть может, свидетельства веры и благоговейного трепета давних поколений. Все прочее, ради чего строители приносили жертвы, миновалось – все их злободневные заботы, цели, достижения. Нам неведомо, ради чего они трудились, неочевидна для нас полученная ими награда. Победы, богатство, власть, счастье – все исчезло, хотя и куплено было ценой многих горьких жертв. Но от ушедших поколений, от их жизни, от их земных трудов осталась нам единственная память, единственное их вознаграждение – в виде вот этих серых груд старательно обработанного камня. Наши предки взяли с собой в могилу свои силы, свои почести и свои просчеты, но оставили нам одно – свое поклонение.
Глава II
Светоч Истины
I. Существует явное сходство между нравственностью человека и освещенностью планеты, на которой он живет, – такое же ослабление света по мере отступления к пределам собственных владений, та же существенная удаленность от своей противоположности, тот же неясный сумрак, отделяющий от нее, – не четкая линия, а полоса постепенно сгущающегося мрака, в который погружается мир, – призрачные сумерки души, нейтральная область, где целеустремленность постепенно переходит в фанатизм, умеренность – в нетерпимость, справедливость – в жестокость, вера – в суеверие, и в конце концов все вместе тонет в непроглядной тьме.
Тем не менее, когда сумрак сгущается окончательно, несмотря на смутность и постепенность его наступления, мы можем отметить мгновение заката и, к счастью, можем повернуть тень вспять, заставив ее убывать тем же путем, по которому она надвигалась; но, во-первых, горизонт неровен и неясен, а во-вторых, сам экватор – Истина – это единственная четкая, неразмытая черта, а ее постоянно норовят стереть или проигнорировать, она же и ось земли – облачный столп, тонкая золотая линия, но ее так трудно придерживаться даже тем силам и добродетелям, которые на нее опираются, ее искажают политика и благоразумие, ее затушевывают доброта и любезность, заслоняет своим щитом храбрость, воображение прикрывает своим крылом, а милосердие затуманивает слезами. Как же трудно ей сохранять свое влияние, если, будучи призвана сдерживать все худшее в человеке, она должна также сдерживать и сумбур всего лучшего в нем, тогда как, с одной стороны, ее постоянно попирают, а с другой – от нее отступают, а она с одинаковой строгостью отвергает как малейшее, так и грубейшее нарушение своих установлений. Любовь мирится с недостатками, мудрость терпима к ошибкам, и только истина бескомпромиссна и непогрешима.
Мы же об этом не задумываемся и не боимся понемногу грешить против нее. Ложь мы привыкли замечать только в ее неприглядности, сквозь призму ее худших намерений. Неприятие, которое вызывает у нас ложь, на самом деле относится только ко лжи злонамеренной. Мы осуждаем клевету, лицемерие и предательство, потому что они наносят нам ущерб, а не потому, что они противны истине. Если бы не вред и урон, наносимые ложью, мы ничего не имели бы против нее, а в виде похвалы она нам даже приятна. И все же клевета и предательство – не самое распространенное зло в мире, они доступны разоблачению и ощутимы только после него. А вот любезная и вкрадчивая ложь, сладкая лесть, патриотичная ложь историка, предусмотрительная ложь политика, пламенная ложь фанатика, сострадательная ложь друга, легкомысленный самообман, свойственный любому из нас, – все это набрасывает на человеческую природу непроницаемую темную пелену. И мы благодарим тех, кто помог нам проникнуть к истине сквозь эту пелену, как благодарят того, кто вырыл в пустыне колодец. Ибо, к счастью, несмотря на то, что мы сознательно покинули истоки истины, жажда ее знать все-таки нас не покидает.
Моралисты часто путают два понятия, отличные друг от друга: тяжесть греха и его непростительность. Степень вины зависит, с одной стороны, от характера обманутого человека, а с другой – от следствий обмана. Можно ли простить обман или нет – чисто по-человечески – зависит от того, насколько принуждают к этому обману обстоятельства: одни обстоятельства отягчают степень вины, другие же, наоборот, оправдывают обман. И поскольку людям сложно оценить тяжесть вины, равно как и последствия обмана, они предпочитают не давать подобного рода оценок, а обратиться лучше к другим, более явным преступлениям, совершенным под наименьшим давлением обстоятельств. Я нисколько не намерен преуменьшать вину зловредного и злонамеренного лжеца, умышленно прибегающего к обману в корыстных целях; но все же мне кажется, что кратчайший способ борьбы с наиболее вопиющими формами обмана состоит в том, чтобы внимательнее относиться к тем его проявлениям, которые незаметно и безнаказанно вошли в повседневный обиход. Давайте вообще перестанем лгать. Перестанем оправдывать ложь тем, что она безобидна, или незначительна, или непреднамеренна. Откажемся от нее полностью – от самой ничтожной и случайной; вся она, словно мерзкая копоть из преисподней, оседает в наших сердцах, очистимся от нее, не разбирая, насколько она черна и отвратительна. Говорить правду – все равно что грамотно писать – этому можно научиться, только постоянно упражняясь; это зависит не столько от желания, сколько от привычки. Говорить правду и поступать по правде постоянно и неотступно – почти так же трудно и так же похвально, как и делать это под страхом наказания; поразительно, сколь многие готовы ради правды жертвовать жизнью и сколь немногие готовы ради нее терпеть хоть малейшие неудобства в повседневной жизни. И, зная, что из всех грехов, пожалуй, нет ни одного, столь противоположного Божественному началу, добродетели и жизни, как ложь, было бы неслыханной дерзостью запятнать себя ложью просто так, без всякого давления обстоятельств. Стать честным человеком – значит решить для себя, что никакие иллюзии или заблуждения, которые навязывает нам неумолимая жизнь, не бросят тень на наши сознательные поступки и не изменят подлинную сущность выбранных нами идеалов.
II. И если вышесказанное справедливо и мудро, когда мы говорим об истине, то тем более это распространяется и на все, что находится под влиянием истины. Я доказывал необходимость проявления Духа Жертвы в отношении человеческих поступков и удовольствий не потому, что это могло бы продвинуть вперед дело религии, но поскольку сами человеческие поступки, безусловно, были бы этим бесконечно облагорожены, и я хотел бы находить Дух или Светоч Истины в сердцах художников и мастеров не потому, что верность истине в искусстве могла бы далеко продвинуть дело истины, но для того, чтобы сами искусства и ремесла преисполнились благородства: поистине поразительно, какая власть и непреложность заключена в одном этом принципе и насколько от следования ему или от его забвения зависит возвышение или упадок любого искусства и любой человеческой личности. Я уже пытался показать влияние и силу Духа Истины в живописи, и, думаю, не одну главу, а целый том можно было бы написать о его значении для величия архитектуры. При этом я вынужден удовольствоваться немногими самыми известными примерами, учитывая, что его проявление легче обнаружить в верности истине, нежели в рассмотрении того, что есть истина.
Но прежде необходимо определить, в чем состоит отличие неправды от художественного вымысла.
III. На первый взгляд все царство воображения есть сплошной обман. Однако это не так: воображение всегда обращается к предметам отсутствующим или несуществующим, именно в их познании и созерцании состоит наслаждение и благородство воображения, то есть в сознании невозможности их фактического присутствия или существования в момент их кажущегося присутствия или существования. Когда воображение нас обманывает, наступает безумие. Воображение остается свойством возвышенным до тех пор, пока оно признает собственную идеальность, а переставая признавать ее, оно превращается в безумие. Вся разница состоит в этом признании, в отсутствии обмана. Обладая духовной сущностью, человек наделен способностью выдумывать и созерцать то, чего на самом деле нет, а обладая сущностью нравственной, он должен в то же время сознавать и признавать, что этого на самом деле нет.
IV. Опять-таки, можно считать и считалось, что искусство живописи в целом есть не что иное, как стремление обмануть. Но это не так: напротив, это утверждение определенных фактов наиболее ясным способом. Например: я хочу рассказать о какой-то горе или скале; сначала я стану на словах описывать ее форму. Но слов окажется недостаточно, и я, взяв лист бумаги, попробую ее нарисовать и скажу: «Такова ее форма». Далее: я наверняка постараюсь передать ее цвет, но словами это сделать также не удастся, и я раскрашу рисунок и скажу: «Таков ее цвет». Это может продолжаться до тех пор, пока не возникнет изображение, неотличимое от реального предмета, и видимое присутствие этого предмета доставит нам немалое удовольствие. Это акт воображения, а не обман. Обман может заключаться только в утверждении действительного присутствия (которое никогда ни на миг не допускается, не подразумевается и не принимается на веру) или в неправильной передаче формы и цвета (что, увы, нередко происходит и вводит нас в заблуждение). Заметим также, что обман сам по себе – явление столь разрушительное, что всякая живопись, достигая буквального воспроизведения реальности, начинает деградировать. Я уделил этому внимание в другом месте.
V. Нарушение истины, унижающее поэзию и живопись, по большей части может быть сведено к трактовке предмета. В архитектуре же возможно другое, более явное, более предосудительное попрание истины – прямой подлог, касающийся природы материала или количества затраченного труда. Речь идет о неправде в полном смысле этого слова, которая так же заслуживает осуждения, как любая безнравственность; она одинаково не достойна как архитекторов, так и наций; и повсюду, где бы она ни была распространена и допущена, она служит признаком явной деградации искусства. То, что это не признак худшего – общего отсутствия честности, может быть объяснено только нашим представлением о том странном разделении, которое веками существовало между искусством и всеми другими проявлениями человеческого разума в вопросах совести. Исключение добросовестности из числа качеств, важных для искусства, разрушая само искусство, сводит на нет его способность обнаруживать характер создавшей его нации; иначе сколь странно было бы, что такая нация, известная своей честностью и благородством, как англичане, может допустить в своей архитектуре больше притворства, скрытности и обмана, чем любая другая в наше время или когда-либо в прошлом.
Происходит это по недомыслию, но оказывает на искусство пагубное воздействие. Если бы не было других причин, вызывающих в последнее время неудачи в любом значительном архитектурном начинании, то и одного этого мелкого мошенничества было бы достаточно. Покончить с ним необходимо, чтобы сделать первый решительный шаг на пути к величию; сделать этот первый шаг – несомненно всецело в нашей власти. Если даже мы не в силах создать значительную, прекрасную и оригинальную архитектуру, то мы можем создать честную архитектуру: можно простить ограниченность наших возможностей вследствие бедности, уважать строгость целесообразности, но низость обмана не заслуживает ничего, кроме презрения.
VI. Архитектурные подделки можно разделить на три основные категории:
1. Имитация конструктивных элементов и опор, не являющихся таковыми на самом деле; например, висячие орнаменты крыш в поздней готике.
2. Живописное украшение поверхностей, изображающее материал иной, чем тот, из которого они сделаны на самом деле (например, роспись дерева под мрамор), или иллюзорные изображения скульптурных украшений на поверхности.
3. Использование литых или механически изготовленных украшений любого рода.
Одним словом, архитектура будет благородна в той мере, в какой она избежит всех этих подделок. Существуют, однако, определенные их разновидности, которые в силу частого их применения или по другим причинам не воспринимаются как подделки. Например, позолота, которая в архитектуре не является обманом, ибо там ее никогда не выдают за работу из цельного золота, тогда как в ювелирном деле позолота является обманом, ибо имитирует изделие из чистого золота, а потому обычно достойна осуждения. Таким образом, применение строгих правил подразумевает немало исключений и тонкостей, которые мы попробуем вкратце рассмотреть.
VII. 1. Подделка конструкций. Я упомянул прием, при котором намеренно создается видимость опоры, иной, чем подлинная. Архитектор не обязан демонстрировать конструкции; и мы не можем сетовать на него за то, что он их скрывает, как не сетуем мы на природу, которая, создав человеческое тело, скрывает скелет; однако наиболее благородным представится просвещенному взору то здание, которое раскрывает подлинные конструкции, подобно форме тела у животных, хотя от невнимательного взора эта суть скрыта. Своды готического собора не обманывают нас, демонстрируя перенос тяжести на ребра, оставляя заполнению роль простой оболочки. Такая конструкция понятна умному наблюдателю с первого взгляда, а красота ажурной каменной работы только возрастет, если она будет следовать силовым линиям несущей конструкции. А вот если бы промежуточное заполнение было сделано из дерева, а не из камня и побелено, чтобы не отличаться от других поверхностей, это, конечно, был бы совершенно непростительный прямой обман.
В готической архитектуре есть, однако, некоторый неизбежный обман, касающийся не существа, а оформления несущих элементов. Колонны и нервюры напоминают стволы и ветви дерева, что дало почву довольно нелепым рассуждениям и неизбежно внушает наблюдателю мысль о соответствующей внутренней структуре, то есть о непрерывности волокон, переходящих из корней в ветви, и об упругой силе, направленной вверх. То, что на самом деле своды с огромной силой давят на тонкие составные нервюры, стремясь обрушить или разорвать их и выдавить наружу, воспринимается с трудом, а это тем более существенно, когда столбы без дополнительной помощи слишком тонки для такого веса и поддерживаются внешними контрфорсами, как в апсиде собора в Бове и в других образцах более зрелой готики. Возникает вопрос о добросовестности, который мы едва ли решим, не приняв во внимание, что если наш ум обладает представлением о подлинной природе вещей, исключающим возможность заблуждения, то впечатление, противоположное этому представлению, при всей своей отчетливости является не обманом, а, напротив, законным обращением к воображению. Например, удовольствие, которое мы получаем от созерцания облаков, во многом зависит от впечатления, будто облака представляют собой плотную, светящуюся, теплую холмистую массу; а наше удовольствие от созерцания неба часто связано с тем, что мы рассматриваем его как голубой свод. Но в обоих случаях мы знаем, что это не так, мы знаем, что облака – это скопления водяного пара или ледяных кристалликов, а небо – это темная бездна. Таким образом, никакого обмана тут нет, а прямо наоборот – есть наслаждение от впечатления явлений. Точно так же, поскольку камни и швы открыты нашему взору и мы не впадаем в заблуждение относительно опорных конструкций, мы должны не сетовать, а восхищаться ловкостью строителей, которые заставляют нас ощущать волокнистость стволов и жизнь, пульсирующую в ветвях. Ничего предосудительного нет и в том, что на самом деле опорой являются внешние контрфорсы, поскольку колонны отчасти соответствуют своему назначению. Ведь наблюдатель обычно понятия не имеет, насколько велик вес сводов, и, следовательно, предосторожности, предпринятые для необходимого распределения нагрузки, являются подробностью, в которую он не вникает. Поэтому, если поддерживаемый вес безусловно не осознается, нет никакого обмана в том, чтобы отвлечь внимание и от основных опор, подчеркнув те опоры, которые соответствуют создающемуся впечатлению тяжести. Ведь колонны на самом деле принимают на себя ту нагрузку, которая им приписывается, а система дополнительных опор не обязательно должна привлекать внимание, как и дополнительные приспособления человеческого или любого другого организма, необходимые для его функционирования.
Но если обстоятельства, связанные с весом, ясно читаются, тогда истина и наше чувство требуют, чтобы и обстоятельства, связанные с опорами, были явными. Ничего нет хуже с точки зрения вкуса или добросовестности, чем притворное отсутствие необходимой опоры – впечатление подвешенности в воздухе или другие подобные уловки и фокусы. В связи с этим мистер Хоуп справедливо порицает расположение основных пилонов Святой Софии в Константинополе. Капелла Королевского колледжа в Кембридже – пример архитектурного обмана более неблаговидного в силу меньшей величественности самого здания.
VIII. Если предосудительно сокрытие конструкции здания, то еще хуже – введение фальшивых элементов, изображающих функции, которых они на самом деле не имеют. Один из самых распространенных примеров этого – аркбутаны в поздней готике. Их функция – перенести нагрузку с одной опоры на другую, если в соответствии с планом здания необходимо или желательно, чтобы опоры группировались определенным образом; чаще всего такая необходимость возникает при наличии промежуточного ряда капелл или проходов между стенами нефов или хоров и их опорными столбами. Естественный и красивый способ устройства опоры представляет собой круто наклоненную каменную балку, поддерживаемую аркой, свод которой внизу постепенно переходит в вертикальную внешнюю опору, которая в плане не является квадратной, а скорее представляет собой фрагмент стены, расположенной перпендикулярно поддерживаемой стене и при необходимости увенчанной пинаклем, остроконечной башенкой, для придания ей большего веса. Пример такого сооружения можно видеть в великолепных аркбутанах собора в Бове. В более поздней готике пинакль постепенно превратился в чисто декоративный элемент и широко использовался только как украшение. В этом нет ничего плохого; вполне допустимо строить пинакль просто как красивую башенку; хуже, что и контрфорс тоже превратился в декоративный элемент и стал использоваться, во-первых, без всякой необходимости, а во-вторых, там, где исключалась его функциональность, стал всего лишь связкой не между стеной и опорой, а между стеной и вершиной декоративного пинакля, примыкая к стене в той точке, где его упор, если бы даже он присутствовал, не мог встретить сопротивление. Самый нелепый пример такого варварства, насколько я припоминаю (хотя это отчасти характерно для всех шпилей в Нидерландах), – это фонарь церкви Сент-Уэн в Руане, где прорезанный узорами контрфорс, с его вычурным изгибом, выглядит не более способным принять на себя упор, чем ивовый прутик, а пинакли, огромные и богато разукрашенные, явно вообще не несут никакой нагрузки, хотя стоят вокруг центральной башни, как четверо праздных слуг, каковыми на самом деле они и являются: это всего лишь геральдические символы, если учесть, что центральная башня – всего-навсего корона, полая внутри, которой подпорки нужны не более чем пустой корзинке. Собственно говоря, я не знаю ничего более нелепого и глупого, чем хвалы, расточаемые этому фонарю, одному из самых фальшивых сооружений в Европе. По вычурности узора, характерного для пламенеющей готики в ее последних и самых упадочных формах[13 - Мистер Уэвелл отмечает, что фигура лилии, образуемая перемычками узора, всегда свидетельствует о деградации этого стиля. Она встречается в центральной башне собора в Байё, в избытке в контрфорсах собора Сен-Жерве в Фалезе и в маленьких нишах некоторых жилых зданий в Руане. И переоценена не только башня церкви Сент-Уэн. Ее неф – простая имитация, в пламенеющий период, раннеготического расположения; ниши на его столбах являются варваризмами; огромный квадратный ствол проходит через своды боковых нефов, поддерживая столбы нефа – самый уродливый нарост, который мне доводилось видеть на готическом сооружении; узоры нефов – пример самой безвкусной и выродившейся пламенеющей готики; узоры верхнего ряда окон трансепта представляют собой странно искаженную форму перпендикулярного стиля; даже вычурный портал южного трансепта для этого высокого периода является нелепым и почти гротескным со своим лиственным узором и подвесками. В этой церкви нет ничего действительно прекрасного, кроме хоров, легкого трифория и его верхнего ряда окон, круга восточных капелл, деталей скульптуры и общей легкости пропорций; эти достоинства хорошо видны благодаря свободе основной части церкви от любых нагромождений.], по замыслу и исполнению он напоминает узоры из жженого сахара на торте и в той же мере заслуживает восхищения. Едва ли найдется хоть один из восхитительно ясных принципов ранней готики, который не был бы со временем постепенно испорчен и превращен в некое подобие самого себя, хотя подчас в его элементах и прослеживается первоначальный замысел, как, например, волокнистая древовидность, утратив свою суть, искаженная и истончавшая, остается только бледным призраком, пародией, имея такое же отношение к архитектуре, какое в Древней Элладе тень умершего имела к живому телу вооруженного воина[14 - Ср. «Илиаду», ?. 1. 219 и «Одиссею», ?. 1. 5–10.].
IX. Возможно, самым богатым источником подделок, которых нам следует ныне остерегаться, стало то, что возникает в «сомнительной форме» и с трудом поддается установлению закона и ограничению, – я имею в виду применение железа. Определение архитектуры как искусства, данное в главе первой, не зависит от используемых материалов. Тем не менее до начала нынешнего века архитектура использовала в основном глину, камень или дерево, в результате чего чувство пропорции и конструктивные каноны целиком или в немалой степени основывались на свойствах этих материалов. Так что переход к использованию металлических каркасов ощущается как отказ от основных принципов архитектуры. Вообще, использование железа так же правомерно, как и использование дерева, и наверняка недалеко то время, когда возникнет новая система архитектурных законов, соответствующая применению металлических конструкций. Но думаю, что вполне разумно сложившиеся вкусы в архитектуре следуют формам, основанным на применении старых материалов. Архитектура начала совершенствоваться раньше других искусств, а в силу жизненной необходимости она и появилась первой, поэтому она всегда, даже у любого самого варварского народа, будет предшествовать овладению навыками, необходимыми для получения или использования железа. Исходные принципы архитектуры сложились в результате использования материалов, доступных в необходимом количестве и находящихся под рукой, а это глина, дерево или камень. Одним из главных достоинств архитектуры является ее историческое содержание, а поскольку последнее отчасти зависит от преемственности стилей, то даже в условиях развития техники останется стремление как можно дольше сохранить формы, основанные на материалах и принципах предшествующих эпох.
X. Все, что касается размеров, пропорций, декора или конструкции, основано на разумном использовании материалов. А поскольку я, как, полагаю, и мои читатели, чувствую, что не способен избежать влияния этих устойчивых представлений, то позволю себе предположить, что истинная архитектура не станет использовать железо как конструктивный материал[15 - За исключением великолепного храма Марса у Чосера.А под холмом, прижат к стене откосной,Был храм, где чтился Марс Оруженосный,Из вороненой стали весь отлит;А длинный вход являл ужасный вид.Там слышен был столь дикий вой и рев,Что ворота дрожали до основ.Лишь с севера сквозь дверь струился свет:Отсутствовал окошка всякий след,Откуда б свет мог доходить до глаза,А дверь была из вечного алмаза,Обита крепко вдоль, и вширь, и вкосьЖелезом; и чтоб зданье не тряслось,Столп каждый изумительных палат,Сверкавший сталью, с бочку был в обхват.(«Рассказ рыцаря»)Кстати, перед этим дается восхитительное описание цветового решения в архитектуре:А с севера на башенке настеннойИз глыбы алебастра белопеннойС пурпуровым кораллом пополамДиане чистой драгоценный храмВозвел Тезей, как лишь царю под стать.] и что такие сооружения, как чугунный шпиль собора в Руане или железные кровли и опоры наших вокзалов и некоторых церквей, не имеют отношения к архитектуре. При этом очевидно, что металл может, а иногда и должен в определенной мере применяться в конструкциях – в виде гвоздей в деревянных и в виде заклепок и скоб в каменных конструкциях. Не можем мы также отказать готической архитектуре и в праве крепить статуи, шпили или ажурный декор с помощью железных стержней, а если мы допускаем это, то нам придется принять железные цепи Брунеллески вокруг купола собора во Флоренции или сложное железное крепление центральной башни собора в Солсбери[16 - «Этот способ связывания стен между собой с помощью железа, вместо того чтобы делать их из этого материала, чтобы они имели естественную прочность, – против правил хорошей архитектуры не только потому, что железо ржавеет, но и потому, что это обман: металл, прошивая конструкцию, укрепляет ее неравномерно, одна и та же опора может быть в одном месте в три раза прочнее, чем в другом, а на вид все одинаково прочно» (Описание собора в Солсбери, 1668, сэр К. Рен). Что касается меня, то, думаю, лучше связать башню железом, чем поддерживать фальшивый купол с помощью кирпичной пирамиды.]. Однако, чтобы избежать софизмов, надо отделить зерна от плевел и найти правило, которое поможет нам на чем-то остановиться. Это правило, на мой взгляд, состоит в том, что металл может использоваться в качестве элементов крепления, наподобие цемента, но не в качестве опоры. Поскольку другие вяжущие материалы часто столь сильны, что камни легче разбить, чем разобщить их по швам, и стена становится сплошной массой, а архитектура при этом не теряет своего лица, то нет причин, чтобы, когда тот или иной народ овладеет знанием и навыками работы с железом, не использовать вместо цемента металлические стержни и заклепки, обеспечив равную или большую прочность соединения и не допуская при этом отклонения от буквы и духа архитектуры, сформировавшейся к этому времени. Нет также никакой разницы, если не считать внешнего вида, будут ли применяемые таким образом металлические полосы или стержни находиться внутри стены или на внешней ее стороне, будут ли они продольными или поперечными, лишь бы назначение их было всегда безусловно таково, что позволяло бы заменить ими простую силу цемента. Что касается случаев, когда башенка или оконный проем подпираются или связываются железной полосой, то очевидно, что при этом железо только предотвращает распирание камней боковой силой, что делал бы цемент, имей он достаточную крепость. Но едва железо хоть в какой-то степени заменяет камень, выдерживает тяжесть и собственным весом противостоит распору или в виде стойки или перекладины выполняет работу деревянных балок, как здание, в котором допущено подобное применение металла, перестает быть произведением архитектуры.
XI. Обозначенный таким образом предел является окончательным, и следует с осторожностью приближаться к границе допустимого, ибо хотя оговоренное такими условиями применение металла не может считаться угрозой существованию и сущности архитектуры, но, становясь слишком неумеренным или частым, оно умаляет достоинство произведения и (что особенно важно для нашей темы) его честность. Ведь хотя зритель не осведомлен о качестве и силе используемого цемента, он будет в целом смотреть на камни как на раздельные элементы, и оценка навыков архитектора будет основываться в значительной мере на представлении об этом и на вытекающих из этого трудностях. Так что всегда достойнее в соответствии с более мужественными и профессиональными приемами в архитектуре использовать камень и строительный раствор сами по себе, обходясь, насколько возможно, весом первого и силой второго, поступаясь иной раз изяществом или признаваясь в слабости, чтобы не достигать первого и не скрывать второе средствами, граничащими с подлогом.
Но если конструкция так изящна и легка, как это бывает в некоторых частях самых прекрасных и совершенных зданий, то пусть она таковой и остается. А если и ее выполнение, и надежность в какой-то мере зависят от использования металла, то не будем порицать такое использование, при условии, однако, что и цемент, и каменная кладка работают в полной мере и не допускают ни малейшей небрежности в надежде на помощь железа. Здесь нужно поступать как с вином, которое следует использовать в качестве добавки, разбавляя его водой, а не в качестве средства утоления жажды.
XII. И чтобы не злоупотреблять свободой, необходимо рассмотреть применение удобной подгонки и скрепления камней, ведь если цементному раствору необходима помощь, ее нужно оказать по возможности без использования металла, ибо так и надежнее, и честнее. Я не предвижу никаких возражений, касающихся использования в кладке сочленений любого вида по вкусу архитектора, ведь нежелательно видеть здания, составленные наподобие китайских головоломок. Конечно, злоупотребление такой практикой нам не угрожает в силу ее сложности. Совсем не обязательно также, чтобы эти сочленения всегда были выставлены напоказ, демонстрируя зрителю свое назначение, и чтобы ни один основной камень не оказался в положении, которое кажется для него невозможным, ибо загадки тут и там в отдельных деталях могут иногда привлечь взгляд к кладке и вызвать к ней интерес, а также создать восхитительное ощущение некой колдовской силы архитектора. Есть замечательный пример – перемычка бокового портала в Прато (рис. IV, 4), где способ крепления камней, которые зрительно воспринимаются как отдельные друг от друга, – поочередно мрамора и серпентенита – не может быть понят, пока не увидишь их в поперечном сечении снизу. Каждый камень имеет форму, показанную на рис. IV, 5.
XIII. Наконец, прежде чем покончить с вопросом обмана в конструкциях, я напомнил бы архитектору, который думает, что я излишне ограничиваю его возможности и свободу, что подлинное величие и высочайшая мудрость состоят, во-первых, в благородном подчинении определенным сознательно налагаемым ограничениям, а во-вторых – во вдумчивом их предвидении. Божественная Мудрость может быть явлена нам только при встрече и в борьбе с трудностями, которые своей волей и ради этой борьбы посылает нам Божественное провидение; и эти трудности, заметьте, встречаются в виде естественных законов и установлений, которые природа могла бы многократно и как угодно нарушать с явной выгодой, но которые она никогда не нарушает, каких бы сложностей и неудобств ни стоило их соблюдение при выполнении поставленных задач. Пример, наиболее отвечающий нашей теме, – это скелет животных. Почему бы более высоким формам жизни не выделять кремний, как инфузории, вместо фосфата кальция или, что еще более естественно, углерод, создавая кости из твердого минерала сразу? Слон и носорог, если бы их кости были алмазными, могли бы стать легкими и проворными, как кузнечики, а другие животные могли бы иметь гораздо более грандиозные размеры, чем все нам известные. На других планетах мы, возможно, увидели бы такие существа. Но так назначено Господом, что архитектура животных здесь должна быть мраморной, а не кремниевой и не алмазной; и вся целесообразность направлена на достижения наибольшей силы и размера, возможного при таком ограничении. Челюсть ихтиозавра соединена в одно целое и склепана, нога мегатериума имеет толщину в один фут, а голова миодона имеет двойной череп. Мы с нашей мудростью наделили бы ящера стальной челюстью, миодона – чугунным черепом, забыв о великом принципе, о котором свидетельствует каждая тварь: порядок и система благороднее силы. Но Господь, как ни странно, Сам подает нам пример не только совершенной власти, но и совершенного Повиновения – повиновения Его собственным законам: в неповоротливых движениях этих наименее послушных из Его творений мы видим как Божественный промысел и тот признак вертикальности человеческого существа, «что свидетельствует против него и не меняется».
XIV. 2. Подделка поверхностей. Ее можно определить как создание впечатления некой формы и материала, которые на самом деле не присутствуют, как это часто бывает, когда дерево расписывают под мрамор или создают росписи, имитирующие рельефы. При этом заметим, что их вред состоит всегда именно в преднамеренном обмане, и необходимо точно определить, где он начинается или заканчивается.
Так, например, своды собора в Милане кажутся покрытыми сложным веерообразным рельефом, написанным с большой убедительностью, чтобы издалека в полумраке обмануть невнимательного наблюдателя. Это, безусловно, грубая подделка, она во многом сводит на нет благородство здания в целом и заслуживает самого безоговорочного осуждения.
На сводах Сикстинской капеллы немало архитектурных элементов, написанных в технике гризайль, соседствует с фигурами фресок, и это только увеличивает достоинство всего произведения.
В чем же отличие?