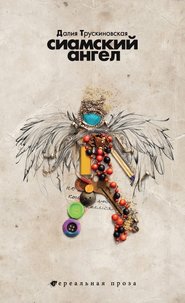По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Окаянная сила
Год написания книги
1998
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Она и место для этого наметила – у входа в маленькую зимнюю церковь, называемую обычно трапезной, потому что стояла она впритык к монастырской поварне, ее печами и отапливалась.
Но, к огромному своему удивлению, она увидела, что дверь во храм отворена и там горят свечи.
Аленка заглянула – перед чудотворной Богородицей, которая не однажды спасала от смерти детей и стариков, лежала на полу женщина, рядом же стояла на коленях матушка игуменья, вполголоса произнося молитву.
По ночному времени в церкви было таки прохладно, и женщина лежала, разметав полы богатой шубы, крытой червчатой объярью.
Аленка проскользнула в церковь и встала так, чтобы, когда мать игуменья с той женщиной поднимутся с колен и пойдут прочь, оказаться перед ними.
Но матушка Ирина, спешившая следом, углядела-таки, куда спряталась девушка, и вошла за ней, и, правой рукой крестясь, схватила ее левой за рукав сорочки. Аленка шарахнулась, уперлась, не желая выходить, – но затевать в храме возню было никак нельзя, и обе они, ни слова не говоря, лишь тихо сопели.
Женщина, что лежала перед образом, с трудом поднялась на колени, постояла, крестясь, и, опершись рукой об пол, встала и на ноги. Теперь Аленка увидела, что ночная молитвенница роста среднего, сложения плотного, лицо у нее крепкой лепки, широкое, немолодое, скорбное.
– Не выживет он, матушка, – сказала женщина игуменье. – Не дошла моя молитва, ох, не дошла, не понесли ее ангельцы наверх…
– Не умствуй, а молись, раба, – одернула ее игуменья, и тут увидела она, как в углу, у свечного ящика, молча сражаются Аленка и матушка Ирина.
Оставив молитвенницу, игуменья твердым шагом направилась к ним – матушка Ирина ахнула, встретив острый взгляд, и Аленка, воспользовавшись ее изумлением, выскочила вперед и рухнула на колени.
– Христом-богом молю! – воскликнула она, и в ночной тишине трапезной церковки голос прозвенел каким-то вовсе неподобающим воплем. – Не выдавайте меня!
– Кто такова? – спросила игуменья.
– Алена, матушка, бояр Лопухиных, – объяснила матушка Ирина. – Всё у нас постричься собиралась, да не отпускает ее государыня Авдотья Федоровна…
– Та Алена, что в Верх взяли, в царицыну Светлицу золотошвеей? – вспомнила игуменья. – Та, что у нас подольник чернобархатной фелони вышивала?
– Я это, матушка! – подтвердила Алена. – Смилуйся, не погуби!
– Чего хочешь, раба?
– Хочу постричься, – не вставая с колен, твердо объявила Аленка.
Игуменья помолчала.
Матушка Ирина, решив, что игуменья в затруднении, поспешила непрошено прийти на помощь.
– Что за пострижение впопыхах? Мать игуменья, ты спроси у нее, окаянной, чего ради она посреди ночи в обитель тайком пробралась! Ты спроси у нее, что она этой ночью сотворила! Спроси, как она чары наводила! За ней же утром стрельцы явятся! Она всю обитель под плети подведет!
– Алена! – строго сказала игуменья. – Что молчишь? Говори!
Аленка вздохнула.
Не прошло и часа, как она рассказала о своей беде матушке Ирине – и всё, чего она добилась, был смертельный испуг инокини. Повторить этот рассказ таким, каким он сложился у нее в голове, пока она сюда добиралась, девушка не могла – чтобы и игуменья со страху не выпроводила ее за ворота. А ничего другого девушка не припасла.
– Встань, раба, – приказала игуменья, взяла Аленку за руку и подвела к чудотворному образу. – Если ты виновата – ступай прочь, нет тебе здесь места.
– Я всё расскажу… – торопливо произнесла Аленка. – Видит Бог, видит Матерь Божья, всю правду расскажу… Вот перед ликом… Пусть Матерь Божья знает – не виновата я!..
– Молчи. Незачем мне знать твою правду.
– Матушка!.. – воскликнула инокиня. – Она же погубит нас всех!..
– Она к Господу за помощью пришла, не нам ее отвергать, – властно возразила игуменья. – А если ее возьмут и пытать будут, она многих понапрасну оговорит – и этот ее грех будет на тебе да на мне! Кто видел, как она сюда пробралась?
– Алена! – Матушка Ирина, чуя, что грозу проносит стороной, помягчела голосом. – Верно ли тебя никто не видел?
– Марфушка, она видела, когда впустила. Она ведь там живет, у калиточки.
Игуменья с инокиней переглянулись.
– Боле – никто?
– Не знаю – никто, верно…
– Марфушка… – Мать-игуменья повернулась к статной и скорбной ликом женщине, которая во всё время их странной беседы даже, казалось бы, не прислушивалась, а, отступив в сторонку, стояла у небольшого образа Спаса на водах и бормотала краткую, многажды повторяемую молитву. – Матушка Любовь Иннокентьевна! Сжалился над тобой Господь – послал способ услужить себе. Это – добрый знак.
– Не выживет Васенька, ох, не выживет… – отвечала женщина. – Сердце истомилось, не к добру такая смертная тоска…
– А я тебе говорю, что к добру. Не пререкайся, раба! А сделай-ка ты вот что – возьми эту девку, увези, спрячь. Мы тебе ее вывести отсюда поможем. Послушание это тебе от меня. И воздастся.
– Поди сюда, – сказала женщина Алене. – А ты помолись за нас, за грешных, матушка. Полегчает Васеньке – сдержу слово, пришлю в обитель и муки, и капусты, и свечу в пуд поставлю.
– Я помолюсь, а ты поспешай. Того гляди, сестры начнут в храм Божий сходиться, заметят чего не след, – поторопила игуменья. – А ты, раба, выменяй образок Любови Иннокентьевны да век за нее и раба Божия Василия молись – через них от смерти спасаешься!
Это уж относилось к Алене.
При выходе из храма Любовь Иннокентьевна распахнула полы своей необъятной шубы и, как наседка крылом, прикрыла Алену. Так и вывела ее во двор, так и провела к своему возку, и правильно сделала – уже спешила к колоколенке, поставленной между обеими церквами, летней и зимней, звонарка – матушка Июлиания.
В возке Любовь Иннокентьевна разговоров не разговаривала, лишь бормотала молитвы.
Ехали, казалось бы, не столь уж долго – а успели заговорить колокола. Сперва – мелкие, зазвонные, потом – средние, уж чего-чего, а звона заутреннего на Москве хватало. В самой скромной сельской церквушке имелось не менее трех колоколов, что уж говорить о богатых монастырях и церквах, где одних больших очепных в каждом – едва ль не по десятку? Где благовестники – в тысячу пудов? А тех церквей на Москве – немерено…
Аленка знала службы и по звону как бы видела, что делается в храме. Особенно нравилось ей, как перед чтением Евангелия под звон все свечи, сколько их есть в церкви, возжигают, и в этом – некое просветленное предчувствие благодати… С первыми словами звон прекращается – не мешает ее снисхождению. И по прочтении главы – один сильный удар: снизошла!
Возок остановился, затем снова подался вперед. Любовь Иннокентьевна словно опомнилась – заговорила громким голосом:
– Терешка, черт, вплотную к крыльцу подгоняй! Сам шлепай по грязище, коли желаешь, а меня избавь!
Когда возок встал окончательно, Любовь Иннокентьевна с трудом поднялась для выхода.
– Прячься, девка, – велела она. – Сейчас сразу ступени будут, я медленно всхожу, приноровись.
Выпихиваясь из возка разом с Любовью Иннокентьевной, Аленка, хоть и плотно прижатая к ее боку, прямо зажатая между тяжелой полой шубы и расшитой телогреей, углядела в щелку крытое крыльцо о двенадцати ступенях, сильно вынесенное во двор, матерые резные брусья, крышу его подпиравшие, резные наличники высоко поднятых, как оно и должно быть в хорошем доме, окон. В сенях под ноги была постелена большая чистая рогожка. Точеные тонкие перильца двух лестниц вели из сеней: одна – вниз, в подклет, другая – вверх, к горницам.
– Матушка! – сверху в сени сбежали две пожилые, опрятные, полные женщины. – Голубушка, хозяюшка!
– Жив Васенька? – спросила запыхавшаяся при подъеме Любовь Иннокентьевна.