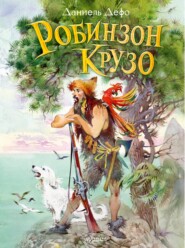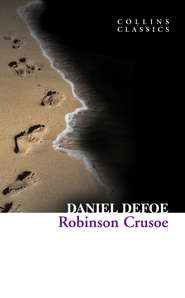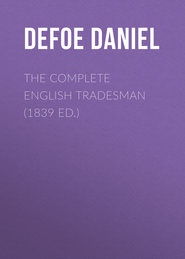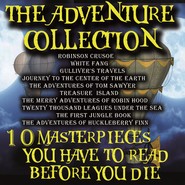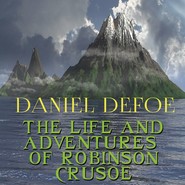По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Приключения Робинзона Крузо
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Однажды около полудня я шел берегом моря, направляясь к своей лодке, и, к величайшему своему изумлению, вдруг увидел след голой человеческой ноги, ясно отпечатавшейся на песке. Я остановился как громом пораженный или как если бы увидел привидение. Я прислушивался, озирался кругом, но не услышал и не увидел ничего подозрительного. Я взбежал вверх на откос, чтобы лучше осмотреть местность; опять спустился, ходил взад и вперед по берегу, но других следов нигде не обнаружил. Я пошел еще раз взглянуть на отпечаток ноги, чтоб удостовериться, действительно ли это человеческий след и не вообразилось ли мне. Но нет, я не ошибся; это был, несомненно, отпечаток человеческой ступни: я ясно различал пятку, пальцы, подошву. Как он сюда попал? Я терялся в догадках и не смог остановиться ни на одной. В полном смятении, не чуя, как говорится, под собой земли, я пошел домой в свою крепость. Я был охвачен невероятным ужасом: через каждые два-три шага я оглядывался назад, пугался каждого куста, каждого дерева, и каждый показавшийся вдали пень принимал за человека. Невозможно описать, в какие страшные и неожиданные формы облекались все предметы в моем возбужденном воображении, какие дикие мысли проносились в моей голове и какие нелепые решения принимал я все время по дороге.
Добравшись до своего замка (как я стал называть мое жилье с того дня), я, точно спасаясь от погони, мгновенно очутился за оградой. Я даже не помнил, перелез ли я через ограду по приставной лестнице, как делал раньше, или через дыру в скале, которую я называл дверью; даже на другой день я не мог этого припомнить. Никогда заяц, никогда лиса не спасались в таком безумном ужасе в свои норы, как я в свое убежище.
Всю ночь я не сомкнул глаз; страх терзал меня еще больше теперь, когда причина его осталась далеко, и это даже несколько противоречило самой природе страха. Но я был до такой степени потрясен, что воображение рисовало мне невероятные ужасы, хотя меня отделяло от следа ноги порядочное расстояние. Минутами я начинал думать, что это дьявол оставил свой след, и рассудок укреплял меня в этой догадке. В самом деле, кто, кроме дьявола в человеческом образе, мог забраться в эти места? Где лодка, которая привезла сюда человека? И где другие следы его ног? Да и каким образом мог попасть сюда человек? Но, с другой стороны, смешно было также думать, что дьявол принял человеческий образ с единственной целью оставить след своей ноги в таком пустынном месте, как мой остров, где было десять тысяч шансов против одного, что никто этого следа не увидит. Если врагу рода человеческого хотелось меня напугать, он мог придумать для этого другой способ, гораздо более остроумный! Нет, дьявол не так глуп. И, наконец, с какой стати, зная, что я живу по эту сторону острова, оставил бы он свой след на том берегу, да еще на песке, где его смоет волной при первом же сильном прибое? Все это было внутренне противоречиво и не вязалось с обычными нашими представлениями о хитрости дьявола.
Окончательно убежденный этими доводами, я признал несостоятельность своей гипотезы о нечистой силе и отказался от нее. Но если то был не дьявол, тогда возникло предположение гораздо более устрашающего свойства: это дикари с материка, лежавшего против моего острова. Вероятно, они попали на остров случайно: вышли в море на своей пироге и их пригнало сюда течением или ветром; они побывали на берегу, а потом опять ушли в море, потому что у них было так же мало желания оставаться в этой пустыне, как у меня видеть их здесь.
По мере того как я укреплялся в этой последней догадке, мое сердце наполнялось благодарностью за то, что тогда я не был в тех местах и они не заметили моей лодки, иначе они догадались бы, что на острове кто-то живет, и пустились бы на поиски. Но тут меня пронзила страшная мысль: а что, если они видели мою лодку? Предположили, что здесь есть люди? Ведь если так, то они вернутся с целой ватагой своих соплеменников и съедят меня. А если не найдут, так все равно увидят мои поля и выгоны, разорят мои пашни, угонят коз, и я умру с голоду.
Таким образом, страх вытеснил из моей души всякую надежду на Бога, все мое упование на Него, которое основывалось на столь чудесном доказательстве Его благости ко мне; как будто Тот, Кто доселе питал меня в пустыне, был не властен сберечь для меня блага земные, ниспосланные от Его же щедрот. Я упрекал себя в легкомыслии, из-за которого сеял лишь столько, чтобы мне хватало на год, точно не могло произойти случайности, помешавшей бы мне собрать посеянный хлеб. И упреки показались мне столь справедливыми, что я решил впредь сеять с таким расчетом, чтобы уберечься от неожиданностей и запастись хлебом на два или три года.
Какое игралище судьбы человеческая жизнь! И как странно меняются с переменой обстоятельств тайные пружины, управляющие нашими влечениями! Сегодня мы любим то, что завтра будем ненавидеть; сегодня ищем то, чего завтра будем избегать. Завтра нас будет приводить в трепет одна мысль о том, чего мы жаждем сегодня. Я был тогда наглядным примером этого рода противоречий. Я – человек, единственным несчастьем которого было то, что он изгнан из общества людей, что он – один среди безбрежного океана, обреченный на вечное безмолвие, отрезанный от мира, как преступник, признанный небом не заслуживающим общения с себе подобными, недостойным числиться среди живых, – я, которому увидеть лицо человеческое казалось, после спасения души, величайшим счастьем, какое только могло быть ниспослано ему Провидением, и как бы воскресением из мертвых, – я дрожал от страха при мысли о том, что могу столкнуться с людьми, готов был лишиться чувств от одной только тени, от одного только следа человека, ступившего на мой остров!
Таковы превратности человеческой жизни. Потом, когда я оправился от первого потрясения, я много размышлял на эту любопытную тему; я понял, что участь моя была предрешена премудрым и всеблагим Провидением; и раз мне не дано провидеть целей божественной мудрости, то не смею я и восставать против Божьего промысла: ведь я творенье Божье и мой Создатель имеет неоспоримое право поступать со мною по собственному благоусмотрению; а коль скоро я оскорбил Его, Он вправе избрать мне достойное наказание; мне же надлежит подчиняться, ибо я согрешил против Него.
Затем я подумал, что Бог не только справедлив, но и всеблаг: Он жестоко меня покарал, но Он может и разрешить меня от наказания; если же Он этого не делает, то мой долг покориться Его воле, а с другой стороны, надеяться и молить Его, а также неустанно смотреть, не пошлет ли Он мне знамения, выражающего Его волю.
Эти мысли занимали меня целыми днями, да что там – целыми неделями и месяцами! Последствием такого моего настроения было одно событие, о котором не могу умолчать. Однажды рано утром, лежа в постели и с тревогой размышляя об опасностях, какими мне грозит появление дикарей, я вдруг вспомнил слова Писания: «Призови Меня в день печали, и Я избавлю тебя, а ты прославишь имя Мое».
Я радостно поднялся с постели; сердце мое успокоилось, и мне захотелось помолиться Богу о моем избавлении; сотворив молитву, я взял Библию и начал читать ее; и первое, что я прочел, было: «Служи Господу и не бойся, и Он укрепит сердце твое; говорю тебе, служи Господу». Не могу выразить, каким утешением были для меня эти слова. Я с благодарностью отложил книгу и больше не грустил, во всяком случае из-за дикарей.
Первые трое суток после сделанного мною злосчастного открытия я не высовывал носа из своей крепости и начал даже голодать: я не держал дома больших запасов провизии, и на третьи сутки у меня оставались только ячменные лепешки да вода. Меня тревожило также, что мои козы, которых я обыкновенно доил каждый вечер, остаются недоенными: я знал, что бедные животные должны от этого страдать, и, кроме того, боялся, что у них может пропасть молоко. И мои опасения оправдались: многие козы захворали и почти перестали доиться. Ввиду всех этих соображений я на четвертые сутки набрался храбрости и вышел. А тут вскоре у меня возникла одна мысль, которая окончательно меня ободрила.
В самом разгаре моих страхов, когда я бросался от предположения к предположению и ни на чем не мог остановиться, мне как-то раз пришло в голову, что все это лишь плод моего воображения и не я ли сам оставил этот след, когда в предпоследний раз ходил смотреть свою лодку и потом возвращался домой? Положим, возвращался я обыкновенно другою дорогой; но разве не могло случиться, что я изменил своему обыкновению в тот раз? Это было давно, и мог ли я с уверенностью утверждать, что шел именно той, а не этой дорогой? Конечно, я постарался уверить себя, что так оно и было, что это мой собственный след, и в этом происшествии я уподобился тем глупцам, которые берутся рассказывать истории о привидениях и нечистой силе, а потом пугаются собственных выдумок больше своих слушателей.
Итак, ободрив себя уверенностью, что это след моей собственной ноги и что я воистину испугался собственной тени, я начал снова ходить на дачу доить коз. Но если бы вы видели, как несмело я шел, с каким страхом озирался назад, как я был всегда начеку, готовый в каждый момент бросить свою корзину и пуститься наутек ради спасения живота своего, вы приняли бы меня либо за преступника, терзаемого совестью, либо за человека, пережившего жестокий испуг, что и соответствовало истине.
Но после того, как я выходил в течение двух или трех дней и не открыл ничего подозрительного, я сделался смелее. Я положительно начинал приходить к заключению, что все это мои собственные фантазии, но, чтобы уже не оставалось никаких сомнений, я решил еще раз сходить на тот берег и сличить таинственный след с отпечатком моей ноги: если бы оба следа оказались одинаковыми, я мог бы быть уверен, что я испугался самого себя. Но когда я пришел на то место, где был таинственный след, то для меня, во-первых, стало очевидным, что, когда я в тот раз вышел из лодки и возвращался домой, я никоим образом не мог очутиться в этой стороне берега, а во-вторых, когда я для сравнения поставил ногу на след, то моя нога оказалась значительно меньше. И опять меня обуял панический страх: я весь дрожал, как в лихорадке: целый вихрь новых догадок закружился у меня в голове. Я ушел домой в полном убеждении, что на моем острове недавно побывали люди или, по крайней мере, один человек. Я даже готов был допустить, что остров обитаем, а отсюда следовало, что меня каждую минуту могут захватить врасплох. Но я совершенно не знал, как оградить себя от этой опасности.
К каким только нелепым решениям не приходит человек под влиянием страха! Страх отнимает у нас способность распоряжаться теми средствами, какие разум предлагает нам в помощь. Если дикари, рассуждал я, найдут моих коз и увидят мои поля с растущим на них хлебом, они будут постоянно возвращаться на остров за новой добычей, а если они заметят мое жилье, то непременно примутся разыскивать его обитателей и доберутся до меня. Поэтому первой моей мыслью было переломать изгороди всех моих загонов и выпустить весь скот, затем перекопать оба поля и таким образом уничтожить всходы риса и ячменя, наконец, снести свою дачу, чтобы не осталось никаких признаков присутствия человека.
Этот план сложился у меня в первую ночь по возвращении моем из только что описанной экспедиции на тот берег, под свежим впечатлением сделанных мною новых открытий. Страх опасности всегда страшнее опасности, уже наступившей, и ожидание зла в десять тысяч раз хуже самого зла. Для меня же всего ужаснее было то, что в этот раз я не находил облегчения в смирении и молитве. Я уподобился Саулу, скорбевшему не только о том, что на него идут филистимляне, но и о том, что Бог покинул его[109 - Я уподобился Саулу, скорбевшему не только о том, что на него идут филистимляне, но и о том, что Бог покинул его. – Имеется в виду встреча Саула перед битвой с филистимлянами с тенью пророка Самуила, вызванной Эндорской волшебницей; Самуил предсказал Саулу гибель его и его сына, а также поражение Израиля (Первая книга Царств, 28:6–19).]. Я не искал утешения там, где мог его найти, я не взывал к Богу в печали моей. А обратись я к Богу, как делал это прежде, я бы легче перенес это новое испытание, я бы смелее взглянул в глаза опасности, мне грозившей.
Так велико было мое смятение, что я не мог заснуть всю ночь. Зато под утро, когда мой дух ослабел от долгого бдения, я уснул крепким сном и, проснувшись, почувствовал себя гораздо лучше, чем все эти дни. Теперь я начал рассуждать спокойнее, и по зрелом размышлении вот к чему я пришел. Мой остров, богатый растительностью и лежавший недалеко от материка, был, конечно, не до такой степени заброшен людьми, как я воображал до сих пор, и хотя постоянных жителей на нем не было, но представлялось весьма вероятным, что дикари с материка приезжали на него иногда в своих пирогах; возможно было и то, что их пригоняло сюда течением или ветром; во всяком случае, они могли здесь бывать.
Но так как за пятнадцать лет, которые я прожил на острове, я до последнего времени не открыл и следа человеческого, то, стало быть, если дикари и приезжали сюда, они тотчас же снова уезжали и никогда не имели намерения водвориться здесь.
Следовательно, единственная опасность, какая могла мне грозить, была опасность наткнуться на них в один из этих редких наездов. Но так как они приезжали сюда не по доброй воле, а их пригоняло ветром, то они спешили поскорее убраться домой, проведя на острове всего какую-нибудь ночь, чтобы не упустить отлива и успеть вернуться засветло.
Значит, мне нужно было только обеспечить себе безопасное убежище на случай их высадки на остров.
Мне пришлось теперь горько пожалеть, что я расширил пещеру за своей палаткой и вывел из нее ход наружу, за пределами моего укрепления. И вот, подумав, я решил построить вокруг моего жилья еще одну ограду, тоже полукругом, на таком расстоянии от прежней стены, чтобы выход из пещеры пришелся внутри укрепления. Впрочем, мне даже не понадобилось воздвигать новую стену: двойной ряд деревьев, которые я лет двенадцать назад посадил вдоль старой ограды, представлял уже и сам по себе надежный оплот – так часто были насажены деревья и так сильно они разрослись. Оставалось только забить кольями промежутки между ними, чтобы превратить весь этот полукруг в сплошную, крепкую стену. Так я и сделал.
Теперь моя крепость была окружена двумя стенами. Внутреннюю стену, как уже знает читатель, я укрепил земляной насыпью футов в десять толщиной. Это было еще тогда, когда я расширил пещеру: по мере того как выкапывал землю, я сваливал ее к ограде и плотно утаптывал. Наружная же стена, как уже сказано, состояла из двойного ряда деревьев, между которыми я набил кольев, заложив пустое пространство внутри кусками старых канатов, обрубками дерева и всем, что только могло придать прочности моему брустверу и что оказалось у меня под рукой. Но я оставил в наружной стене семь небольших отверстий, настолько узких, что еле можно было просунуть в них руку. Эти отверстия должны были служить мне бойницами. Я вставил в каждое из них по мушкету (я уже говорил, что перевез к себе с корабля семь мушкетов). Мушкеты были у меня установлены на подставках, как пушки на лафетах, так что в какие-нибудь две минуты я мог разрядить все семь ружей. Много месяцев тяжелой работы потратил я на возведение этого укрепления: мне все казалось, что я не могу считать себя в безопасности, пока оно не будет готово.
Но мои труды не кончились на этом. Огромную площадь за наружной стеной я засадил теми похожими на иву деревьями, которые так хорошо принимались. Я думаю, что посадил их не менее двадцати тысяч штук. Но между деревьями и стеной я оставил довольно большое свободное пространство, чтобы мне было легче заметить неприятеля, если бы таковой вздумал атаковать мою крепость, и чтобы он не мог подкрасться к ней под прикрытием деревьев.
Через два года перед моим жильем была уже молодая рощица, а еще лет через пять-шесть его обступал высокий лес, почти непроходимый – так часто были насажены в нем деревья и так густо они разрослись. Никому в мире не пришло бы теперь в голову, что за этим лесом скрыто человеческое жилье. Чтобы входить в мою крепость и выходить из нее (так как я не оставил аллеи в лесу), я пользовался двумя лестницами, приставляя одну из них к сравнительно невысокому выступу в скале, на который ставил другую лестницу, так что, когда обе лестницы были убраны, ни одна живая душа не могла проникнуть ко мне, не сломав себе шею. Но даже допуская, что какому-нибудь смельчаку удалось бы благополучно спуститься с горы в мою сторону, он очутился бы все-таки не в самой крепости, а за пределами ее наружной стены.
Итак, я принял для своей безопасности все меры, какие только могла мне подсказать моя изобретательность, и, как читатель вскоре увидит, они были не совсем бесполезны, хотя во время работ опасность, от которой я хотел себя оградить, была скорее воображаемой, внушенной моими страхами.
Но, прилагая все старания, чтобы оградить себя от вторжения, я в то же время не забрасывал и других своих дел. Я по-прежнему тщательно ходил за моим маленьким стадом. Мои козы кормили и одевали меня, а это избавляло меня от необходимости охотиться и таким образом сберегало не только мой порох, но и силы и время. Выгода была так ощутительна, что мне, разумеется, не хотелось лишиться ее и потом начинать все сначала.
Чтобы избежать этого несчастья, по зрелом размышлении я решил, что у меня только два способа сохранить коз: или загонять на ночь все стадо в пещеру (которую пришлось бы выкопать нарочно для этой цели), или устроить еще два или три отдельных загончика подальше один от другого, но непременно в укромных местах, где бы их было трудно найти, и поместить в каждом из них по полудюжине молодых коз: тогда, если бы даже главное стадо погибло вследствие какой-нибудь несчастной случайности, у меня все-таки осталось бы несколько коз и я мог бы без особенных хлопот развести новое стадо. В конце концов я остановился на последнем проекте как на более разумном, хотя осуществление его требовало немало времени и труда.
Я исходил весь остров, отыскивая самые глухие места, и наконец выбрал один уголок, такой уединенный, что лучшего нельзя было и желать. Это была небольшая полянка в низине, в чаще леса – того самого леса, где я заблудился, когда возвращался домой с восточной части острова. Вся полянка занимала около трех акров; лес обступал ее со всех сторон почти сплошной стеной, образуя как бы естественную ограду; во всяком случае, устройство ограды потребовало от меня гораздо меньше труда, чем в других местах.
Я немедленно принялся за работу, и недели через четыре мой новый загон был огорожен настолько плотно, что можно было перевести в него коз. Теперь это не представляло большого труда, так как новые поколения коз утратили свою природную дикость. Я, не откладывая, отделил от стада десять молодых коз и двух козлов и перевел их в новый загон. Еще некоторое время я употребил на окончательное укрепление изгороди, и делал это не торопясь, очень медленно.
И все эти труды, все эти хлопоты порождены были страхом, обуявшим меня при виде отпечатка человеческой ноги на песке, ибо до сих пор я никогда не видел ни одной человеческой души ни на острове, ни близ него. После своего несчастного открытия вот уже два года, как я распростился со своей прежней безмятежной жизнью, чему легко поверят все те, кто испытал, что такое жизнь под вечным гнетом страха. С сожалением должен прибавить, что постоянная душевная тревога, в которой я пребывал в этот период, весьма дурно отразилась и на моих религиозных чувствах. Каждый вечер я ложился с той мыслью, что, может быть, не доживу до утра, что ночью на меня нападут дикари, что они убьют меня и съедят, и этот страх до такой степени угнетал мою душу, что лишь в редкие минуты я мог обращаться к Творцу с подобающим смирением и спокойным, умиленным духом. Если я и молился, то скорее как человек, который взывает к Богу в своем отчаянии, потому что видит свою близкую гибель. И я могу удостоверить на основании личного опыта, что к молитве больше располагает мирное настроение духа, когда мы чувствуем признательность, любовь и умиление, и что подавленный страхом человек так же мало предрасположен к подлинно молитвенному настроению, как к раскаянию на смертном одре; страх – болезнь, расслабляющая душу, как расслабляет тело физический недуг, а как помеха молитве страх действует даже сильнее телесного недуга, ибо молитва есть духовный, а не телесный акт.
Но возвращаюсь к рассказу. Обеспечив себя таким образом живым провиантом, я стал подыскивать другое укромное местечко для новой партии коз. Как-то раз во время этих поисков я добрался до западной оконечности острова, где никогда не бывал до тех пор. Не доходя до берега, я поднялся на пригорок, и, когда передо мной открылось море, мне показалось, что вдали виднеется лодка. В одном из сундуков, перевезенных мною с нашего корабля, я нашел несколько подзорных трубок, но их со мной не было, и я не мог различить, была ли то действительно лодка, хотя проглядел все глаза, всматриваясь в даль. Спускаясь к берегу с пригорка, я уже ничего не видел; так я до сих пор не знаю, что это был за предмет, который я принял за лодку. Но с того дня я дал себе слово никогда не выходить из дому без подзорной трубы.
Добравшись до берега (это была часть острова, где, как уже сказано, я раньше не бывал), я не замедлил убедиться, что следы человеческих ног совсем не такая редкость на моем острове, как я воображал. Да, я убедился, что, не попади я по особенной милости Провидения на ту сторону острова, куда не приставали дикари, я бы давно уже знал, что посещения ими моего острова – самая обыкновенная вещь и что западные его берега служат им не только постоянной гаванью во время дальних морских экскурсий, но и местом, где они справляют свои каннибальские пиры. Но об этом я еще расскажу подробнее.
То, что я увидел, когда спустился с пригорка и подошел к берегу моря, буквально ошеломило меня. Весь берег был усеян человеческими костями: черепами, скелетами, костями рук и ног. Не могу выразить, какой ужас охватил мою душу при виде этой картины. Мне было известно, что дикие племена часто воюют между собой. Должно быть, думал я, после каждой стычки победители привозят с материка своих военнопленных на это побережье, где, по зверскому обычаю всех дикарей-людоедов, убивают и съедают их. В одном месте я заметил круглую, плотно утрамбованную площадку, посреди которой виднелись остатки костра: здесь-то, вероятно, и сидели бесчеловечные варвары, справляя свои ужасные пиры.
Все это до того меня поразило, что я даже не сразу вспомнил об опасности, которой подвергался, оставаясь на этом берегу, – ужас перед возмутительным извращением человеческой природы, способной дойти до такой зверской жестокости, вытеснил из моей души всякий страх за себя. Я не раз слыхал о подобных проявлениях зверства, но никогда до тех пор мне не случалось видеть их самому. С крайним омерзением отвернулся я от ужасного зрелища: я ощущал страшную тошноту и, вероятно, лишился бы чувств, если б сама природа не пришла мне на помощь, очистив мой желудок обильной рвотой. Мне стало немного легче, но ни одной лишней минуты я не мог оставаться в этом ужасном месте; со всей быстротой, на какую был способен, я поднялся на пригорок и устремился назад, к своему жилью.
Отойдя немного от этой части острова, я остановился, чтобы опомниться и собраться с мыслями. В глубоком умилении поднял я глаза к небу и, обливаясь слезами, возблагодарил Создателя за то, что Он судил мне родиться в иной части света, где нет таких зверей в человеческом образе. Благодарил я Его и за то, что Он послал мне в моей горькой доле столько утех, с избытком искупавших ее, а главное за то, что мне дано было познать всю Его неизреченную благость и обрести утешение в надежде на Его всепрощение, ибо это было великое счастье, за которое можно было вытерпеть и не такие страдания, какие выпали мне.
В этом умиленном настроении вернулся я в свой замок и с того дня стал меньше бояться дикарей. На основании своих наблюдений я убедился, что эти варвары никогда не приезжали на остров за добычей – потому ли, что ни в чем не нуждались, или, может быть, потому, что не рассчитывали чем-нибудь поживиться в таком пустынном месте: в лесистой части острова они, несомненно, бывали не раз, но, вероятно, не нашли там для себя ничего подходящего. Достоверно было одно: я прожил на острове без малого восемнадцать лет и до последнего времени ни разу не находил человеческих следов, из чего следовало, что я мог прожить здесь еще столько же и не попасться на глаза дикарям, разве что наткнулся бы на них по собственной неосторожности. Но этого нечего было опасаться, так как единственной моей заботой было как можно лучше скрывать все признаки моего присутствия на острове и как можно реже выползать из своей норы, по крайней мере до тех пор, пока мне не представится лучшее общество, чем общество каннибалов.
Однако ужас и отвращение, внушенные мне этими дикими извергами и их бесчеловечным обычаем пожирать друг друга, повергли меня в мрачное настроение, и около двух лет я просидел в той части острова, где были расположены мои земли, то есть две мои усадьбы – крепость под горой и лесная дача, и та полянка в чаще леса, на которой я устроил загон, причем его я посещал только ради коз; мое отвращение к дикарям, этим отродьям ада, было таково, что я боялся встретиться с ними не меньше, чем с самим дьяволом. За это время я ни разу не сходил взглянуть на свою пирогу: я даже стал подумывать о сооружении другой лодки, так как окончательно решил, что не стану и пытаться привести свою лодку с той стороны острова. Я не имел ни малейшего желания столкнуться в море с дикарями, ибо знал, какая участь меня ожидает, если я попадусь им в руки.
Между тем время и уверенность в том, что дикари не могут открыть мое убежище, сделали свое дело: я перестал их бояться и зажил своей прежней мирной жизнью, с той лишь разницею, что теперь я стал осторожнее и принимал все меры, чтоб не попасться им на глаза. Главное, я остерегался стрелять, чтобы не привлечь внимания дикарей, если бы они случайно находились на острове. К счастью, я мог теперь обходиться без охоты, так как вовремя позаботился обзавестись домашним скотом; несколько диких коз, которых я съел за это время, были пойманы с помощью силков или западней, так что за два года я, кажется, не сделал ни одного выстрела, хотя никогда не выходил без ружья. Больше того, я всегда засовывал за пояс пару пистолетов, найденных мной на корабле, и подвешивал на ремне через плечо остро отточенный тесак. Таким образом, вид у меня был теперь самый устрашающий: ружье, топор, пара пистолетов и огромный тесак без ножен.
Итак, если откинуть в сторону необходимость быть всегда настороже, жизнь моя, как я уже сказал, вошла на некоторое время в свое прежнее покойное русло. Оценивая свое положение, я с каждым днем все больше убеждался, что оно далеко не плохо по сравнению с участью многих других, да, наконец, и сам я мог быть поставлен в гораздо более печальные условия, если бы так судил мне Господь. Насколько меньше роптали бы мы на судьбу и насколько больше были бы признательны Провидению, если бы, размышляя о своем положении, брали для сравнения худшее, а не лучшее, как мы это делаем, когда желаем оправдать свои жалобы.
В моем теперешнем положении я почти ни в чем не испытывал недостатка; мне кажется, что страх этих извергов-дикарей и, как последствие страха, вечная забота о своей безопасности сделали меня более равнодушным к житейским удобствам и притупили мою изобретательность. Я, например, так и не привел в исполнение одного своего проекта, который некоторое время сильно занимал меня. Мне очень хотелось попробовать сделать из ячменя солод и сварить пиво. Затея была довольно фантастическая, и я часто упрекал себя за свою наивность. Мне было хорошо известно, что для осуществления ее мне многого не хватает и достать этого невозможно. Прежде всего бочек для хранения пива, которых, как уже знает читатель, я никогда не мог сделать, хотя потратил много недель и месяцев на бесплодные попытки добиться толку в этой работе. Затем у меня не было ни хмеля, ни дрожжей, ни котла, так что даже варить его было не в чем[110 - …у меня не было ни хмеля, ни дрожжей, ни котла, так что даже варить его было не в чем. – Одна из неточностей: выше говорилось: «Я захватил с корабля большой котел, но он был слишком велик, чтобы варить в нем суп или тушить мясо».]. И тем не менее я твердо убежден, что, не нагони на меня тогда эти проклятые дикари столько страху, я приступил бы к осуществлению моей затеи и, может быть, добился бы своего, ибо, раз уж я затевал какое-нибудь дело, я редко бросал его, не доведя до конца.
Но в те времена моя изобретательность направилась совсем в другую сторону. День и ночь я думал только о том, как бы мне истребить несколько этих чудовищ во время их зверских развлечений и, если можно, спасти несчастную жертву, обреченную на съедение, которую они привезут с собой. Мне хотелось, если не удастся истребить этих извергов, хотя бы напугать их хорошенько и таким образом отвадить от моего острова. Но моя книга вышла бы слишком объемистой, если бы я задумал рассказать все хитроумные планы, какие слагались по этому поводу в моей голове. Однако это была пустая трата времени. Чтобы наказать людоедов, надо вступить с ними в бой, а что мог сделать один человек с двумя-тремя десятками этих варваров, вооруженных копьями и луками, из которых они умели попадать в цель не хуже, чем я из ружья.
Приходило мне в голову вырыть яму в том месте, где они разводили огонь, и заложить в нее пять-шесть фунтов пороху. Когда они зажгут свой костер, порох воспламенится и взорвет все, что окажется поблизости. Но мне, во-первых, было жалко пороху, которого у меня оставалось не больше барреля, а во-вторых, я не мог быть уверен, что взрыв произойдет именно тогда, когда они соберутся у костра. В противном случае какой был бы из этого толк? Самое большее, что некоторых из них опалило бы порохом. Конечно, они испугались бы, но настолько ли, чтобы больше не появляться на острове? Так я и бросил эту затею. Думал я также устроить в подходящем месте засаду: спрятаться с тремя заряженными ружьями и выстрелить в дикарей в разгар их кровавой оргии, с полной уверенностью, что уложу на месте или раню двух-трех человек каждым выстрелом, а потом выскочить из засады и напасть на них с пистолетами и тесаком. Я не сомневался, что при таком способе действия сумею управиться со всеми своими врагами, будь их хоть двадцать человек. Я несколько недель носился с этой мыслью; она до такой степени меня поглощала, что часто мне снилось, будто я стреляю в дикарей или бросаюсь на них из засады.
На некоторое время я до того увлекся этим проектом, что потратил несколько дней на поиски подходящего места для предполагаемой засады против дикарей. Я начал посещать место их сборищ и даже как-то освоился с ним. И все же в те минуты, когда моя душа жаждала мести и ум был полон кровожадных планов избиения отвратительных, пожирающих друг друга выродков, ужас при виде страшных следов кровавой расправы человека с человеком несколько глушил мою злобу.
Место для засады было наконец найдено, то есть, собственно говоря, я подыскал два укромных местечка: с одного из них я предполагал стрелять в дикарей, другое же должно было служить мне пунктом для предварительных наблюдений. Это был выступ на склоне холма, откуда я мог, оставаясь невидимым, следить за каждой приближавшейся к острову лодкой. Завидев издали пирогу с дикарями, я мог, прежде чем они успели бы высадиться, незаметно пробраться в ближайший лесок. Там в одном дереве было такое большое дупло, что я легко мог в нем спрятаться. Сидя в этом дупле, я мог отлично наблюдать за дикарями и, улучив момент, когда они столпятся в кучу и будут, таким образом, представлять удобную мишень, стрелять, но без промаха, так, чтобы уложить первым же выстрелом трех-четырех человек.
Как только было выбрано место засады, я стал готовиться к походу. Я тщательно осмотрел и привел в порядок свои пистолеты, оба мушкета и охотничье ружье. Мушкеты я зарядил семью пулями каждый: двумя большими кусками свинца и пятью пистолетными пулями; в охотничье ружье я всыпал хорошую горсть самой крупной дроби. Затем я заготовил пороху и пуль еще для трех зарядов и собрался в поход.
Когда мой план кампании был окончательно разработан и даже неоднократно приведен в исполнение в моем воображении, я начал ежедневно совершать экскурсии к вершине холма, который находился более чем в трех милях от моего замка. Я целыми часами смотрел, не видно ли в море каких-нибудь судов и не подходит ли к острову пирога с дикарями. Месяца два или три я самым добросовестным образом отправлял мою караульную службу, но наконец это мне надоело, ибо за все три месяца ни разу не увидел ничего похожего на лодку не только у берега, но и на всем пространстве океана, какое можно охватить глазом через подзорную трубу.
До тех пор пока я аккуратно посещал свой наблюдательный пост, мое воинственное настроение не ослабевало, и я не находил ничего предосудительного в жестокой расправе, которую собирался учинить. Избиение двух-трех десятков почти безоружных людей казалось мне делом самым обыкновенным. Ослепленный негодованием, которое породило в моей душе отвращение к противоестественным нравам местного населения, я даже не задавался вопросом, заслуживают ли они такой кары. Я не подумал о том, что по воле Провидения они не имеют в жизни иных руководителей, кроме своих извращенных инстинктов и зверских страстей. Я не подумал, что если премудрое Провидение терпит на земле таких людей и терпело их, быть может, несколько столетий, если оно допускает существование столь бесчеловечных обычаев и не препятствует целым племенам совершать ужасные деяния, на которые могут быть способны только выродки, окончательно забытые небом, то, стало быть, не мне быть им судьей. Но когда, как уже сказано, мои ежедневные бесплодные выслеживания начали мне надоедать, тогда стал изменяться и мой взгляд на задуманное мною дело. Я стал спокойнее и хладнокровнее относиться к этой затее; я спросил себя, какое я имел право брать на себя роль судьи и палача этих людей. Пускай они преступны, но, коль скоро сам Бог в течение стольких веков предоставляет им творить зло безнаказанно, то, значит, на то Его воля. Как знать, быть может, истребляя друг друга, они являются лишь исполнителями Его приговоров? Во всяком случае, мне эти люди не сделали зла; по какому же праву я хочу вмешаться в их племенные распри? На каком основании я должен отомстить за кровь, которую они так неразборчиво проливают? Я рассуждал следующим образом: «Почем я знаю, осудит ли их Господь? Несомненно одно: в глазах каннибалов каннибализм не есть преступление, их разум не находит ничего предосудительного в этом обычае, и совесть не упрекает их за него. Они грешат по неведению и, совершая свой грех, не бросают этим вызова Божественной справедливости, как делаем мы, когда грешим. Они не считают преступлением убить военнопленного – как мы не считаем преступным зарезать быка, и человеческое мясо они едят так же спокойно, как мы баранину».
Эти размышления привели меня к неизбежному выводу, что я был не прав, произнося свой строгий приговор над дикарями-людоедами как над убийцами. Теперь мне было ясно, что они не более убийцы, чем те христиане, которые убивают военнопленных или – что случается еще чаще – предают мечу, никому не давая пощады, целые армии, даже когда неприятель положил оружие и сдался[111 - …они не более убийцы, чем те христиане, которые убивают военнопленных или… предают мечу, никому не давая пощады, целые армии, даже когда неприятель положил оружие и сдался. – О своеобразном «каннибализме» своих соотечественников Дефо пишет и в «Серьезных размышлениях Робинзона Крузо», утверждая, что человек «ради низменных целей, из скупости, зависти, мстительности и тому подобного пожирает своих сородичей, – нет, даже свою плоть и кровь».].
Затем мне пришло в голову, что, каких бы зверских обычаев ни придерживались дикари, меня это не касается. Меня они ничем не обидели, так за что же мне их убивать? Вот если б они напали на меня и мне пришлось бы защищать свою жизнь, тогда другое дело. Но пока я не был в их власти, пока они не знали даже о моем существовании и, следовательно, не могли иметь никаких коварных замыслов против меня, до тех пор и я не имел права на них нападать. Это было бы нисколько не лучше поведения испанцев, прославившихся своими жестокостями в Америке, где они истребили миллионы людей. Положим, то были идолопоклонники и варвары; но при всех своих варварских обычаях и кровавых религиозных обрядах вроде человеческих жертвоприношений перед испанцами они ни в чем не провинились[112 - …испанцев, прославившихся своими жестокостями в Америке, где они истребили миллионы людей. Положим, то были идолопоклонники и варвары; но при всех своих варварских обычаях и кровавых религиозных обрядах вроде человеческих жертвоприношений перед испанцами они ни в чем не провинились. – Сдержанность и терпимость Робинзона по отношению к варварским обычаям диких народов в первом романе резко контрастирует с поведением Робинзона в «Дальнейших приключениях», где без видимых на то причин он уничтожает идола, которому поклонялись язычники в Сибири: «Сознаюсь, я был поражен, как никогда, этой глупостью и этим скотским поклонением деревянному чудищу – называйте, как хотите – и саблей рассек надвое его шапку, как раз посредине, так что она свалилась и повисла на одном из рогов…»]. Недаром же в наше время все христианские народы Европы и даже сами испанцы возмущаются этим истреблением американских народностей и говорят о нем как о бойне, как о кровавой и противоестественной жестокости, которая не может быть оправдана ни перед Богом, ни перед людьми. С тех времен само имя испанца внушает ужас всякой человеческой душе, исполненной человеколюбия и христианского сострадания, как будто Испания такая уж страна, которая порождает людей, не способных проникнуться христианскими правилами, чуждых всякому великодушному порыву, не знающих самой обыкновенной жалости к несчастным, свойственной благородным сердцам.