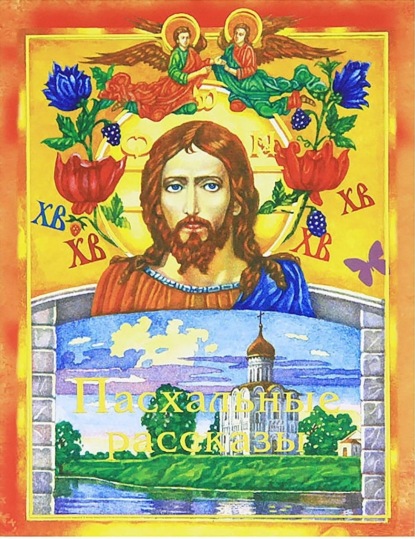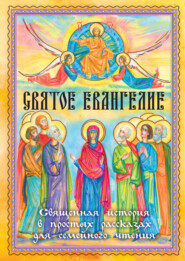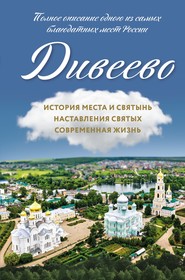По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Пасхальные рассказы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
«Гм… – подумал я. – Вот и объяснение, вот и сам грозный судия».
Я быстрым взглядом посмотрел на его лицо. Оно было замкнуто, но в нем не было ничего враждебного, скорее всего мистер Спайль, ложившийся обыкновенно спать утром, в этот день совсем был лишен сна и, вероятно, испытывал по этому случаю усталость и негодование.
– Мистер Спайль? – с искренним удивлением воскликнул я.
Майор подал мне руку, а потом сказал:
– Извините, что так рано постучался к вам.
– Я очень рад… Я, признаюсь, беспокоился… Вчера… Ну, одним словом, я в чем-то виноват и не понимаю…
Мистер Спайль сел на диван.
– Нет, – сказал он, – вы ни в чем не виноваты; но жена моя – англичанка…
– Но в чем же дело, мистер Спайль? Чем огорчил я вашу уважаемую супругу? Вы, вероятно, знаете, что мы с мисс Эмили… Я не знаю, как это сказать по-английски, по-русски это называется «похристосоваться»; но ведь это у нас считается в порядке вещей. Я понял так, что мисс Эмили хочет оказать мне как иностранцу, как русскому, особое внимание.
– Но да, да… совершенно верно. И мы это потом, потолковав с женой, поняли, и она очень сожалела о своей слишком поспешной горячности. Но, понимаете ли, английская мать так уж воспитана. Она не может видеть спокойно, если кто-нибудь целует ее дочь. Это, конечно, к вам не имеет никакого отношения, но я все-таки объясню вам, что по английским законам вы должны были бы после этого или жениться на Эмили, или уплатить по определению судьи известную сумму. О, пожалуйста, прошу вас, не подумайте… Ничего подобного мы не имели в виду. Тут имеется налицо удовлетворительное объяснение. Но я это к тому, чтобы вы поняли поступок моей жены.
– Боже мой! – воскликнул я. – Неужели такой взгляд? В таком случае я понимаю, что мистрис Спайль могла понять меня дурно. Так вы говорите, что потом она поняла?
– Да, разумеется. Но все же, мой почтенный друг, нам придется лишиться вашего в высшей степени приятного общества.
– Как? Почему же?
– Да, придется. С английской точки зрения неудобно вам бывать в нашем доме и встречаться с Эмили.
– Это повергает меня в отчаяние.
– Меня тоже, если вам угодно знать… Мы ведь искренно полюбили вас. Но с английской точки зрения, – а мы ведь не можем стоять на другой, – нельзя этот вопрос разрешить иначе.
Тут он, видимо, неохотно поднялся с дивана и протянул мне руку.
– Позвольте поблагодарить вас за ваше приятное общество и пожелать вам всего лучшего, – сказал он, крепко пожимая мою руку. – Уверяю вас, что в моем доме останется о вас самое лучшее воспоминание.
– Простите, мистер Спайль, – но у меня есть маленькие счеты с мистрис Спайль… Я хотел бы просить вас передать ей…
– За обеды? Ну нет, я не возьму этого на себя. Вы можете прислать ей по почте.
Мы еще раз крепко пожали друг другу руки и расстались. Какой, однако, досадный конец там мило начавшейся истории! И случилось это именно в тот день, когда мисс Эмили особенно нравилась мне.
Без сомнения, если бы я вздумал сделать ей серьезное предложение и для этого приехал в коттедж Спайлей, то меня оттуда не выгнали бы… И если бы не случился этот преждевременный поцелуй, может быть, это едва начавшееся чувство разгорелось бы в настоящее, и… кто может знать, чем это кончилось бы.
Недели две пришлось еще мне просидеть в Лондоне. На завод я больше не ездил. Мне не хотелось встречаться в вагоне с мистером Спайлем и тем ставить его в затруднительное положение. Наконец я узнал, что дело, из-за которого я сидел в Лондоне, через неделю будет благополучно разрешено. Я стал готовиться к отъезду.
И в это время я получил письмо такого содержания: «Надеюсь, что вы никогда не будете дурного мнения о моих намерениях? Я хотела бы это знать. Э. С.», – и затем было указано одно из почтовых отделений Лондона. Я тотчас же ответил: «Вы можете быть совершенно уверены в этом, как и в том, что я на всю жизнь сохраню милое воспоминание о вас и о нашем братском поцелуе».
Я уехал в Россию. С мисс Эмили мы никогда больше не встречались.
М. Львова
Рубашка
Весна. Снег почти стаял. Земля чернеет и какой-то особенный свежий сырой запах говорит о весне. Мы все собрались у бабушки и усердно работаем: шьем рубашки бедным. Мама с няней кроят, бабушка сметывает рубашки, Наташенька быстро стачивает их на машинке, тетя Маша подрубает на руках, Вера обметывает петли и пришивает пуговицы. Даже крошки Коля и Машенька помогают: обрезают нитки и вдевают их в иголки.
– А ты расскажи нам, бабушка, – просит старший внук Николай, – почему у нас перед Пасхой шьют всегда мужские рубашки?»
– По завещанию моей бабушки, дружок мой… Это было давно – еще до революции. Моя бабушка, Надежда Сергеевна, проводила Великий Пост в строгом воздержании, молитве и в работе на бедных. Она сама и все домашние женщины и девушки шили одежды бедным: платья, сарафаны, рубашки. Все это складывалось и раздавалось на Страстной неделе нуждающимся, чтобы они имели возможность сходить к заутрене в новом чистом одеянии. Рубашки тогда шились не из ситца, как мы делаем теперь, а из белого домотканого холста, и сшивалось этих рубашек великое множество. Однажды, за год или за два до кончины, Надежда Сергеевна на Страстной неделе раздала все сшитые вещи бедным, и у нее осталась одна рубашка. С этой рубашкой происходило что-то странное: она несколько раз возвращалась к бабушке обратно. Один нищий уехал из города, другой умер, третий разбогател и больше не нуждался в милостыне. «Как странно, – сказала бабушка своей горничной Устеньке. – Видимо, эту рубашку Бог кому-то предназначил. Оставим ее у себя, и ты отдашь ее первому, кто придет просить Христа ради».
Прошло еще два дня, наступила Великая Суббота. Надежда Сергеевна сидела у своего окна, а Устенька уже заправляла лампады к празднику. Вдруг к окошку подошел высокий благообразный старик, одетый в наглухо застегнутый зипун. Он просил помочь ему Христа ради к Светлому Дню.
Бабушка послала Устеньку подать ему хлеба, денег, крашеных яичек. «Да еще не забудь рубашку, предназначенную ему, отдать», – крикнула бабушка уходящей Устеньке.
Та все передала старику, а когда вынула рубашку с просьбой надеть ее в церковь к Светлой Заутрене, старик внезапно поднял руки к небу и залился слезами. «Господи, благодарю Тебя за великую милость ко мне, грешному! – воскликнул он. – А тебя, добрая, милая благодетельница, да благословит Господь за то, что после стольких лет к Светлому Дню ты прикрыла меня!»
С этими словами он распахнул свой зипун, а не груди его ничего не было. «Вот уже 16 лет я хожу неприкрыто, а дал я обет такой перед Господом: ничего не просить для себя. Что подадут, за то и спасибо. Ты первая, ангельская душа, покрыла мою наготу! И в какой великий Святой День – в канун Светлого Праздника!» И он снова заплакал радостными слезами, плакала с ним и бабушка у своего окошка; поняла она, что Господь благословил и принял ее труд и работу.
И вот, когда она умирала, она и завещала своей дочери и мне, своей внучке, всегда Великим Постом шить бедным рубашки и тоже заповедовать своим детям и внукам. Мы и стараемся по мере сил исполнить бабушкино завещание, и я надеюсь, мои дружочки, что и вы его не забудете, – кончила бабушка свой рассказ.
Е. Опочинин
Блаженный и воевода
Нравен Тотемский воевода, князь Семен княж Петрович сын, Вяземский. Пока жил на Москве – где его, бывало, ни посадят, куда ни пошлют – все ему не в честь да не в место. Вот за то и велели ему ехать на воеводство подале, где похолоднее, авось де прохладится. А вышло ничего: прижился князь на Тотьме, в студеной лесной стороне, – второй уж год доходит, как он сидит на воеводстве.
Сказать по правде, нрава своего блажного он не переменил: по-старому крут и самоволен, и людям от него порою солоно приходится. Ну, да что ты будешь делать? Воевода ведь, и то сказать – не крестный, станется, и все они такие… Людишкам исстари заповедано, чтобы молчали и терпели. Ну, терпели и на Тотьме… Челом что ли будешь бить на воеводу? А куда? На Москву – далеко: еще придет али нет челобитье, а и придет, так в приказах-то своя братия, бояре, – знамо, своего не выдадут, покроют.
А временем чуден и затейлив был князь-воевода, и дивились люди, на него глядя. Пуще всего на свете возлюбил он песни. Игрецы всякие, гудочники, гусляры, домрачеи – были ему будто своя ровня. Бывало, сидит в судной избе с товарищами, а услышит, что на улице заиграли веселую песню, все бросит, выскочит и пойдет вприсядку. Ну, а люди тому и рады: где поклонами да слезами не возьмешь воеводу, там он все сделает за песню. И бывала же потеха! Чуть не каждый день песнями выманивали на улицу воеводу: играют ему с величаньем, а он ходит, ровно кочет, голову задравши, а товарищи с подьячими ждут-пождут в судной избе…
Чего там! Честью боярства не дорожил князь Семен Петрович из-за песен. Как-то был в Тотьме, проездом на Москву, посол голландский Кондратий Клинкин, так целую неделю проплясал воевода под немецкие цымбальцы. А как сказал ему посол, что есть у него в обозе еще мудреная мусикийская штука – палочки, в лад, аки гусли, подобраны, – князь стал посла молить, чтобы те палочки ему отдал. И говорил ему посол: «Палочки-де у него в обозе впереди, и взять их не мочно…» Тут князь-воевода кланялся ему земно, а как и это не взяло, заплакал, что малый ребенок…
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: