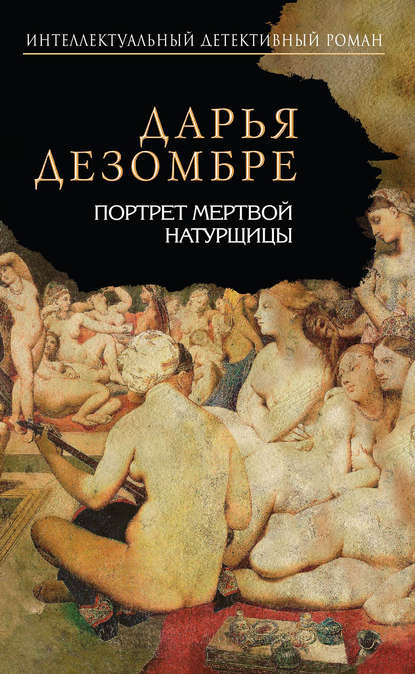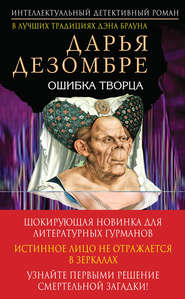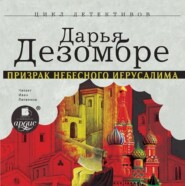По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Портрет мертвой натурщицы
Автор
Год написания книги
2014
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Я… – Маша отвернулась. – Не знаю. Практика закончилась, и я пока в подвешенном состоянии.
– Ясно. – Петя ловко занял единственное свободное место у филармонии. И тактично перевел разговор на другую тему.
Перед концертным залом уже стояла толпа ожидающих и оптимистов, застывших с жалостливыми лицами в надежде на лишний билетик не от спекулянта. Маша чувствовала себя намного свободнее, ненароком забыв в «Порше» огромные, агрессивные почти розы. До начала концерта оставалось еще немного времени, и Петя повел ее в буфет.
– Буфет – гениальное изобретение в театре, филармонии и прочих, не чуждых высокому, общественных местах! – философствовал он. – Спасение для посредственностей! Все бездарные артисты должны скидываться, чтобы обеспечить его качественным алкоголем.
– Чтобы иметь возможность напиться там с горя, сравнивая себя с великими? – усмехнулась Маша, с интересом рассматривая выставленные бутерброды с красной рыбой и сырокопченой колбасой: есть хотелось зверски.
– Ну нет, – подмигнул ей Петя. – Я, эгоист, думаю только о наших, зрительских переживаниях. Ты вот, например, никогда не замечала, что если чуть выпить перед действом, становишься намного более благожелательным к происходящему на сцене?
– И «лебеди» лучше танцуют, и теноры громче поют? – с наигранной серьезностью спросила Маша.
– А если не лучше, то значит…
– Мало выпил?
– Ты понимаешь меня без слов!
Маша улыбнулась и повернулась к молодому человеку за стойкой:
– Два бутерброда с колбасой, пожалуйста, и…
– Бутылку французского шампанского! – безапелляционно произнес за ее спиной Петя.
– Оно же тут стоит безумных денег! – зашипела на него Маша, а буфетчик неприятно хмыкнул.
– А ты предлагаешь пить дешевый мартини или вот это? – и он, поморщившись, показал на бутылку «Советского шампанского». – Маня, нельзя быть такой патриотичной. Это может губительно сказаться на твоем желудке! Эта «Вдова Клико», наследие пушкинской вкусовщины, – и он положил пару крупных купюр, забрав у юноши бутылку французского шампанского и бокалы. – Тоже, конечно, не бог весть что, – и тут Петя холодно посмотрел на ухмыляющегося буфетчика: – Вот молодой человек явно в этом понимает. – Улыбка с широкого лица парня за стойкой мгновенно испарилась. – Но на безрыбье, как говорится…
Маша кинула виноватый взгляд на парня, вздохнув, взяла тарелку с бутербродами и прошла за Петей к высокому столику.
Петя разлил шампанское, поднял бокал:
– Ну что, за встречу? За чудесный случай, снова сведший нас вместе, так сказать!
Маша отпила из бокала и со сладострастием откусила от бутерброда.
– Да ладно тебе, Петька, что ж в ней чудесного? В меру интеллигентные люди встретились в музее. Вот если бы мы с тобой столкнулись где-нибудь в рюмочной на вокзале, к примеру. Ты – в своем костюме за десять тысяч…
– А ты – в своей новой элегантной полицейской форме… – подхватил Петя.
– Кстати, – Маша положила в рот остаток бутерброда и чуть было по примеру Андрея не облизала пальцы – господи, как же она проголодалась! – У меня ее нет!
– Да ладно! – Петя откровенно веселился. – Не удостоили? А тебе бы пошел сизо-голубой.
– В цвет моего сизого носа, который сразу привлек бы твое внимание в рюмочной? – Они весело рассмеялись, как когда-то, дружно прогуливая пары в универе.
– Ох, Каравай! – Петя подлил ей еще шампанского. – Как же я по тебе соскучился!
– Ох, Осипов! – Маша отпила шампанского – по телу разлилось сытое тепло, и приятно покалывало в кончиках пальцев: божественная смесь колбасы и игристого после рабочего дня. – Не подлизывайся!
Но Петя вдруг посмотрел на нее со всей серьезностью, и Маша, склонив голову к плечу и подняв глаза на хрустальную люстру, решила сменить тему:
– Кстати, что ты думаешь о творчестве Энгра?
Петя нахмурился:
– Кого?
– Да ладно, Осипов, это художник, классик.
– Тот, что рисовал в основном дам, обнаженных и не очень?
– Вообще-то, любимец утонченной парижской публики, – с притворной строгостью заявила Маша. – Отличный портретист и знаменитый рисовальщик! Эти самые дамы к нему в очередь выстраивались!
– Так а я о чем? – развел руками Петя. – Одно другого не исключает. Только для меня, Каравай, все эти ребята – ну, я имею в виду живопись классическую – вариант, чуть хуже «Кодака».
– В смысле? – нахмурилась Маша.
– В том смысле, – интимно взял ее под локоть и повел в сторону зала Петя, – что даже у самых приличных дам в XIX веке не было приличного фотоаппарата. Поэтому, вместо того чтобы зайти по-простому в ванную, встать, понимаешь, перед зеркалом и сделать штук десять селфи на последнюю модель айфона, они выстраивались в очередь к таким, как Энгр. Та же фигня – с пейзажами. И разница между твоими художниками такая же, как между мыльницей и хорошей камерой с качественным объективом.
Будто в подтверждение его слов зазвонил третий звонок.
– У тебя, – наставительно сказала Маша, усаживаясь в кресло в шестом ряду партера, – очень ограниченный взгляд на искусство.
– Ограниченный – не значит неверный, – парировал Петя. – И заметь: чем больше совершенствуется фотография, тем хуже рисуют наши современники. Отражение реальности теперь не востребовано: достаточно просто нажать на кнопку мобильника.
– А что востребовано? – невольно заинтересовалась Маша.
– Эмоция, – пожал плечами Петя. – Элементарная эмоция. А ее может вызвать и просто цветовое пятно. Или музыка – поэтому мы сюда и пришли!
– Это не просто музыка, – сказала Маша, присоединившись к аплодисментам, поскольку оркестр уже вышел на сцену. – Это Бетховен. И вот скажи мне, почему тогда, несмотря на востребованность эмоции, Бетховен в наши дни мало кому нужен?
– А это оттого, – ответил Петя, – что большинство умудряется получать свои эмоции от песен «Виагры». Кому сейчас нужен Бетховен?
– Мне. – Маша бросила на него чуть рассерженный взгляд и повернулась к сцене.
– Я помню, – сказал Петя просто.
Он
На этот раз все прошло совсем гладко. Он приноровился, и удовольствие от конвульсий и тяжести тела не то что стало привычным: нет, адреналин был тот же, но он заранее предвкушал конечный миг, когда жертва слабела в его руках, становилась окончательно мягкой и податливой.
Шелковый шнурок, который он использовал для этой цели, был идеален. Он говорил, что должен переодеть ее в новый костюм для позирования, сажал бедняжку перед зеркалом, накидывал шнурок на шею – будто часть экзотического перформанса… А дальше – резко смыкал руки, поднимая их чуть вверх. Зеркало являлось частью ритуала. Большое, под два метра в высоту, в псевдобарочных завитках на раме, оно стояло, чуть откинувшись на крепкой ножке. Всем этим девочкам нравилось в него глядеться – в его отражении была завораживающая глубина, преображающая их примитивное существо. Поэтому он и не отказывал им в таком удовольствии перед самым концом. И вместе с ними ловил последние мгновения никчемной жизни, приоткрывавшие завесу над их истинным началом: выпученные глаза, звериный оскал и хрипы. Они хватались за его руки, пытаясь отвести их от себя, сучили ногами, грозясь опрокинуть зеркало.
Но он все обычно предусматривал: на руки надевал перчатки для мытья посуды из грубого латекса, а зеркало ставил в точности на полметра за пределами досягаемости бьющихся в агонии ног.
Сразу после действа ему становилось нехорошо. Он скидывал бездыханную барышню с колен и шел чуть-чуть подышать свежим воздухом. Бывало и так, что, прогуливаясь, он раскланивался со своими коллегами, поддерживая с ними светскую беседу про погоду: хорошую или плохую – по обстоятельствам. Иногда они обсуждали насущные дела, и он полностью абстрагировался от мертвого тела, лежащего совсем рядом. Две его жизни шли параллельными прямыми, как и положено по математическим аксиомам – не пересекаясь.
– Ясно. – Петя ловко занял единственное свободное место у филармонии. И тактично перевел разговор на другую тему.
Перед концертным залом уже стояла толпа ожидающих и оптимистов, застывших с жалостливыми лицами в надежде на лишний билетик не от спекулянта. Маша чувствовала себя намного свободнее, ненароком забыв в «Порше» огромные, агрессивные почти розы. До начала концерта оставалось еще немного времени, и Петя повел ее в буфет.
– Буфет – гениальное изобретение в театре, филармонии и прочих, не чуждых высокому, общественных местах! – философствовал он. – Спасение для посредственностей! Все бездарные артисты должны скидываться, чтобы обеспечить его качественным алкоголем.
– Чтобы иметь возможность напиться там с горя, сравнивая себя с великими? – усмехнулась Маша, с интересом рассматривая выставленные бутерброды с красной рыбой и сырокопченой колбасой: есть хотелось зверски.
– Ну нет, – подмигнул ей Петя. – Я, эгоист, думаю только о наших, зрительских переживаниях. Ты вот, например, никогда не замечала, что если чуть выпить перед действом, становишься намного более благожелательным к происходящему на сцене?
– И «лебеди» лучше танцуют, и теноры громче поют? – с наигранной серьезностью спросила Маша.
– А если не лучше, то значит…
– Мало выпил?
– Ты понимаешь меня без слов!
Маша улыбнулась и повернулась к молодому человеку за стойкой:
– Два бутерброда с колбасой, пожалуйста, и…
– Бутылку французского шампанского! – безапелляционно произнес за ее спиной Петя.
– Оно же тут стоит безумных денег! – зашипела на него Маша, а буфетчик неприятно хмыкнул.
– А ты предлагаешь пить дешевый мартини или вот это? – и он, поморщившись, показал на бутылку «Советского шампанского». – Маня, нельзя быть такой патриотичной. Это может губительно сказаться на твоем желудке! Эта «Вдова Клико», наследие пушкинской вкусовщины, – и он положил пару крупных купюр, забрав у юноши бутылку французского шампанского и бокалы. – Тоже, конечно, не бог весть что, – и тут Петя холодно посмотрел на ухмыляющегося буфетчика: – Вот молодой человек явно в этом понимает. – Улыбка с широкого лица парня за стойкой мгновенно испарилась. – Но на безрыбье, как говорится…
Маша кинула виноватый взгляд на парня, вздохнув, взяла тарелку с бутербродами и прошла за Петей к высокому столику.
Петя разлил шампанское, поднял бокал:
– Ну что, за встречу? За чудесный случай, снова сведший нас вместе, так сказать!
Маша отпила из бокала и со сладострастием откусила от бутерброда.
– Да ладно тебе, Петька, что ж в ней чудесного? В меру интеллигентные люди встретились в музее. Вот если бы мы с тобой столкнулись где-нибудь в рюмочной на вокзале, к примеру. Ты – в своем костюме за десять тысяч…
– А ты – в своей новой элегантной полицейской форме… – подхватил Петя.
– Кстати, – Маша положила в рот остаток бутерброда и чуть было по примеру Андрея не облизала пальцы – господи, как же она проголодалась! – У меня ее нет!
– Да ладно! – Петя откровенно веселился. – Не удостоили? А тебе бы пошел сизо-голубой.
– В цвет моего сизого носа, который сразу привлек бы твое внимание в рюмочной? – Они весело рассмеялись, как когда-то, дружно прогуливая пары в универе.
– Ох, Каравай! – Петя подлил ей еще шампанского. – Как же я по тебе соскучился!
– Ох, Осипов! – Маша отпила шампанского – по телу разлилось сытое тепло, и приятно покалывало в кончиках пальцев: божественная смесь колбасы и игристого после рабочего дня. – Не подлизывайся!
Но Петя вдруг посмотрел на нее со всей серьезностью, и Маша, склонив голову к плечу и подняв глаза на хрустальную люстру, решила сменить тему:
– Кстати, что ты думаешь о творчестве Энгра?
Петя нахмурился:
– Кого?
– Да ладно, Осипов, это художник, классик.
– Тот, что рисовал в основном дам, обнаженных и не очень?
– Вообще-то, любимец утонченной парижской публики, – с притворной строгостью заявила Маша. – Отличный портретист и знаменитый рисовальщик! Эти самые дамы к нему в очередь выстраивались!
– Так а я о чем? – развел руками Петя. – Одно другого не исключает. Только для меня, Каравай, все эти ребята – ну, я имею в виду живопись классическую – вариант, чуть хуже «Кодака».
– В смысле? – нахмурилась Маша.
– В том смысле, – интимно взял ее под локоть и повел в сторону зала Петя, – что даже у самых приличных дам в XIX веке не было приличного фотоаппарата. Поэтому, вместо того чтобы зайти по-простому в ванную, встать, понимаешь, перед зеркалом и сделать штук десять селфи на последнюю модель айфона, они выстраивались в очередь к таким, как Энгр. Та же фигня – с пейзажами. И разница между твоими художниками такая же, как между мыльницей и хорошей камерой с качественным объективом.
Будто в подтверждение его слов зазвонил третий звонок.
– У тебя, – наставительно сказала Маша, усаживаясь в кресло в шестом ряду партера, – очень ограниченный взгляд на искусство.
– Ограниченный – не значит неверный, – парировал Петя. – И заметь: чем больше совершенствуется фотография, тем хуже рисуют наши современники. Отражение реальности теперь не востребовано: достаточно просто нажать на кнопку мобильника.
– А что востребовано? – невольно заинтересовалась Маша.
– Эмоция, – пожал плечами Петя. – Элементарная эмоция. А ее может вызвать и просто цветовое пятно. Или музыка – поэтому мы сюда и пришли!
– Это не просто музыка, – сказала Маша, присоединившись к аплодисментам, поскольку оркестр уже вышел на сцену. – Это Бетховен. И вот скажи мне, почему тогда, несмотря на востребованность эмоции, Бетховен в наши дни мало кому нужен?
– А это оттого, – ответил Петя, – что большинство умудряется получать свои эмоции от песен «Виагры». Кому сейчас нужен Бетховен?
– Мне. – Маша бросила на него чуть рассерженный взгляд и повернулась к сцене.
– Я помню, – сказал Петя просто.
Он
На этот раз все прошло совсем гладко. Он приноровился, и удовольствие от конвульсий и тяжести тела не то что стало привычным: нет, адреналин был тот же, но он заранее предвкушал конечный миг, когда жертва слабела в его руках, становилась окончательно мягкой и податливой.
Шелковый шнурок, который он использовал для этой цели, был идеален. Он говорил, что должен переодеть ее в новый костюм для позирования, сажал бедняжку перед зеркалом, накидывал шнурок на шею – будто часть экзотического перформанса… А дальше – резко смыкал руки, поднимая их чуть вверх. Зеркало являлось частью ритуала. Большое, под два метра в высоту, в псевдобарочных завитках на раме, оно стояло, чуть откинувшись на крепкой ножке. Всем этим девочкам нравилось в него глядеться – в его отражении была завораживающая глубина, преображающая их примитивное существо. Поэтому он и не отказывал им в таком удовольствии перед самым концом. И вместе с ними ловил последние мгновения никчемной жизни, приоткрывавшие завесу над их истинным началом: выпученные глаза, звериный оскал и хрипы. Они хватались за его руки, пытаясь отвести их от себя, сучили ногами, грозясь опрокинуть зеркало.
Но он все обычно предусматривал: на руки надевал перчатки для мытья посуды из грубого латекса, а зеркало ставил в точности на полметра за пределами досягаемости бьющихся в агонии ног.
Сразу после действа ему становилось нехорошо. Он скидывал бездыханную барышню с колен и шел чуть-чуть подышать свежим воздухом. Бывало и так, что, прогуливаясь, он раскланивался со своими коллегами, поддерживая с ними светскую беседу про погоду: хорошую или плохую – по обстоятельствам. Иногда они обсуждали насущные дела, и он полностью абстрагировался от мертвого тела, лежащего совсем рядом. Две его жизни шли параллельными прямыми, как и положено по математическим аксиомам – не пересекаясь.