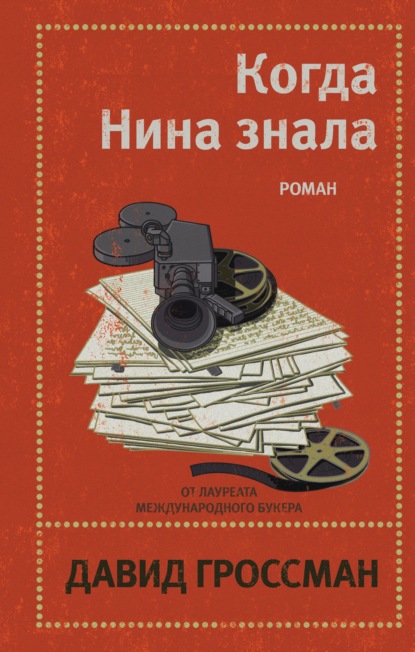По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Когда Нина знала
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Потом Вера своим приказным бен-гурионовским тоном сказала: «Рафаэль! Пошли!» Нести свой чемодан она ему не дала. Они молча двинулись в комнату Тувии. Когда-нибудь, когда я начну снимать свои фильмы (в скором будущем, иншаллах), я непременно воссоздам сцену этой прогулки под дождем, хлеставшим по диагонали в желтых лучах фонарей. По пути им не встретилось ни души. Все кибуцники сидели по домам, шли одни они, вымокшие, расчувствовавшиеся, без слов принявшие этот свой договор, ставший для них незыблемым, договор, который продержался сорок пять лет и ни разу не был нарушен.
Они вошли в квартиру – «комнаты», как по-кибуцному, – Вера поставила свой чемодан перед дверью. Они услышали, как его отец напевает арию из «Похищения из сераля», арию, которую он всегда пел, когда был в хорошем настроении. Вера посмотрела на Рафаэля. «Придешь в тихий час?» Он стоял с опущенной головой и страдал. Она двумя своими перевязанными пальцами приподняла ему подбородок. Ни одному человеку в мире не пришло бы в голову такое с Рафаэлем проделать. «Такова она, дорога жизни, Рафаэль!» – сказала она. Ему казалось, что после этой ночи он не сможет смотреть папе в глаза, да и Вере тоже. «Доброй ночи», – сказала она. И он шепотом повторил это за ней.
Вера подождала, пока он не исчезнет за поворотом тропы. Потом вытащила из чемодана маленькую сумочку и с помощью круглого зеркальца и косметического карандаша привела в порядок свое лицо. Рафаэль подглядывал за ней из-за куста бугенвилеи, видел, как она безуспешно пытается распушить мокрые волосы (волосы у нее всегда были жидкие), и глаза его малость забраковали ее физическую и душевную силу; потом она подняла лицо к небу и зашевелила губами. Он решил, что она молится, но потом сообразил, что Вера разговаривает с кем-то исчезнувшим, объясняет ему, слушает его, посылает поцелуй небесам… В глазах Рафаэля она была «вроде женщины, каких показывают в кино», но в отличие от кино она была прагматична, решительна, нетерпелива и, как и говорила про себя, «не терпела вредных и злых».
Вера задрала нос, подбородок, выпрямилась во весь свой маленький рост. Рафаэль заставлял себя думать про свою скромную, тихую маму, но она поблекла, отказалась ему являться. Вера один раз стукнула сжатым кулаком в дверь дома. Отец перестал петь. Рафаэль знал, что вот он, тот последний миг, когда он еще может что-то сделать. Он лихорадочно искал в себе свою маму, чтобы знала: он хоть в этот момент ей верен или почти верен, чтобы простила его, чтобы он уже смог отказаться от наказаний и постов, которые из-за нее на себя накладывал. Она не послала ему никакого знака, никакого ответа. Их отсутствие испугало, будто стерли часть его души. И тогда он понял, что прощения мама лишила его навсегда. «Как знак Каина», – сказал Рафаэль моей камере, и голос его задрожал. Я, как известно, была всего лишь пятнадцатилетней, но уже тогда начинала что-то понимать о семье, об упущениях и о вещах, которых задним числом не исправишь. Главное, чего мне хотелось, – это перестать снимать, подойти, обнять и утешить его, и, конечно же, я не решилась. Он бы мне не простил, если бы я изъяла такую плетку, как фильм.
Дождь мягко падал на землю. Лампа в виде кувшина, что висела над дверью, бросала на Веру желтоватый свет. Тувия открыл дверь и произнес ее имя, сперва в изумлении из-за ее мокрых одежек, а потом лихорадочным шепотом. Снова и снова его повторяя, когда сжимал ее в своих объятиях.
Дверь закрылась. Рафаэль стоял в пустоте. И без понятия, что дальше. Страшно было остаться одному, страшно было, что сейчас придется сделать нечто ужасное, нечто неизбежное, что-то, что в нем все больше нарастало. Чья-то рука коснулась его бока, и он подпрыгнул от страха. Нина, та, что сводила его с ума и ночью и днем. Ее лицо, белое, красивое, бездушное. Сейчас оно представлялось ему лицом хищной птицы. «Мамуля с папулей гуляют, – сказала Нина с кривой улыбкой. – Значит, и мы можем».
Многие годы спустя Вера рассказывала нам, что она сказала ему, когда вошла в комнату в их брачную ночь: «Прежде чем мы ляжем в постель, я хочу, чтобы ты знал уже сейчас. Я всегда буду тебя почитать и буду тебе самой хорошей и верной подругой. Но лгать я не стану: я женщина, которая в своей жизни способна лубить (она произнесла: «лубить»; мне нравится эта неправильность, она по-своему точна) только одного мужчину. Не больше. Милоша, который был моим мужем и умер у Тито, я люблю больше всего на свете, больше собственной жизни. Каждую ночь я буду рассказывать тебе о нем и о том, что случилось со мной в концлагере из-за того, что я так его любила. И еще я много плачу». А Тувия сказал: «Хорошо, что ты все откровенно мне рассказываешь, Вера. Значит, нет иллюзий и нет недомолвок. Здесь, в нашей спальне, будут фотографии обоих, твоего мужа и моей жены. Ты будешь рассказывать о нем, а я расскажу тебе о ней, и они будут святыми для нас обоих».
А мы, молодые члены этой семьи (так называемая поросль), что обожали Веру и были с ней все дни шивы[4 - Шива – недельный траур в иудаизме.], стояли, как это принято, опустив головы из уважения к покойнику, а еще чтобы не расхохотаться, когда встретишься глазами с кем-то из стоящих напротив. Вера смахивала жемчужинки слез кончиком лилового платочка, надушенного лавандой (такое существует, ей-богу. До последних нескольких лет Гиляр, ее приятель-бедуин из соседней деревни, привозил ей лаванду мешками). И тут, к нашему всеобщему изумлению, Вера вдруг ровным и совершенно прозаическим тоном заявила: «Но во время… ну, понимаете… мы с Тувией были окружены портретами тех двоих на стене». Она замолчала с каменным лицом, пока мы, «поросль», не кончили задыхаться от смеха, и тогда в очень верно просчитанную минуту добавила: «Они эту стену прекрасно изучили».
И если уж я влезла в этот пикантный уголок жизни и уже осквернила интимную сторону жизни бабушки с дедушкой, так подкину еще вот каких «дровишек»: не помню точно, когда это было, но как-то мы с ней сидели в ее кухоньке метр на метр, и вдруг, ни с того ни с сего Вера мне говорит: «В нашу первую ночь в первый раз, что мы с Тувией, ну, ты понимаешь… Тувия вдруг надевает «головной убор», так это у нас называлось, при том, что он прекрасно знает, сколько мне уже годочков… и тут я увидела, что он и впрямь джентльмен!»
Наутро, когда Рафаэль еще крепко спал, купаясь в любовной неге, в такой сладости, какой не видывал много лет, Нина запихнула свои вещи в рюкзак и молча вышла из комнаты «Лепрозория», в которой оба они провели ночь. Она прямиком пересекла кибуц и, не постучавшись, вошла в квартиру Веры с Тувией в тот час, когда они сидели за первым своим совместным завтраком. Без всякого предисловия она в подробностях описала им то, что делала с Рафаэлем. Вера посмотрела на нее и подумала, что даже в комнатах пыток в Белграде и даже у надзирательниц в лагере в Голи-Отоке ее не ненавидели так сильно, как ненавидит ее собственная дочь. Она положила нож и вилку на стол и сказала: «На всю жизнь, Нина?», и Нина сказала: «И на потом тоже».
Через много лет Вера мне рассказала, что она тогда поднялась, встала перед Тувией и сказала, что, если он сейчас велит ей уходить, она уйдет, покинет кибуц вместе с Ниной и ему больше не придется их видеть. Он подошел, обнял ее за плечи и сказал: «Никуда ты больше не уходишь, Веруля. Ты дома». Нина посмотрела на них и кивнула. Она и по сей день умеет кивнуть с этакой веселой горечью всякий раз, как сбылось ее дурное предчувствие. Она подняла с пола свой рюкзачок с вещичками, обхватила его, но уйти почему-то не смогла. Может быть, что-то в том, как они стояли напротив нее, изменило ее планы. И тогда вспыхнула быстрая перепалка на сербскохорватском. Нина шипела, что Вера предает Милоша. Вера обеими руками била ее по щекам и кричала, что Милоша она в жизни не предала, что, наоборот, она была верна ему до безумия, ни одна женщина не сделала бы для своего мужчины того, что сделала она. И вдруг воцарилась тишина. Нина, будто почуяв что-то в воздухе, как окаменела. Вера побледнела и замолчала, сжав рот, потом бессильно села.
Нина повесила рюкзак на плечо. Тувия сказал: «Но, Нина, мы хотим тебе помочь… оба хотим. Разреши нам тебе помочь». А она в слезах топнула ногой: «И не ищите меня, слышите? Только посмейте меня искать! – Она повернулась уходить, но остановилась. – Передай от меня привет своему сыночку, – сказала она Тувии. – Твой сын – самый хороший человек из всех, кого я встретила в жизни». На секунду в ее лице засияло что-то детское. Трогательно-чистое. Иногда, когда мое сердце добреет к ней – а у меня порой случаются подобные минуты, человек ведь не из камня сделан, – мне удается напомнить себе, что и наивность оказалась среди тех вещей, которые у нее украли в столь раннем возрасте. «И скажи ему, что это вовсе не из-за него, – сказала она. – Скажи ему, что женщины будут сильно, без памяти его любить. И что меня он позабудет. Передашь ему, верно?»
И исчезла.
Я снова перебегаю вперед. Пишу ночью и днем. Мы летим послезавтра утром, и до того я с этого стула не встану. Вот еще одно воспоминание, которое, как мне кажется, относится к делу: через много лет после брачной ночи Веры с Тувией (Тувия еще с нами, самый прекрасный дедушка в мире) мы с бабушкой Верой чистим овощи для запеканки у нее в кухне. Время послеобеденное, лучшие часы в кибуце и в кухне. Низкое солнышко пропускает свои золотистые лучи сквозь банки маринованных огурцов, головок лука и баклажанов, что выставлены на подоконник. На столешнице стоит ведро пеканов, которые мы с Верой утром насобирали. Большой Верин магнитофон проигрывает «Besame Mucho» и всякие другие слезливые радости. У нас с ней – минута единения и великой близости. И вдруг она внезапно говорит: «Когда я выходила за твоего дедушку, за Тувию, после Милоша прошло уже двенадцать лет. Я двенадцать лет провела одна. Ни один мужчина пальцем меня не тронул! Ноготком! И я хотела его, Тувию, а как иначе? Но больше всего мне хотелось быть с Тувией, чтобы позаботиться о твоем папе, о Рафи, для меня это было – как это говорят сионисты? – свершением. Но я и боялась постели как огня. До смерти боялась, что будет, и как я узнаю, все ли как надо, и вернется ли ко мне желание вообще. А Тувия не уступал, он ведь был еще сокол, ему всего-то было пятьдесят четыре, да если по правде, так он и сегодня хоть куда, притом, что я уже давно готова эту лавочку закрыть». – «Бабушка! – поперхнулась я. Мне было всего пятнадцать. Да что с этими взрослыми в нашей семье? Никакого желания сберечь святую простоту детей? – Зачем ты мне все это рассказываешь?»
«Потому что хочу, чтобы ты знала все! Чтобы между нами не было секретов».
«Каких-таких секретов? Есть секреты?»
И тут она испустила вздох, вырвавшийся из ее душевного подземелья, о существовании которого я и не догадывалась. «Гили, я у тебя хочу сложить все, что было со мной в жизни. Все».
«Почему именно у меня?»
«Потому что ты как я».
Я уже знала, что из бабушкиных уст это похвала, но что-то в ее голосе и еще больше в ее взгляде меня будто прошило.
«Не понимаю, бабушка».
Она быстро убрала ножик, которым чистила овощи, положила обе руки мне на плечи. Глаза ее уставились в мои. И сбежать некуда. «И я знаю, Гили, что ты никогда и никому здесь не дашь исказить мою историю, направить ее против меня».
Я вроде бы рассмеялась. Вернее, фыркнула от смеха. Попыталась обернуть разговор в шутку. Я тогда про «ее историю» еще ничего не знала.
И вдруг ее глаза вспыхнули бешенством, диким, почти звериным. И, помнится, на минуту меня пронзила мысль, что не хочу я быть детенышем этой зверины.
Нину они, конечно же, искали. Все на свете перерыли, пытались найти помощь в полиции, что ни к чему не привело, а потом обратились к частному сыщику, который прочесал весь Израиль от севера до юга и сказал им: «Ее как земля проглотила. Начинайте привыкать к тому, что она уже не вернется». Но почти через год от нее стали поступать сигналы. Со странной регулярностью, раз в четыре недели приходила пустая открытка, и на ней – ни единого слова. Из Эйлата, из Тверии, из Мицпе-Рамона, из Кирьят-Шмоны. Вера с Тувией ездили по следам этих открыток, двигались по улицам, заходили в магазины и в гостиницы, в ночные клубы и в синагоги, всем, кто попадался по пути, показывали ее фотографию, сделанную еще когда Нина приехала в Израиль. Вера за эти годы сильно похудела, и волосы стали белыми. Тувия сопровождал ее повсюду, возил ее в полученном от кибуца пикапе, следил за тем, чтобы она пила и ела. Когда увидел, что она на глазах угасает, полетел с ней в Сербию, в маленькую деревушку, в которой Милош родился и был погребен. Там, в деревне, Вера была королевой, родственники Милоша любили и почитали ее, вечерами приходили послушать ее рассказы о любви к Милошу. По утрам Тувия чинил моторы старых тракторов и посудомойки, а Вера в широкополой соломенной шляпе усаживалась в кресло-качалку напротив могилы Милоша, возле серого, покрытого патиной памятника, зажигала длинные желтые свечи и рассказывала ему про свои невзгоды из-за Нины, их дочки, про ее поиски и про Тувию, этого ангела, без которого она не смогла бы всего этого вынести…
Рафаэль отправился на собственные поиски. Минимум раз в неделю он убегал из своего учебного заведения и бродил по улицам городов, по кибуцам и по арабским деревням и просто глядел по сторонам. За эти годы он быстро повзрослел и стал еще красивее и еще удрученнее. Девчонки клеились к нему, с ума по нему сходили. Чуть меньше десяти лет назад, на его пятидесятилетии (Вера, конечно же, не допустила, чтобы такая дата прошла без великого сборища, он и в пятьдесят продолжал быть ее любимым сироткой), она достала из одного из своих ящиков сокровище: конверт с его фотографиями тех лет. Фотографиями тусовок, поездок и соревнований по бегу и по баскетболу и празднований окончания учебы. Ничто из этих влажных взглядов, на него устремленных, из этих улыбок, из этих губ, этих юных, жаждущих его прикосновения грудей, из этих стараний – ничто из всего этого его не задело и не взволновало. «Он в своем бульоне видит одну только Нину», – процитировала Вера поговорку, которой мы, разумеется, в жизни не слышали. И когда он пошел в армию, то в каждый свой отпуск продолжал ее искать. Потом на полученные из Югославии деньги (сам маршал Тито, государственный и военный деятель, распорядился пожизненно выплачивать ей пенсию) Вера купила ему подержанный фотоаппарат «Лейка». Она надеялась, что «Лейка» поможет Рафаэлю справиться со своей трагедией и, может быть, воздаст ему за его тоску, но он начал фотографировать свои поездки с поисками.
Он странствовал по дорогам, описывал Нину всем встречным и поперечным и потом просил разрешения их сфотографировать. Сотни раз рассказывал он чужакам, мужчинам и женщинам, ту капельку информации, что о ней знал. Снова и снова показывал ее фотографию и говорил: «Ее зовут Нина, один раз мы были вместе, и она исчезла. Может, вы ее видели?» Иногда он слушал самого себя, пока говорил, и думал, что он рассказывает им байку, которой никогда и не было.
И тем не менее эти случайные встречи куда-то его вывели. «Глаза раскрылись», – так он говорит в моем юношеском фильме, когда рассказывает о том периоде своей жизни. Он научился смотреть. Привлекали его в основном лица людей с трудной судьбой, людей с массивными, порой поистине царственными фигурами, «людей, по которым видно, как мелкость жизни, завладев ими, их размалывает». Вера с Тувией все пытались убедить его покончить с бродяжничеством, пробудиться, постричься, записаться на учебу, взять на себя какую-то ответственную должность в кибуце. После почти двух лет скитаний он смирился с тем, что Нину ему не найти и что на самом деле он ее упустил, но перестать фотографировать он не смог и, более того, я думаю, а в общем-то знаю (кто, как не я?), что не смог отказаться от поиска: от навыка наблюдать, необходимого для человека, который ищет то, что потерял.
Тридцать два года спустя после их брачной ночи Вера стояла на кухне и кипятила чайник для чаепития. Тувия был уже очень болен. Вера не согласилась на его госпитализацию или на наем сиделки. Четыре года ночью и днем она оживляла его, подбадривала, вывозила на концерты в Хайфу и на спектакли в Тель-Авив, решала с ним кроссворды, меняла ему памперсы и читала вслух все три ежедневные газеты. Среди «поросли» ходило мнение, что из-за войны на истощение, которую ведет Вера, смерть взвешивает, не стоит ли ей от Тувии отказаться.
Чайник закипел, и она просвистела для Тувии в свисток первый куплет их песни: «Играй, играй же на мечтах…»[5 - Первые слова из песни «Я верю» – слова еврейского поэта Шауля (Саула) Черниховского.] Тувия медленно, кашляя, вошел – кожа да кости. Он пошел по коридору – тому коридору, по которому много лет назад побежал, когда Рафаэль, его сын, укусил Веру (прошу прощения, что я впихиваю это и сюда тоже, но человеку приятно иметь собственную маленькую мифологию). По пути Тувия ухватился за висящую на вешалке куртку, за спинку стула. Присел, вздохнул. Вера взглянула на него, и ее сердце сжалось. «Тувия! – громко крикнула она. – В пижаме? Так, по-твоему, приходят на файв о-клок к леди?» Тувия слабо улыбнулся, вернулся в комнату, натянул черные трикотажные брюки, голубую рубашку в полоску, подчеркивающую голубизну его глаз, и чтобы позабавить Веру, еще и замшевый пиджак, который надевал двадцать пять лет на праздничные мероприятия и который сейчас был велик ему на несколько размеров. «А так годится, май лэди?» – спросил он и, задохнувшись, сел на свой стул. Вера стала наливать ему чай. Оба молча смотрели на тонкую струйку, льющуюся из чайника. Потом Вера увидела, как закатываются глаза Тувии, как чернеют его губы, и закричала: «Тувия! Не оставляй меня!» И он свалился на пол мертвый.
Кажется, я уже говорила, что мы с папой у Веры, в кибуце – три дня после празднования ее девяностолетия, два дня до полета в Хорватию. Где Вера? Почему ее не слышно? Услышим, еще и как! Вера, как и каждое утро, вышла проведать «своих старичков», которые, кстати, все до единого младше ее на несколько недобрых лет. Она посыплет их своим сварливым порошочком оптимизма («Я уже сказала Рафи: если придет день, когда я не смогу стоять на шоссе, на демонстрации Женщин в черном![6 - «Женщины в черном» – женское антивоенное движение. Первая группа была сформирована из израильских женщин в Иерусалиме в 1988 году, после начала Первой интифады.], мне четверти часа не выжить. Четверти часа!»); далее она, поджав губы и энергично размахивая руками, тридцать раз обойдет бассейн в своей плотно сидящей на голове розовой купальной шапочке. И потом помчится на своем электроскутере (лицо уткнулось в лобовое стекло, попа вверх – смертельная опасность для всех, кто осмелится в эти часы прогуливаться по кибуцу) к кладбищу.
Как и каждое утро, она возложит одну розу из своего садика на могилу Дуси, первой жены Тувии, и оттуда пойдет к могиле Тувии и возложит две розы, одну – ему и одну – Милошу, которого она приглашает из его могилы в сербской деревне сюда для реинкарнации.
Она сидит сгорбившись на краю могилы Тувии, раскачивается вперед-назад и рассказывает двум своим мужьям, что нового в семье и в Израиле, и горько жалуется на мир, который нехорош, «мир хочет уничтожить человечество. Часть уже уничтожил, а сейчас хочет уничтожить тех, кто остался». И горько жалуется на оккупацию: «Ох! Ведь только представить, что это произошло с нами, с евреями! Мы – трагедия трагедии!» И она тихонько плачет, и снимает тяжесть с души, и просит: «Милош и Тувия, дорогие мои мужья, где же вы? Мне уже за девяносто! Когда ж вы придете забрать меня к себе? Не забудьте здесь свою Веру!» А оттуда снова на электроскутере она мчится в свою маленькую клинику, что рядом с амбулаторией, и сидит там три часа, не поднимаясь со стула, и дает советы всем желающим по поводу диеты, и любви, и вен на ногах.
И тут совершенно случайно он, Рафаэль, ее увидел – на улице Яффо в Иерусалиме, возле здания «Дженерали», на автобусной остановке. Он быстро спрятался за рекламный щит, сфотографировал ее – как заходит в автобус, но следом за ней не пошел («побоялся, что устроит мне скандал»). На следующее утро в тот же час она снова была там в цветастом платке на голове, в больших, похожих на бабочку солнечных очках и в короткой облегающей зеленой юбке – умереть не встать (для тех, кто впервые ее видит). Но в глазах Рафаэля – одинокая и погасшая. Нина в то время работала в государственной химической лаборатории возле Русского подворья. По восемь часов в день производила анализ пищевых красителей, проверяя, нет ли в них ядов.
(Когда я пишу эти строки, это звучит для меня так странно. Что у нее общего с этой работой?)
Среди прочих обязанностей в лаборатории она отвечала и за уборку, каждый день оставалась после того, как все работники разойдутся. То ли от скуки, то ли потому, что не спешила домой, к чужому и нелепому мужику, который ее там ждал, она начала раскрашивать пищевыми красителями тонкие стеклянные пластинки, на которых производились проверки. Рисовала улицу такой, как она выглядит сквозь решетку окна. Рисовала своего отца Милоша и его любимого коня, рисовала разные уголки их маленькой квартирки на улице Космайска в Белграде. Иногда она рисовала Рафаэля. Эти его красивые губы, которые ее целовали, эту мрачную топкую страстность его глаз, это его отчаянное преклонение, которое вселяло в нее ужас.
Каждый день в послеобеденные часы Рафаэль гонялся по улицам и переулкам, ведущим к ее автобусной остановке. Если везло, он открывал для себя еще какой-то маршрут, по которому она шла от работы до автобуса. После нескольких дней этих метаний по улицам он обнаружил ту самую лабораторию и пришел и встал перед ней, когда она мыла пол. Нина вскрикнула от ужаса, и тут же разразилась этим своим заливистым смехом, и оперлась руками о стол. Вблизи она показалась ему больной, малокровной, под глазами – черные круги. Говорят, что фантазии об избавлении – дело женское. Но в этих делах ничего нет женского, боль моя: голова повелевала немедленно испариться! Выздороветь от нее! Он подошел, и изо всех сил обнял ее, и услышал свой голос, который спрашивает ее, согласна ли она с ним жить.
Она осмотрела его своим медленным отстраненным взглядом. Прямо вижу, как она на долгие минуты погружает его в некую внутреннюю пустошь. Потом торжественно передает ему в руки резиновый скребок и говорит: «Но сперва тебе придется убить дракона». Он решил, что это какая-то шутка.
Но дракон был.
«Я удрала из кибуца, моталась по Израилю и отрывалась как могла. И в какой-то момент оказалась здесь, в Иерусалиме», – рассказывала Нина фотоаппарату моего папы, пленку которого несколько месяцев назад я нашла в его «архиве» – четыре фруктовых ящика из кибуца, в которых он хранит памятки того периода, когда снимал фильмы. Это эпизод на семь с половиной минут из незаконченного фильма 16-мм. В этом году я сделала оцифровку этой пленки. И может быть, я включу ее в фильм, который о них сделаю, если найду хороший материал во время нашей поездки на остров. Вот высказала это открытым текстом, и небо на землю не свалилось.
В клипе Нина юная и красивая и настроение тоже хорошее, по крайней мере в начале беседы. «…В Иерусалиме я встретила одного мужчину, корейца, ага, из Кореи, представь себе. – Зубки у Нины белые, мелкие, брови потрясно темные, почти прямые, легкая морщинка под глазами добавляет этакую иронию ко всему, что она говорит: – Он устроил меня на эту работу в лаборатории – знал там кого-то и по выходным брал меня работать на него. Он был такой странный человек…»
Вера как-то мне о нем рассказала. Это рассказ, который настолько ни к чему не относится, настолько темный и не схожий со всеми прочими «чужестями», что даже во мне вызывает какую-то боль. Он был биохимиком, имевшим у себя в стране частную лабораторию. «Жуткий человек, – сказала мне Вера, – который заставлял Нину раз в неделю сдавать кровь для его опытов». Но Вера знала не все.
Нина на ролике с наслаждением попыхивает сигареткой, что у нее в руке, и смеется несколько истерическим смехом: «Вообще-то парней я люблю высоких, красивых, типа Рафи, который сейчас меня снимает, эй, Рафаэль Аморэ. – Она дарит ему поцелуй. – А тот был низенький, уродец и с огромными ушами. Ладно, рассказываю… Он родился в Японии и был из бедной семьи и вдобавок ко всем несчастьям еще и из корейских меньшинств…»
Лицо ее понемногу становится все жестче. Я замечаю в нем мелкие изменения, которые, как видно, очень для меня существенны. С этого момента она начинает говорить быстро, холодным и плоским голосом: «Когда в Японию приехали мормоны, они тут же стали выуживать самых бедных детей, и его родители обрадовались, что есть кто-то, кто позаботится об их ребенке, и послали его учиться в Америку. И так вот он стал американским мормоном…»
В Нине будто заговорило что-то совершенно чужое. Даже курить она стала быстро и нервно, почти автоматически. Моя реакция, когда я увидела эту первую сцену: что за чепуха? Кого это интересует? Что она плетет про этого своего корморанта?
«И тут он влюбился в еврейскую девушку, она уже мертва, не суть… и по ее следам приехал в Иерусалим, и так вот встретил меня, когда я искала место, где бы переночевать, и он посылал меня спать с иностранными мужиками, возвращаться и рассказывать, как все было».
Если еще осталась последняя тень доказательства, бросающего тень на мои дочерние качества, так это то, что даже сегодня, в моем возрасте, я готова молиться о смерти, когда она заводит разговор про свою сексуальную жизнь. «Это то, что ему нравилось, и чем все безумней и странней, тем лучше. И всегда он хотел знать подробности, чтобы я обратила внимание на каждую деталь». – «Клево, – мысленно отвечаю ей я, – ты запросто можешь стать помощницей режиссера по сценарию. Может, я унаследовала это от тебя». Я пытаюсь угадать, где, в каком месте снимал он ее для этого ролика. На фоне видны сосны, местность гористая. Роща в горах возле Иерусалима? Над Эйн-Керемом? В Сатафе?
«И что я чувствовала? – Она смеется этим своим смехом, долгим, равнодушным. – Ты, Рафи, не спрашиваешь? Конечно же, не спрашиваешь. Ты ведь всегда побаиваешься моих ответов, правда ведь?»
«Ну и как… Как это тебе?» Даже голос у Рафи сухой и плоский. Его фотоаппарат весь на нее направлен. На ее лицо, на глаза, на ее красивый рот.
«Как выпить воды из бумажного стаканчика и стаканчик выбросить».
Они вошли в квартиру – «комнаты», как по-кибуцному, – Вера поставила свой чемодан перед дверью. Они услышали, как его отец напевает арию из «Похищения из сераля», арию, которую он всегда пел, когда был в хорошем настроении. Вера посмотрела на Рафаэля. «Придешь в тихий час?» Он стоял с опущенной головой и страдал. Она двумя своими перевязанными пальцами приподняла ему подбородок. Ни одному человеку в мире не пришло бы в голову такое с Рафаэлем проделать. «Такова она, дорога жизни, Рафаэль!» – сказала она. Ему казалось, что после этой ночи он не сможет смотреть папе в глаза, да и Вере тоже. «Доброй ночи», – сказала она. И он шепотом повторил это за ней.
Вера подождала, пока он не исчезнет за поворотом тропы. Потом вытащила из чемодана маленькую сумочку и с помощью круглого зеркальца и косметического карандаша привела в порядок свое лицо. Рафаэль подглядывал за ней из-за куста бугенвилеи, видел, как она безуспешно пытается распушить мокрые волосы (волосы у нее всегда были жидкие), и глаза его малость забраковали ее физическую и душевную силу; потом она подняла лицо к небу и зашевелила губами. Он решил, что она молится, но потом сообразил, что Вера разговаривает с кем-то исчезнувшим, объясняет ему, слушает его, посылает поцелуй небесам… В глазах Рафаэля она была «вроде женщины, каких показывают в кино», но в отличие от кино она была прагматична, решительна, нетерпелива и, как и говорила про себя, «не терпела вредных и злых».
Вера задрала нос, подбородок, выпрямилась во весь свой маленький рост. Рафаэль заставлял себя думать про свою скромную, тихую маму, но она поблекла, отказалась ему являться. Вера один раз стукнула сжатым кулаком в дверь дома. Отец перестал петь. Рафаэль знал, что вот он, тот последний миг, когда он еще может что-то сделать. Он лихорадочно искал в себе свою маму, чтобы знала: он хоть в этот момент ей верен или почти верен, чтобы простила его, чтобы он уже смог отказаться от наказаний и постов, которые из-за нее на себя накладывал. Она не послала ему никакого знака, никакого ответа. Их отсутствие испугало, будто стерли часть его души. И тогда он понял, что прощения мама лишила его навсегда. «Как знак Каина», – сказал Рафаэль моей камере, и голос его задрожал. Я, как известно, была всего лишь пятнадцатилетней, но уже тогда начинала что-то понимать о семье, об упущениях и о вещах, которых задним числом не исправишь. Главное, чего мне хотелось, – это перестать снимать, подойти, обнять и утешить его, и, конечно же, я не решилась. Он бы мне не простил, если бы я изъяла такую плетку, как фильм.
Дождь мягко падал на землю. Лампа в виде кувшина, что висела над дверью, бросала на Веру желтоватый свет. Тувия открыл дверь и произнес ее имя, сперва в изумлении из-за ее мокрых одежек, а потом лихорадочным шепотом. Снова и снова его повторяя, когда сжимал ее в своих объятиях.
Дверь закрылась. Рафаэль стоял в пустоте. И без понятия, что дальше. Страшно было остаться одному, страшно было, что сейчас придется сделать нечто ужасное, нечто неизбежное, что-то, что в нем все больше нарастало. Чья-то рука коснулась его бока, и он подпрыгнул от страха. Нина, та, что сводила его с ума и ночью и днем. Ее лицо, белое, красивое, бездушное. Сейчас оно представлялось ему лицом хищной птицы. «Мамуля с папулей гуляют, – сказала Нина с кривой улыбкой. – Значит, и мы можем».
Многие годы спустя Вера рассказывала нам, что она сказала ему, когда вошла в комнату в их брачную ночь: «Прежде чем мы ляжем в постель, я хочу, чтобы ты знал уже сейчас. Я всегда буду тебя почитать и буду тебе самой хорошей и верной подругой. Но лгать я не стану: я женщина, которая в своей жизни способна лубить (она произнесла: «лубить»; мне нравится эта неправильность, она по-своему точна) только одного мужчину. Не больше. Милоша, который был моим мужем и умер у Тито, я люблю больше всего на свете, больше собственной жизни. Каждую ночь я буду рассказывать тебе о нем и о том, что случилось со мной в концлагере из-за того, что я так его любила. И еще я много плачу». А Тувия сказал: «Хорошо, что ты все откровенно мне рассказываешь, Вера. Значит, нет иллюзий и нет недомолвок. Здесь, в нашей спальне, будут фотографии обоих, твоего мужа и моей жены. Ты будешь рассказывать о нем, а я расскажу тебе о ней, и они будут святыми для нас обоих».
А мы, молодые члены этой семьи (так называемая поросль), что обожали Веру и были с ней все дни шивы[4 - Шива – недельный траур в иудаизме.], стояли, как это принято, опустив головы из уважения к покойнику, а еще чтобы не расхохотаться, когда встретишься глазами с кем-то из стоящих напротив. Вера смахивала жемчужинки слез кончиком лилового платочка, надушенного лавандой (такое существует, ей-богу. До последних нескольких лет Гиляр, ее приятель-бедуин из соседней деревни, привозил ей лаванду мешками). И тут, к нашему всеобщему изумлению, Вера вдруг ровным и совершенно прозаическим тоном заявила: «Но во время… ну, понимаете… мы с Тувией были окружены портретами тех двоих на стене». Она замолчала с каменным лицом, пока мы, «поросль», не кончили задыхаться от смеха, и тогда в очень верно просчитанную минуту добавила: «Они эту стену прекрасно изучили».
И если уж я влезла в этот пикантный уголок жизни и уже осквернила интимную сторону жизни бабушки с дедушкой, так подкину еще вот каких «дровишек»: не помню точно, когда это было, но как-то мы с ней сидели в ее кухоньке метр на метр, и вдруг, ни с того ни с сего Вера мне говорит: «В нашу первую ночь в первый раз, что мы с Тувией, ну, ты понимаешь… Тувия вдруг надевает «головной убор», так это у нас называлось, при том, что он прекрасно знает, сколько мне уже годочков… и тут я увидела, что он и впрямь джентльмен!»
Наутро, когда Рафаэль еще крепко спал, купаясь в любовной неге, в такой сладости, какой не видывал много лет, Нина запихнула свои вещи в рюкзак и молча вышла из комнаты «Лепрозория», в которой оба они провели ночь. Она прямиком пересекла кибуц и, не постучавшись, вошла в квартиру Веры с Тувией в тот час, когда они сидели за первым своим совместным завтраком. Без всякого предисловия она в подробностях описала им то, что делала с Рафаэлем. Вера посмотрела на нее и подумала, что даже в комнатах пыток в Белграде и даже у надзирательниц в лагере в Голи-Отоке ее не ненавидели так сильно, как ненавидит ее собственная дочь. Она положила нож и вилку на стол и сказала: «На всю жизнь, Нина?», и Нина сказала: «И на потом тоже».
Через много лет Вера мне рассказала, что она тогда поднялась, встала перед Тувией и сказала, что, если он сейчас велит ей уходить, она уйдет, покинет кибуц вместе с Ниной и ему больше не придется их видеть. Он подошел, обнял ее за плечи и сказал: «Никуда ты больше не уходишь, Веруля. Ты дома». Нина посмотрела на них и кивнула. Она и по сей день умеет кивнуть с этакой веселой горечью всякий раз, как сбылось ее дурное предчувствие. Она подняла с пола свой рюкзачок с вещичками, обхватила его, но уйти почему-то не смогла. Может быть, что-то в том, как они стояли напротив нее, изменило ее планы. И тогда вспыхнула быстрая перепалка на сербскохорватском. Нина шипела, что Вера предает Милоша. Вера обеими руками била ее по щекам и кричала, что Милоша она в жизни не предала, что, наоборот, она была верна ему до безумия, ни одна женщина не сделала бы для своего мужчины того, что сделала она. И вдруг воцарилась тишина. Нина, будто почуяв что-то в воздухе, как окаменела. Вера побледнела и замолчала, сжав рот, потом бессильно села.
Нина повесила рюкзак на плечо. Тувия сказал: «Но, Нина, мы хотим тебе помочь… оба хотим. Разреши нам тебе помочь». А она в слезах топнула ногой: «И не ищите меня, слышите? Только посмейте меня искать! – Она повернулась уходить, но остановилась. – Передай от меня привет своему сыночку, – сказала она Тувии. – Твой сын – самый хороший человек из всех, кого я встретила в жизни». На секунду в ее лице засияло что-то детское. Трогательно-чистое. Иногда, когда мое сердце добреет к ней – а у меня порой случаются подобные минуты, человек ведь не из камня сделан, – мне удается напомнить себе, что и наивность оказалась среди тех вещей, которые у нее украли в столь раннем возрасте. «И скажи ему, что это вовсе не из-за него, – сказала она. – Скажи ему, что женщины будут сильно, без памяти его любить. И что меня он позабудет. Передашь ему, верно?»
И исчезла.
Я снова перебегаю вперед. Пишу ночью и днем. Мы летим послезавтра утром, и до того я с этого стула не встану. Вот еще одно воспоминание, которое, как мне кажется, относится к делу: через много лет после брачной ночи Веры с Тувией (Тувия еще с нами, самый прекрасный дедушка в мире) мы с бабушкой Верой чистим овощи для запеканки у нее в кухне. Время послеобеденное, лучшие часы в кибуце и в кухне. Низкое солнышко пропускает свои золотистые лучи сквозь банки маринованных огурцов, головок лука и баклажанов, что выставлены на подоконник. На столешнице стоит ведро пеканов, которые мы с Верой утром насобирали. Большой Верин магнитофон проигрывает «Besame Mucho» и всякие другие слезливые радости. У нас с ней – минута единения и великой близости. И вдруг она внезапно говорит: «Когда я выходила за твоего дедушку, за Тувию, после Милоша прошло уже двенадцать лет. Я двенадцать лет провела одна. Ни один мужчина пальцем меня не тронул! Ноготком! И я хотела его, Тувию, а как иначе? Но больше всего мне хотелось быть с Тувией, чтобы позаботиться о твоем папе, о Рафи, для меня это было – как это говорят сионисты? – свершением. Но я и боялась постели как огня. До смерти боялась, что будет, и как я узнаю, все ли как надо, и вернется ли ко мне желание вообще. А Тувия не уступал, он ведь был еще сокол, ему всего-то было пятьдесят четыре, да если по правде, так он и сегодня хоть куда, притом, что я уже давно готова эту лавочку закрыть». – «Бабушка! – поперхнулась я. Мне было всего пятнадцать. Да что с этими взрослыми в нашей семье? Никакого желания сберечь святую простоту детей? – Зачем ты мне все это рассказываешь?»
«Потому что хочу, чтобы ты знала все! Чтобы между нами не было секретов».
«Каких-таких секретов? Есть секреты?»
И тут она испустила вздох, вырвавшийся из ее душевного подземелья, о существовании которого я и не догадывалась. «Гили, я у тебя хочу сложить все, что было со мной в жизни. Все».
«Почему именно у меня?»
«Потому что ты как я».
Я уже знала, что из бабушкиных уст это похвала, но что-то в ее голосе и еще больше в ее взгляде меня будто прошило.
«Не понимаю, бабушка».
Она быстро убрала ножик, которым чистила овощи, положила обе руки мне на плечи. Глаза ее уставились в мои. И сбежать некуда. «И я знаю, Гили, что ты никогда и никому здесь не дашь исказить мою историю, направить ее против меня».
Я вроде бы рассмеялась. Вернее, фыркнула от смеха. Попыталась обернуть разговор в шутку. Я тогда про «ее историю» еще ничего не знала.
И вдруг ее глаза вспыхнули бешенством, диким, почти звериным. И, помнится, на минуту меня пронзила мысль, что не хочу я быть детенышем этой зверины.
Нину они, конечно же, искали. Все на свете перерыли, пытались найти помощь в полиции, что ни к чему не привело, а потом обратились к частному сыщику, который прочесал весь Израиль от севера до юга и сказал им: «Ее как земля проглотила. Начинайте привыкать к тому, что она уже не вернется». Но почти через год от нее стали поступать сигналы. Со странной регулярностью, раз в четыре недели приходила пустая открытка, и на ней – ни единого слова. Из Эйлата, из Тверии, из Мицпе-Рамона, из Кирьят-Шмоны. Вера с Тувией ездили по следам этих открыток, двигались по улицам, заходили в магазины и в гостиницы, в ночные клубы и в синагоги, всем, кто попадался по пути, показывали ее фотографию, сделанную еще когда Нина приехала в Израиль. Вера за эти годы сильно похудела, и волосы стали белыми. Тувия сопровождал ее повсюду, возил ее в полученном от кибуца пикапе, следил за тем, чтобы она пила и ела. Когда увидел, что она на глазах угасает, полетел с ней в Сербию, в маленькую деревушку, в которой Милош родился и был погребен. Там, в деревне, Вера была королевой, родственники Милоша любили и почитали ее, вечерами приходили послушать ее рассказы о любви к Милошу. По утрам Тувия чинил моторы старых тракторов и посудомойки, а Вера в широкополой соломенной шляпе усаживалась в кресло-качалку напротив могилы Милоша, возле серого, покрытого патиной памятника, зажигала длинные желтые свечи и рассказывала ему про свои невзгоды из-за Нины, их дочки, про ее поиски и про Тувию, этого ангела, без которого она не смогла бы всего этого вынести…
Рафаэль отправился на собственные поиски. Минимум раз в неделю он убегал из своего учебного заведения и бродил по улицам городов, по кибуцам и по арабским деревням и просто глядел по сторонам. За эти годы он быстро повзрослел и стал еще красивее и еще удрученнее. Девчонки клеились к нему, с ума по нему сходили. Чуть меньше десяти лет назад, на его пятидесятилетии (Вера, конечно же, не допустила, чтобы такая дата прошла без великого сборища, он и в пятьдесят продолжал быть ее любимым сироткой), она достала из одного из своих ящиков сокровище: конверт с его фотографиями тех лет. Фотографиями тусовок, поездок и соревнований по бегу и по баскетболу и празднований окончания учебы. Ничто из этих влажных взглядов, на него устремленных, из этих улыбок, из этих губ, этих юных, жаждущих его прикосновения грудей, из этих стараний – ничто из всего этого его не задело и не взволновало. «Он в своем бульоне видит одну только Нину», – процитировала Вера поговорку, которой мы, разумеется, в жизни не слышали. И когда он пошел в армию, то в каждый свой отпуск продолжал ее искать. Потом на полученные из Югославии деньги (сам маршал Тито, государственный и военный деятель, распорядился пожизненно выплачивать ей пенсию) Вера купила ему подержанный фотоаппарат «Лейка». Она надеялась, что «Лейка» поможет Рафаэлю справиться со своей трагедией и, может быть, воздаст ему за его тоску, но он начал фотографировать свои поездки с поисками.
Он странствовал по дорогам, описывал Нину всем встречным и поперечным и потом просил разрешения их сфотографировать. Сотни раз рассказывал он чужакам, мужчинам и женщинам, ту капельку информации, что о ней знал. Снова и снова показывал ее фотографию и говорил: «Ее зовут Нина, один раз мы были вместе, и она исчезла. Может, вы ее видели?» Иногда он слушал самого себя, пока говорил, и думал, что он рассказывает им байку, которой никогда и не было.
И тем не менее эти случайные встречи куда-то его вывели. «Глаза раскрылись», – так он говорит в моем юношеском фильме, когда рассказывает о том периоде своей жизни. Он научился смотреть. Привлекали его в основном лица людей с трудной судьбой, людей с массивными, порой поистине царственными фигурами, «людей, по которым видно, как мелкость жизни, завладев ими, их размалывает». Вера с Тувией все пытались убедить его покончить с бродяжничеством, пробудиться, постричься, записаться на учебу, взять на себя какую-то ответственную должность в кибуце. После почти двух лет скитаний он смирился с тем, что Нину ему не найти и что на самом деле он ее упустил, но перестать фотографировать он не смог и, более того, я думаю, а в общем-то знаю (кто, как не я?), что не смог отказаться от поиска: от навыка наблюдать, необходимого для человека, который ищет то, что потерял.
Тридцать два года спустя после их брачной ночи Вера стояла на кухне и кипятила чайник для чаепития. Тувия был уже очень болен. Вера не согласилась на его госпитализацию или на наем сиделки. Четыре года ночью и днем она оживляла его, подбадривала, вывозила на концерты в Хайфу и на спектакли в Тель-Авив, решала с ним кроссворды, меняла ему памперсы и читала вслух все три ежедневные газеты. Среди «поросли» ходило мнение, что из-за войны на истощение, которую ведет Вера, смерть взвешивает, не стоит ли ей от Тувии отказаться.
Чайник закипел, и она просвистела для Тувии в свисток первый куплет их песни: «Играй, играй же на мечтах…»[5 - Первые слова из песни «Я верю» – слова еврейского поэта Шауля (Саула) Черниховского.] Тувия медленно, кашляя, вошел – кожа да кости. Он пошел по коридору – тому коридору, по которому много лет назад побежал, когда Рафаэль, его сын, укусил Веру (прошу прощения, что я впихиваю это и сюда тоже, но человеку приятно иметь собственную маленькую мифологию). По пути Тувия ухватился за висящую на вешалке куртку, за спинку стула. Присел, вздохнул. Вера взглянула на него, и ее сердце сжалось. «Тувия! – громко крикнула она. – В пижаме? Так, по-твоему, приходят на файв о-клок к леди?» Тувия слабо улыбнулся, вернулся в комнату, натянул черные трикотажные брюки, голубую рубашку в полоску, подчеркивающую голубизну его глаз, и чтобы позабавить Веру, еще и замшевый пиджак, который надевал двадцать пять лет на праздничные мероприятия и который сейчас был велик ему на несколько размеров. «А так годится, май лэди?» – спросил он и, задохнувшись, сел на свой стул. Вера стала наливать ему чай. Оба молча смотрели на тонкую струйку, льющуюся из чайника. Потом Вера увидела, как закатываются глаза Тувии, как чернеют его губы, и закричала: «Тувия! Не оставляй меня!» И он свалился на пол мертвый.
Кажется, я уже говорила, что мы с папой у Веры, в кибуце – три дня после празднования ее девяностолетия, два дня до полета в Хорватию. Где Вера? Почему ее не слышно? Услышим, еще и как! Вера, как и каждое утро, вышла проведать «своих старичков», которые, кстати, все до единого младше ее на несколько недобрых лет. Она посыплет их своим сварливым порошочком оптимизма («Я уже сказала Рафи: если придет день, когда я не смогу стоять на шоссе, на демонстрации Женщин в черном![6 - «Женщины в черном» – женское антивоенное движение. Первая группа была сформирована из израильских женщин в Иерусалиме в 1988 году, после начала Первой интифады.], мне четверти часа не выжить. Четверти часа!»); далее она, поджав губы и энергично размахивая руками, тридцать раз обойдет бассейн в своей плотно сидящей на голове розовой купальной шапочке. И потом помчится на своем электроскутере (лицо уткнулось в лобовое стекло, попа вверх – смертельная опасность для всех, кто осмелится в эти часы прогуливаться по кибуцу) к кладбищу.
Как и каждое утро, она возложит одну розу из своего садика на могилу Дуси, первой жены Тувии, и оттуда пойдет к могиле Тувии и возложит две розы, одну – ему и одну – Милошу, которого она приглашает из его могилы в сербской деревне сюда для реинкарнации.
Она сидит сгорбившись на краю могилы Тувии, раскачивается вперед-назад и рассказывает двум своим мужьям, что нового в семье и в Израиле, и горько жалуется на мир, который нехорош, «мир хочет уничтожить человечество. Часть уже уничтожил, а сейчас хочет уничтожить тех, кто остался». И горько жалуется на оккупацию: «Ох! Ведь только представить, что это произошло с нами, с евреями! Мы – трагедия трагедии!» И она тихонько плачет, и снимает тяжесть с души, и просит: «Милош и Тувия, дорогие мои мужья, где же вы? Мне уже за девяносто! Когда ж вы придете забрать меня к себе? Не забудьте здесь свою Веру!» А оттуда снова на электроскутере она мчится в свою маленькую клинику, что рядом с амбулаторией, и сидит там три часа, не поднимаясь со стула, и дает советы всем желающим по поводу диеты, и любви, и вен на ногах.
И тут совершенно случайно он, Рафаэль, ее увидел – на улице Яффо в Иерусалиме, возле здания «Дженерали», на автобусной остановке. Он быстро спрятался за рекламный щит, сфотографировал ее – как заходит в автобус, но следом за ней не пошел («побоялся, что устроит мне скандал»). На следующее утро в тот же час она снова была там в цветастом платке на голове, в больших, похожих на бабочку солнечных очках и в короткой облегающей зеленой юбке – умереть не встать (для тех, кто впервые ее видит). Но в глазах Рафаэля – одинокая и погасшая. Нина в то время работала в государственной химической лаборатории возле Русского подворья. По восемь часов в день производила анализ пищевых красителей, проверяя, нет ли в них ядов.
(Когда я пишу эти строки, это звучит для меня так странно. Что у нее общего с этой работой?)
Среди прочих обязанностей в лаборатории она отвечала и за уборку, каждый день оставалась после того, как все работники разойдутся. То ли от скуки, то ли потому, что не спешила домой, к чужому и нелепому мужику, который ее там ждал, она начала раскрашивать пищевыми красителями тонкие стеклянные пластинки, на которых производились проверки. Рисовала улицу такой, как она выглядит сквозь решетку окна. Рисовала своего отца Милоша и его любимого коня, рисовала разные уголки их маленькой квартирки на улице Космайска в Белграде. Иногда она рисовала Рафаэля. Эти его красивые губы, которые ее целовали, эту мрачную топкую страстность его глаз, это его отчаянное преклонение, которое вселяло в нее ужас.
Каждый день в послеобеденные часы Рафаэль гонялся по улицам и переулкам, ведущим к ее автобусной остановке. Если везло, он открывал для себя еще какой-то маршрут, по которому она шла от работы до автобуса. После нескольких дней этих метаний по улицам он обнаружил ту самую лабораторию и пришел и встал перед ней, когда она мыла пол. Нина вскрикнула от ужаса, и тут же разразилась этим своим заливистым смехом, и оперлась руками о стол. Вблизи она показалась ему больной, малокровной, под глазами – черные круги. Говорят, что фантазии об избавлении – дело женское. Но в этих делах ничего нет женского, боль моя: голова повелевала немедленно испариться! Выздороветь от нее! Он подошел, и изо всех сил обнял ее, и услышал свой голос, который спрашивает ее, согласна ли она с ним жить.
Она осмотрела его своим медленным отстраненным взглядом. Прямо вижу, как она на долгие минуты погружает его в некую внутреннюю пустошь. Потом торжественно передает ему в руки резиновый скребок и говорит: «Но сперва тебе придется убить дракона». Он решил, что это какая-то шутка.
Но дракон был.
«Я удрала из кибуца, моталась по Израилю и отрывалась как могла. И в какой-то момент оказалась здесь, в Иерусалиме», – рассказывала Нина фотоаппарату моего папы, пленку которого несколько месяцев назад я нашла в его «архиве» – четыре фруктовых ящика из кибуца, в которых он хранит памятки того периода, когда снимал фильмы. Это эпизод на семь с половиной минут из незаконченного фильма 16-мм. В этом году я сделала оцифровку этой пленки. И может быть, я включу ее в фильм, который о них сделаю, если найду хороший материал во время нашей поездки на остров. Вот высказала это открытым текстом, и небо на землю не свалилось.
В клипе Нина юная и красивая и настроение тоже хорошее, по крайней мере в начале беседы. «…В Иерусалиме я встретила одного мужчину, корейца, ага, из Кореи, представь себе. – Зубки у Нины белые, мелкие, брови потрясно темные, почти прямые, легкая морщинка под глазами добавляет этакую иронию ко всему, что она говорит: – Он устроил меня на эту работу в лаборатории – знал там кого-то и по выходным брал меня работать на него. Он был такой странный человек…»
Вера как-то мне о нем рассказала. Это рассказ, который настолько ни к чему не относится, настолько темный и не схожий со всеми прочими «чужестями», что даже во мне вызывает какую-то боль. Он был биохимиком, имевшим у себя в стране частную лабораторию. «Жуткий человек, – сказала мне Вера, – который заставлял Нину раз в неделю сдавать кровь для его опытов». Но Вера знала не все.
Нина на ролике с наслаждением попыхивает сигареткой, что у нее в руке, и смеется несколько истерическим смехом: «Вообще-то парней я люблю высоких, красивых, типа Рафи, который сейчас меня снимает, эй, Рафаэль Аморэ. – Она дарит ему поцелуй. – А тот был низенький, уродец и с огромными ушами. Ладно, рассказываю… Он родился в Японии и был из бедной семьи и вдобавок ко всем несчастьям еще и из корейских меньшинств…»
Лицо ее понемногу становится все жестче. Я замечаю в нем мелкие изменения, которые, как видно, очень для меня существенны. С этого момента она начинает говорить быстро, холодным и плоским голосом: «Когда в Японию приехали мормоны, они тут же стали выуживать самых бедных детей, и его родители обрадовались, что есть кто-то, кто позаботится об их ребенке, и послали его учиться в Америку. И так вот он стал американским мормоном…»
В Нине будто заговорило что-то совершенно чужое. Даже курить она стала быстро и нервно, почти автоматически. Моя реакция, когда я увидела эту первую сцену: что за чепуха? Кого это интересует? Что она плетет про этого своего корморанта?
«И тут он влюбился в еврейскую девушку, она уже мертва, не суть… и по ее следам приехал в Иерусалим, и так вот встретил меня, когда я искала место, где бы переночевать, и он посылал меня спать с иностранными мужиками, возвращаться и рассказывать, как все было».
Если еще осталась последняя тень доказательства, бросающего тень на мои дочерние качества, так это то, что даже сегодня, в моем возрасте, я готова молиться о смерти, когда она заводит разговор про свою сексуальную жизнь. «Это то, что ему нравилось, и чем все безумней и странней, тем лучше. И всегда он хотел знать подробности, чтобы я обратила внимание на каждую деталь». – «Клево, – мысленно отвечаю ей я, – ты запросто можешь стать помощницей режиссера по сценарию. Может, я унаследовала это от тебя». Я пытаюсь угадать, где, в каком месте снимал он ее для этого ролика. На фоне видны сосны, местность гористая. Роща в горах возле Иерусалима? Над Эйн-Керемом? В Сатафе?
«И что я чувствовала? – Она смеется этим своим смехом, долгим, равнодушным. – Ты, Рафи, не спрашиваешь? Конечно же, не спрашиваешь. Ты ведь всегда побаиваешься моих ответов, правда ведь?»
«Ну и как… Как это тебе?» Даже голос у Рафи сухой и плоский. Его фотоаппарат весь на нее направлен. На ее лицо, на глаза, на ее красивый рот.
«Как выпить воды из бумажного стаканчика и стаканчик выбросить».