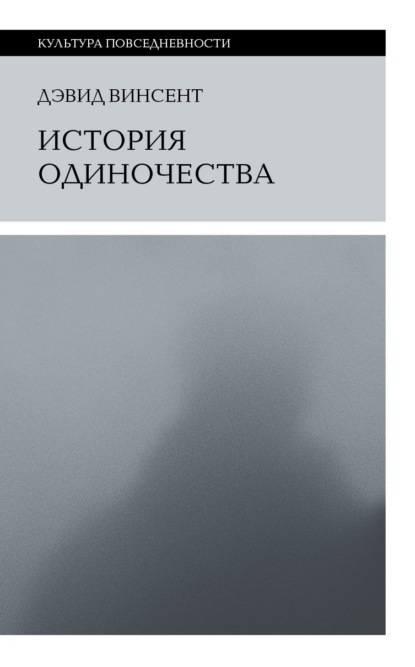По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
История одиночества
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В одном, по меньшей мере, отношении – говорю я, свернувший с общественной дороги, чтобы идти по тропе, едва заметной в пышных травах полей и подарившей мне свободу потворствовать одиноким грезам ума, для которого книга природы всегда открыта на той или другой странице с каким-нибудь уроком и утешением, – в одном, по меньшей мере, отношении могу я похвастаться подобием простоты древнейших мудрецов: я следую за моими раздумьями пешком и могу найти повод для философских размышлений везде, где колышущийся свод (лучшее убежище философа) раскинул свой роскошный покров[85 - Thelwall J. The Peripatetic; Or, Sketches of the Heart, of Nature and Society. L.: <for the author>, 1793. P. 8.].
Прогулка стала и будет оставаться важнейшим элементом теории и практики одиночества. Этот вопрос окажется в центре нашего внимания во второй главе, посвященной XIX веку, и будет вновь затронут в пятой – о веке двадцатом.
Современная история уединения
Долгие дебаты об уединении приобрели новую актуальность в связи с приверженностью Просвещения идее социального взаимодействия. Межличностное общение стимулировало инновации, но оставляло мало места для интеллектуальных поисков и самопознания. Социальное взаимодействие способствовало творчеству, но также могло отвлекать и опрощать, если не было возможности для уединения и размышления. Нужно было найти новый баланс между взаимодействием и уединением в интересах прогресса. Вместе с тем исторические формы уединения сохраняли опасную притягательность в условиях суеты и материализма урбанизирующегося общества. Стены монастыря и безлюдные природные ландшафты долгое время были очистительной альтернативой разрушающему воздействию современного мира. И те и другие грозили бесповоротным отказом от жизненно важных структур споров и договоров. На фоне этого давления были очевидны издержки социальной жизни. Росли опасения, подстегиваемые появлением медицинского «сословия», что психическая устойчивость тех, кто отвечает за достижение перемен, не может выдержать вихря личных взаимодействий. Чем жестче требования общества и чем больше участников взаимодействия, тем выше риск сползания в потенциально смертельную меланхолию.
Вопрос о том, как быть одному, оставался своеобразным молниеотводом в реакции на модерн[86 - Harris M. Solitude: In Pursuit of a Singular Life in a Crowded World. L.: Random House, 2017. P. 7.]. По мере того как после 1800 года европейское население разрасталось и переселялось из деревни в город, всё новые вопросы о должной роли одиночества вставали в самых разных контекстах. Перед «новым обществом незнакомцев», по выражению Джеймса Вернона[87 - Vernon J. Distant Strangers: How Britain Became Modern. Berkeley: University of California Press, 2014. P. 19.], стояла задача переосмысления и изменения практик, которые могли рассматриваться как усугубляющие опасность или же как использующие сильные стороны более фрагментированных межличностных отношений. Со временем были выработаны три различные функции уединения, каждая из которых была ответом на возможности и риски все большего роста населения.
Первая восходила к романтическому движению, а от него – к тем оппозиционным практикам, которыми занимался Циммерман. В этом дискурсе уединение – повторяющаяся, бесконечно переиначиваемая критика того, что было задумано как модерн. Локусом нежелательных перемен стали растущие городские центры, извращающие человеческие отношения и угрожающие физическому здоровью. Главной ареной духовного и телесного оздоровления была природа в той ее нетронутой форме, какую предоставляли Британские острова. Благодаря росту международных транспортных систем начиная с середины XIX века стало возможным посещение – личное или же посредством чтения литературы о путешествиях – поистине диких ландшафтов. Желаннее всего была неопосредованная связь не между одним человеком и другим, а между одиноким путником или путешественником и неким проявлением изначального Божьего творения. Такой уход от городского общества будет рассмотрен во второй главе, посвященной главным образом прогулкам в XIX веке, затем в пятой, где речь пойдет о поездках за город в XX веке, и, наконец, в шестой, где будет исследована все больше утрачивающая свое значение практика противостояния экстремальным природным условиям.
Вторая функция отшельнического поведения – патология модерна. Не считающаяся ни с какими правилами погоня за материальными удовольствиями и индивидуальным удовлетворением все больше угрожала здоровому общению. Тяжелые формы физической или психологической болезненности служили непосредственным, измеряемым показателем неуправляемых противоречий межличностных отношений. В течение периода, охватываемого этим исследованием, проблемы срастались одна с другой вокруг зарождающегося понятия одиночества (loneliness). До современной эпохи этот термин редко использовался в отрыве от эмоционального уединения (solitude) в более широком смысле. Мильтон в своей брошюре о разводе (1643) утверждал, что брак является прежде всего «средством от одиночества» и существует для того, чтобы обеспечить «приятную и жизнерадостную беседу мужчины с женщиной, утешить и восстановить его от зла одинокой жизни»[88 - Milton J. Divorce: In Two Books. L.: Sherwood, Neely & Jones, 1820. P. 17. Оригинальное название этого сочинения – «The Doctrine and Discipline of Divorce» (1643).]. В XVIII веке слово «одинокий» (lonely) относилось к состоянию или, чаще, месту уединения. Оно стало все чаще встречаться в творчестве поэтов-романтиков – как обозначение отчетливо негативной эмоции[89 - Оксфордский словарь английского языка. См. также обсуждение в: Lewis K. Lonesome: The Spiritual Meanings of American Solitude. L.: I. B. Tauris, 2009. P. 4.]. Безрадостные скитания Чайльд-Гарольда приводят его в Альпы – в «Природы грандиозные соборы; / Гигантский пик – как в небе снежный скальп; / И, как на трон, воссев на эти горы, / Блистает Вечность, устрашая взоры»[90 - Песнь III, строфа LXII, строки 590–594. [Байрон Дж. Г. Паломничество Чайльд-Гарольда / Пер. В. Левика // Байрон Дж. Г. Соч.: В 3 т. М.: Худ. лит., 1974. Т. 1. С. 224.]]. Однако в Лемане «человек… слишком ощутим», и он возобновляет поиски более полного одиночества: «Скорей же в горы, к высям ледяным, / К тем мыслям, к тем возвышенным отрадам, / Которым чужд я стал, живя с двуногим стадом»[91 - Песнь III, строфа LXVIII, строки 648–651. [Там же. С. 226.]].
В XIX веке термин «одиночество» вошел в широкое употребление, хотя изначально это понятие относилось к области патологического уединения, о котором рассуждали сменявшие друг друга медицинские авторитеты и прочие авторы[92 - О распространении этого термина, почти неизвестного в XVIII веке, см.: Alberti F. B. This «Modern Epidemic»: Loneliness as an Emotion Cluster and a Neglected Subject in the History of Emotions // Emotion Review. 2018. Vol. 10. № 3. P. 3–5.]. У Чарльза Диккенса в рождественском рассказе 1840 года глухой старик в праздничный день встречается с рассказчиком, который пытается вытащить его из меланхолической изоляции, описываемой в рассказе не как одиночество, а как состояние «уединения»[93 - См. рождественский эпизод из «Часов мистера Хамфри» (11 апреля 1840 года) в: Dickens Ch. A Christmas Carol and Other Christmas Writings / Intro., notes by M. Slater. L.: Penguin Classics, 2010. P. 20, 22. Похожее обсуждение «уединения» как жизни без друзей в мегаполисе см. в: Hazlitt W. London Solitude // New Writings of William Hazlitt / Ed. D. Wu. 2 vols. Oxford: Oxford University Press, 2007. Vol. 2. P. 354–355.]. Постепенно одиночество стало особым состоянием, несущим с собой определенный набор симптомов. В 1930 году Г. К. Честертон сатирически описал возникновение этого феномена, тогда еще казавшегося сугубо локальным:
Одно из тончайших проявлений неутомимого патриотизма приняло форму обращения к нации на тему одиночества. В нем содержится жалоба на то, что человек в Англии изолирован в том смысле, какого не знает большинство других стран, а также требование немедленно что-нибудь предпринять, чтобы соединить всех этих одиноких людей в цепочку взаимодействий[94 - Chesterton G. K. On Loneliness // Chesterton G. K. Come to Think of It…: A Book of Essays. L.: Methuen, 1930. P. 82.].
Обратила внимание на одиночество и зарождающаяся психология[95 - Fromm-Reichmann F. On Loneliness // Fromm-Reichmann F. Psychoanalysis and Psychotherapy: Selected Papers of Frieda Fromm-Reichmann / Ed. D. M. Bullard. Chicago: University of Chicago Press, 1959. P. 326.]. Было признано, что при самой большой его интенсивности оно способно вызывать приступы психотических заболеваний. Расплывчатое понятие меланхолии было переосмыслено как состояние, в котором взаимодействуют психические и физические симптомы. В седьмой главе будет рассмотрено появление после 1945 года одиночества как социального кризиса, кульминацией которого стали назначение первого в мире правительственного министра по одиночеству, а также публикация официальной стратегии по борьбе с этим явлением.
Третье изменение было наиболее распространенным, но при этом наименее замеченным современными авторами. Наблюдавшееся с поздневикторианского периода вытеснение врачей профессиональными социологами мало что сделало для изменения маргинального статуса уединения. Первое крупное исследование, в котором оно рассматривалось как нормальный и необходимый аспект жизни, было написано психологом Энтони Сторром лишь в 1989 году. В нем было выдвинуто обвинение против господствующей ортодоксальности: «Широко распространено мнение, – писал Сторр в предисловии, – что главным, если не единственным, источником человеческого счастья являются межличностные отношения интимного рода»[96 - Storr A. Solitude [1989]. L.: HarperCollins, 1997. P. IX.]. Его книга вызвала повышенный интерес к этой теме среди социологов, однако и в 2016 году Айра Коэн мог наблюдать, что, «хотя коллеги-социологи и добились необычайного прогресса в изучении того, как люди участвуют в социальном взаимодействии, они редко признают существование целого ареала различных типов поведения, свойственных людям тогда, когда они не вовлечены в межличностные контакты»[97 - Cohen I. J. Solitary Action: Acting on Our Own in Everyday Life. N. Y.: Oxford University Press, 2016. P. 2.]. Подобные виды деятельности, как будет показано в нашем историческом исследовании, были чем-то большим, нежели просто остаточные явления, следы времяпрепровождения, сведенного на нет шумом и энергией коммерческого прогресса. Скорее они были одновременно продуктом модерна и необходимым условием его успеха. С начала XIX века многообразное улучшение материального благосостояния, потребительских рынков и коммуникационных сетей сделали возможным более широкий спектр одиночных практик для всего населения. Уединение в его основной форме – как способ кратковременного досуга в условиях напряженной жизни – стало более доступным, особенно для женщин и трудоспособной бедноты. Как будет показано, в частности, в третьей и пятой главах, на всех этапах жизни и для всех, за исключением самой обездоленной части общества, эти формы уединения способствовали устойчивому социальному взаимодействию.
Динамику перемен в рамках трех этих функций затемняла статическая концепция уединения как деятельности. В трактате Циммермана, как и вообще в его время, да и позднее, уединение рассматривалось как простой антоним пребывания в компании. Циммерман, как мы видели, настаивал, что мотивы ухода от общества носят чрезвычайный характер, но тем не менее предполагал, что во всех случаях он имел дело с отсутствием другого человека в данном конкретном месте. Современные дискуссии об одиночестве до сих пор во многом основаны на бинарном противопоставлении личного контакта и исключающей коммуникацию изоляции. Идет ли речь о безлюдном месте на лоне природы или о пустой комнате, уединенная фигура остается ключевым компонентом опыта и понимания одиночества на протяжении всего нашего периода. Однако все большее значение приобретают еще две формы уединения. Первую можно назвать сетевым уединением, подразумевая под ним взаимодействие с другими людьми посредством печати, переписки или других средств массовой коммуникации при условии физической изоляции.
Уже в конце XVIII века, особенно при том уровне образования и том положении в обществе, которые имел врач, существовала промежуточная структура виртуальной репрезентации, благодаря которой человек мог одновременно быть предоставлен самому себе и коммуницировать с другим. В Британии мужчины и женщины из дворянского класса использовали письма для поддержания связи с дальними родственниками и деловыми партнерами уже в конце Средних веков[98 - Daybell J. The Material Letter in Early Modern England: Manuscript Letters and the Culture and Practices of Letter-Writing, 1512–1625. L.: Palgrave Macmillan, 2012. P. 20; Allen G. The Cooke Sisters: Education, Piety and Politics in Early Modern England. Manchester: Manchester University Press, 2013. P. 8–9.]. К 1800 году «эпистолярной грамотностью» (Сьюзен Уайман) обладали уже многие грамотные члены ремесленного сообщества[99 - Whyman S. The Pen and the People: English Letter-Writers 1660–1800. Oxford: Oxford University Press, 2009. P. 9–10. См. также: Vincent D. Privacy: A Short History. Cambridge: Polity, 2016. P. 47.]. Впрочем, для тех, кто занимался физическим трудом, составление или получение письма было редким событием; зато ведущие ученые уже давно привыкли иметь сеть корреспондентов по всей Европе, а с недавнего времени и в Новом Свете. Циммерман вел на этой основе не только исследовательскую, но и литературную деятельность. «Его работа об уединении, – писал Тиссо, – была воспринята с большим еclat[100 - Еclat – здесь: помпа (фр.). – Примеч. ред.] не только в Германии, но и везде, где читают по-немецки, и обеспечила его перепиской, которая доставила ему большое удовлетворение»[101 - Tissot S.-A. The Life of Zimmerman. P. 100.]. Последующее расширение европейских и глобальных почтовых сетей на основе британской системы с фиксированной предоплатой («почта за пенни», 1840) способствовало поддержанию связи между родственниками, разбросанными по карте экономическими и демографическими пертурбациями того времени[102 - Vincent D. Literacy and Popular Culture: England 1750–1914. Cambridge: Cambridge University Press, 1993. P. 32–49.]. Дополнительные средства для управления физической изоляцией принесло изобретение телефона и интернета, о которых пойдет речь в заключительной главе. Сетевое уединение и уменьшало стресс, и обогащало опыт пребывания наедине с собой. Благодаря переписке и множащимся формам печатных медиа оно позволило одиноким людям наслаждаться собственной компанией и в то же время чувствовать, что они в некотором смысле являются частью более широкого сообщества.
Вторая альтернативная форма стала предметом научного обсуждения лишь недавно[103 - См., например: Senechal D. Republic of Noise: The Loss of Solitude in Schools and Culture. Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2014. P. 34.]. Это – абстрагированное уединение, способность быть наедине с собой, оставаясь при этом среди людей; средство, позволяющее отвлекать свое внимание и свои мысли от тех, кто находится в непосредственной близости. Давние поиски ментального пространства в условиях оказываемого другими давления приобрели новую актуальность в стремительно развивающейся мегаполисной цивилизации XVIII века. В 1720 году Даниель Дефо написал второе продолжение своего эпохального романа об уединении[104 - [Defoe D.] Serious Reflections during the Life and Surprising Adventures of Robinson Crusoe: with his Vision of the Angelick World / Written by Himself, ed. G. A. Starr [1720]. L.: Pickering & Chatto, 2008. Роман не имел успеха и до 1895 года в полном виде не переиздавался.]. Робинзон Крузо вернулся в Лондон и пытается провести различие между абсолютной физической изоляцией, будь то добровольной или вынужденной, и временным уходом от окружающего общества. Переживший кораблекрушение Робинзон не испытывает ностальгии по прежней жизни. Одиночество, которым он наслаждался, было необходимо для благополучия его нравственного «я», но оно неестественно и небезопасно в том случае, если отсоединено от структур морали и сужает перспективы образованного общества. Самые глубокие формы духовной рефлексии лучше всего осуществляются в процессе повседневной деятельности. «Божественное созерцание, – настаивает Крузо, – требует состояния души, не прерываемого никакими чрезвычайными движениями или вмешательством страстей; а это, утверждаю я, гораздо легче получить и испытать в обычном течении жизни, нежели в монашеской келье или в принудительном заточении»[105 - Ibid. P. 61.]. Толпа, особенно в столице, не помеха, а подходящее условие для дисциплинированного, продуктивного размышления:
Поэтому ясно, что, как я не вижу ничего похожего на уединение в вынужденном заточении на острове, где мысли не имеют формы, подходящей для уединенного состояния, точно так же могу я утверждать, что гораздо больше наслаждаюсь уединением среди величайшего в мире человеческого собрания, то есть в Лондоне, где я пишу эти строки, чем когда-либо за все свое двадцативосьмилетнее одиночное заключение на заброшенном острове[106 - Ibid. P. 59.].
Это был вопрос о необходимом, а также и об осуществимом. Создатель Крузо не сомневался, что произвольно абстрагироваться от сложных сетей отношений, в которых он жил и работал, было абсолютно практическим решением. Его герой настаивает, что «всеми сторонами совершенного одиночества нужно так же полно наслаждаться, если мы того желаем и если достаточно подготовлены, – даже в самых густонаселенных городах, и в спешке разговоров, и в галантности двора, и в суете наших дел, – как и в пустынях Аравии или Ливии или же в одинокой жизни на необитаемом острове»[107 - Ibid. P. 66.].
В силу своей природы абстрагированное уединение оставило о себе мало свидетельств, но все же можно утверждать, что в переполненных домашних интерьерах, где большинство людей жило большую часть времени, охватываемого этим исследованием, оно и было основным средством достижения благ, традиционно востребованных для физической изоляции. Оно требовало некоторого навыка концентрации и могло варьироваться по времени от нескольких минут созерцания или мечтания до продолжительного погружения в какое-то уединенное дело или развлечение. Часто оно было связано с тем или другим типом сетевого уединения, самый очевидный пример – погружение в чтение книги прямо посреди шума домашней жизни. В домах среднего класса оно проявлялось в способности хозяев считать себя вполне одинокими в присутствии трудившейся вокруг прислуги. На протяжении всего этого времени оно будет испытывать влияние технических инноваций и, как будет показано в восьмой главе, достигнет пика с появлением мобильного телефона, позволяющего отправлять и получать текстовые сообщения.
Общими для разных реакций на модерн и разных категорий уединения были вопросы класса и гендера. Авторы конца XVIII – начала XIX века, писавшие об одиночестве и, шире, о меланхолии, не сомневались, что их главная забота касалась хорошо образованных мужчин[108 - О связи меланхолии с интеллектуальными усилиями высокообразованных мужчин см.: Cheyne G. The English Malady: Or, a Treatise of Nervous Diseases of All Kinds. L.: G. Strahan, 1733. P. 181–182; Porter R. Madness: A Brief History. Oxford: Oxford University Press, 2002. P. 83–86.]. «Напряженная и непрерывная работа мышления», как писал Томас Арнольд, – вот основная причина безумия[109 - Arnold Th. Observations on the Nature, Kinds, Causes and Prevention of Insanity. 2 vols. [2
edn.]. L.: Richard Phillips, 1806. Vol. 2. P. 64. См. также: Crichton A. An Inquiry into the Nature and Origin of Mental Derangement. Vol. 2. P. 235.]. Лишь обладатели зрелого, уравновешенного ума способны вынести опасности изоляции и вернуться к продуктивному взаимодействию с обществом. И наоборот, те, кто тратит слишком много времени на науку, оказываются особенно уязвимы для патологий одиночества, тогда как основная масса населения защищена от них своей умственной ограниченностью. Уильям Бьюкен в «Домашнем лечебнике» (1769) сформулировал это так: «Известно, что человек, непрестанно ломающий себе голову мыслями, редко пользуется совокупно и выгодами тела, и силою духа; а напротив того тот, кто, ежели можно так сказать, ничего не думает, вообще имеет и то и другое»[110 - Buchan W. Domestic Medicine. P. 119. См. также: Dolan E. Seeing Suffering in Women’s Literature of the Romantic Era. Aldershot: Ashgate, 2008. P. 25–27. [Бухан В. [Бьюкен У.] Полный и всеобщий домашний лечебник […]. М.: Тип. С. Селивановского, 1809. Т. 1. С. 111.]]. Мужчины, занятые физическим трудом, едва ли страдали от расстройств психики. Томас Троттер в «Обзоре нервного темперамента» (1812) писал: «Я не нахожу, будто шахтеры в этом районе подвержены каким-то определенным болезням; при условии умеренного пьянства они живут обычно до преклонного возраста»[111 - Trotter Th. A View of the Nervous Temperament. P. 48.].
Женщинам в большинстве текстов того времени было отказано в возможности пользоваться благами уединения. Поэтесса начала XVIII века Мэри Чадли считала это «мужским удовольствием», поэтому «никогда уединение не должно быть нашим выбором, активная жизнь содержит в себе гораздо большее совершенство»[112 - Chudleigh, Lady. Essays Upon Several Subjects in Prose and Verse. L.: R. Bonwicke et al., 1710. P. 233, 234.]. Уединение можно обрести «в наших занятиях, в наших садах и в тишине безлюдной тенистой рощи», но «никто не может быть счастлив в одиночестве, если только не имеет внутренней чистоты помыслов, не унял желаний и не подчинил свои страсти абсолютной власти разума»[113 - Ibid. P. 235, 237.]. Циммерман считал такое проявление добродетели весьма нехарактерным для женщин. Либо они были слишком заняты семейными делами, чтобы иметь возможность наслаждаться собственной компанией, либо их особая подверженность силе воображения делала их неспособными противостоять его разрушительным последствиям. «Уединение еще более чревато полным видений безумием в умах женщин, – отмечал он, – нежели в умах мужчин, поскольку воображение последних, как правило, менее управляется раздражительной чувствительностью и более сдерживается твердостью суждения»[114 - Zimmerman J. Solitude… P. 144–145.].
Считалось, что те, у кого есть свободное время, должны обладать и определенным уровнем образования, чтобы уметь извлечь пользу из своего досуга. Поэт XVII века Абрахам Каули заметил в эссе «Об уединении», что «не может рекомендовать уединение совершенно неграмотному человеку»[115 - Cowley A. Of Solitude // Cowley A. Poetry & Prose. Oxford: The Clarendon Press, 1949. P. 80.]. Сталкивающиеся с тем, что он назвал «краткими интервалами случайного уединения, которые часто случаются почти со всеми (за исключением самых посредственных из людей, коим хватает лишь необходимого для обеспечения жизни)», должны иметь доступ к книгам или к каким-то формам «затейливого искусства» для заполнения свободных часов[116 - Ibid.]. Можно утверждать, однако, что уединение существует как в верхнем, так и в нижнем регистре. С одной стороны, есть интертекстуальная литературная традиция, обзор которой вошел в трактат Циммермана и к которой обращались поэты и прозаики на протяжении всего современного периода. С другой, есть традиция обыденных практик, которая была и остается чрезвычайно важной для мужчин и женщин любого социального положения и с любым уровнем образования, поскольку они стремятся сбалансировать свою жизнь и найти какое-то пространство для себя – посреди всех тех требований, что предъявляет к ним общество.
«Краткие интервалы случайного уединения», о которых писал Каули, не были исключительной привилегией избранных, будь то мужчины или женщины. Для основной части живших на рубеже XIX–XX веков, даже в урбанизирующейся Англии, многие из имевшихся для этого возможностей были доступны и в сельской местности. В 1800 году поэт рабочего класса Роберт Блумфилд писал в поэме «Сын фермера» о молодом человеке, ухаживающем за полем, где росла пшеница, и в процессе ежедневного своего труда наслаждающемся «нередким перерывом для покоя… откуда уединение берет особое свое очарованье»[117 - Bloomfield R. The Farmer’s Boy: A Rural Poem. L.: Vernor & Hood, 1800. P. 31.]. Как будет показано в третьей и пятой главах, в течение рабочего дня бывали такие периоды, когда труд мог быть приостановлен, особенно до введения фабричного режима дня. Далее, моменты уединения случались и дома – их частота была разной в зависимости от количества и возраста детей. Многочисленность окружения также варьировалась в течение дня – по мере того как мужчины уходили на работу, а дети – в школу. И всегда (особенно, но не только в сельской местности) были за входной дверью сады, тропинки и поля, где можно было на короткое время остаться наедине с собой[118 - Vincent D. Privacy. P. 10–13, 48, 65–66.].
Эти верхний и нижний регистры уединения должны рассматриваться в соотношении друг с другом. Для этого необходимо сосредоточиться на взаимообмене между литературным дискурсом и повседневными практиками и аттитюдами. В классическом исследовании смежной темы – пасторального идеала в американской жизни – Лео Маркс утверждает, что «для того, чтобы оценить значение и силу наших американских басен, необходимо понимать взаимодействие литературного воображения с тем, что происходит вне литературы, вообще в культуре»[119 - Marx L. The Machine in the Garden: Technology and the Pastoral Ideal in America. N. Y.: Oxford University Press, 1964. P. 4.]. В течение всего периода после 1800 года мы видим ожесточенные споры вокруг таких вопросов, как, например, одиночное заключение, о котором пойдет речь в четвертой главе; в этих дискуссиях происходило сложное совмещение общих теоретических рассуждений, иные из которых восходили к столь занимавшей Циммермана монашеской традиции, и реального или воображаемого опыта обычных преступников. Точно так же – это будет показано в седьмой главе – невозможно понять и появление патологии одиночества в целом ряде социологических, психиатрических и медицинских исследований, не имея четкого понятия об основных особенностях демографии, структуры домашнего хозяйства и уровня жизни населения начиная с XIX века. Если же говорить шире, то сменявшие одна другую информационные революции – от «почты за пенни» до интернета – глубоко изменили представление о том, что такое уединение и что оно может представлять из себя в качестве коммуникативного опыта.
Вместе с тем уединение в его нижнем регистре остается темой третьестепенной. От Роберта Блумфилда и до нашего времени возможности временного ухода от общества находились и с удовольствием использовались. Филип Кох в работе «Уединение: философская беседа» пишет: «Одна из наиболее горячо прославленных добродетелей уединения – его способность предоставить укрытие от тяжких забот общественной жизни»[120 - Koch Ph. Solitude. P. 101.]. Это может иметь форму ухода от повседневной рутины на относительно продолжительное время, но чаще это всего лишь моменты, выхваченные из напряженных будней. Чаще всего и для большей части населения одиночество – это опыт, урывками добываемый в тех случаях, когда компания и ее отсутствие – равные и пересекающиеся возможности. Это будет центральным вопросом в третьей главе (о XIX веке) и пятой (о XX – начале XXI века). В то время как новейшие сторонники монашества и долгосрочной самоизоляции, о которых пойдет речь в шестой главе, порой представляют эти практики как форму духовного бейсджампинга, подвергающую психику риску длительного молчаливого самоанализа, более распространенная схема заключается в том, чтобы принять уединение просто как форму отдыха от работы и семьи. Как пишет Диана Сенешаль в своей «Республике шума», «уединение – прекрасный вид досуга. Быть одному – значит отдыхать, пусть даже недолго, от удовлетворения чужих ожиданий»[121 - Senechal D. Republic of Noise. P. XV.].
Нам нужно нечто, что можно было бы назвать тихой историей британского общества. Слишком мало внимания уделялось организуемым время от времени, зачастую безмолвным досуговым практикам, которые были и остаются жизненно важной частью жизни большинства людей в современном мире. Айра Коэн в книге «Одиночное действие: действуя наедине с собой в повседневной жизни» каталогизирует «многочисленные… общественные места, где мы обнаруживаем людей, занимающихся какой-то уединенной деятельностью», – наряду с «нашими домами, где в разное время дня люди оказываются одни или устраивают себе зону уединения, чтобы заняться домашней работой или отдохнуть в одиночестве», и отмечает, что «этот до сих пор полузакрытый ареал человеческого поведения» является «подходящим предметом для социологического исследования»[122 - Cohen I. J. Solitary Action. P. 2.]. То, что верно для настоящего, применимо и к прошлому. Социальные историки и, шире, социологи склонны сосредоточиваться на коллективных, шумных видах деятельности. Отчасти это связано со стремлением подчеркнуть сложность взаимодействия на всех уровнях общества, а не только среди образованных и привилегированных. В какой-то мере это связано с ощущением, что коллективная практика является локусом исторических перемен. А кроме того, играет роль проблема свидетельства. Блумфилдовский сын фермера, который наслаждался «нередким перерывом для покоя», не оставил об этом никаких свидетельств – равно как и усталая домохозяйка, ненадолго вышедшая на свежий воздух, чтобы отдохнуть в одиночестве. И даже в тех случаях, когда историки снисходили до рассмотрения увлечений простых людей, это, как правило, были шумные спортивные состязания и коммерциализированные массовые увеселения, которые оставили по себе след в виде письменных откликов и канцелярской документации[123 - См., например: Holt R. Sport and the British: A Modern History. Oxford: Oxford University Press, 1990; Malcolmson R. W. Popular Recreations in English Society 1700–1850. Cambridge: Cambridge University Press, 1973; Davies A. Leisure, Gender and Poverty. Buckingham: Open University Press, 1992.].
Тем не менее существует ряд исторических источников, которые все же позволяют написать эту, пусть лоскутную, тихую историю. Богатый архив сформировало постоянное распространение сетевого уединения. Как мы увидим в следующих двух главах, с самого начала охватываемого этим исследованием периода одинокое времяпрепровождение порождало литературу (периодические издания и книги), обслуживавшую изолированные практики. Через год после появления трактата Циммермана в английском переводе начал выходить журнал Sporting Magazine, в котором среди прочего публиковалась информация об одиночных прогулках на большую дистанцию и на время – популярном элементе яркой игорной культуры той эпохи[124 - См., например, биографию знаменитого пешехода мистера Фостера Пауэлла в: The Sporting Magazine. 1792. Oct. P. 7–15. Тот же журнал дал позднее выдержку из «Уединения» Циммермана в контексте практик, связанных с днем отдохновения, при дворе Людовика XV: The Sporting Magazine. 1794. Apr. P. 5.]. С конца XVIII века и до наших дней чуткая и энергичная издательская индустрия производила материалы по быстрорастущему спектру частных способов времяпрепровождения. Наряду с ними существовали книги по наиболее заметным тихим развлечениям, таким как рыбалка и садоводство, хотя в них и нечасто затрагивался вопрос о широте народного участия. В последней четверти XIX века занимающиеся всеми возможными видами невидимых хобби – от вышивки до коллекционирования марок – стали объединяться в ассоциации, которые создавали собственные архивы и публикации. В более недавнем прошлом устные истории и общественные опросы расширили сферу своей компетентности, чтобы исследовать повседневную жизнь широких масс населения. Наконец, есть еще эксперты из мира повседневности – авторы мемуаров и художественных произведений. Соратник Роберта Блумфилда, превзошедший его в успехе у потомков, Джон Клэр, был одним из немногих писателей своего или любого более позднего времени, способных работать с уединением как верхнего, так и нижнего регистра; его стихи и проза станут нашей отправной точкой в следующей главе.
В критической вселенной Циммермана уединение, к добру или к худу, осознанно практиковалось лишь незначительной частью населения. Наиболее разительным изменением в современный период стало увеличение числа людей, сознательно выделяющих время для себя и никого другого. Их поведение – свидетельство как растущей потребности в восстановительном уединении, так и устойчивого влияния материальных и коммуникативных факторов. Как будет показано в седьмой и восьмой главах, сохраняющаяся и в некоторых случаях углубляющаяся бедность населения в эпоху позднего модерна наряду с растущим сокращением инвестиций в сферу государственных услуг грозит повернуть вспять эти изменения, порождая чувство кризиса в отношении к патологии неудачного уединения в форме одиночества. Вместе с тем цифровая революция последних лет исследуемого периода, по-видимому, приведет к существенному нарушению устоявшихся моделей сетевого уединения. Критическое уединение, поиск альтернативных форм духовной истины перед лицом разрушительных социальных отношений характеризовались на протяжении всего этого времени бурным ростом, на который влияло ускоряющееся перемещение населения из сельской местности в города. Но, как будет показано в шестой главе, с поддержанием авторитета христианского уединения и святости природы как убежища от городской цивилизации возникало все больше трудностей. Спрос на них сохранялся, но во все более размытой и персонализированной форме.
Скачки «Талли-хо»
Посмертная жизнь «Уединения…» увела его далеко от истока. Книга «Циммерман об уединении» стала самостоятельным культурным явлением, во многом независимым от полного текста трактата[125 - Выходившие в XIX веке переиздания были основаны, как правило, на сокращенном французском переводе Ж. Б. Мерсье, в котором были опущены многие критические замечания об одиночестве.]. В течение XIX века она использовалась как символ, указывающий на некритическое превознесение ее предмета. Молодой человек или девушка, желавшие казаться серьезными и утонченными, старались, чтобы их видели с этой книгой, когда они гуляют за городом или же нашли себе место для спокойного чтения дома. Как и в случае с другими имевшими успех произведениями литературы, «Уединение…» присутствовало на отдыхе самого разного вида, включая скачки. В марте 1845 года трехлетний скакун мистера Уэсли, носивший кличку Уединение Циммермана, принял участие в скачках «Талли-хо» в Нортгемптоне и Питчли-Хант. Стартовав в прекрасном темпе, лошадь на первом повороте понесла, позволив своему сопернику Дегвиллю лидировать, обойдя ее на триста ярдов[126 - Дегвилль был так назван, предположительно, в честь Джеймса Харви Д’Эгвилля (ок. 1770 – ок. 1836), известного танцора и хореографа.]. В конце концов наездник вернул себе контроль над жеребцом. Газетный репортаж завершался словами: «Уединение, однако, наверстал упущенное время при подъезде к трассе и был побит лишь примерно на три корпуса»[127 - The Era. 1845. 30 Mar.].
2. «С одиночеством пойду»
Клэр, Китс и одиночество
Весной 1820 года Джон Клэр обсуждал с Джоном Китсом свою поэму «Одиночество». Встретиться лично им не удалось. В начале того года Клэр по приглашению своего издателя Джона Тейлора впервые в жизни приехал в Лондон. Он очень хотел увидеть Китса, с которым у него был общий литературный менеджер, но вышло так, что Китс был нездоров и не смог присутствовать на устроенном Тейлором ужине. Когда здоровье Китса немного улучшилось, Клэр уже вернулся домой в Хелпстон и, к своему большому сожалению, так и не увиделся с человеком, которым восхищался как поэтом и как «братом, странствующим по нелегкой дороге жизни, тем, чей взгляд улавливает порою дикий цветок, способный скрасить его одинокий путь»[128 - Clare J. The Letters of John Clare / Ed. M. Storey. Oxford: Clarendon Press, 1985. P. 74.]. После смерти Китса в Риме в феврале 1821 года Клэр написал сонет в его память.
Подобно всем остальным сочинениям, составившим в следующем году сборник Клэра «Деревенский менестрель», «Одиночество» было результатом упорной работы. Как автор объяснил в одном письме начала 1820 года, поэма «писалась урывками в период тяжелого труда прошлым летом»[129 - Ibid. P. 33.], и он с нетерпением ждал суждения Китса. Из-за невозможности личной встречи Тейлор организовал для двух своих молодых поэтов эпистолярную дискуссию[130 - Goodridge J. Junkets and Clarissimus: The Clare – Keats Dialogue // The Keats – Shelley Review. 2011. Vol. 25. № 1. P. 35; Bate J. John Clare: A Biography. L.: Picador, 2003. P. 189; Roe N. John Keats: A New Life. New Haven: Yale University Press, 2012. P. 365.]. Он показал Китсу поэму из трехсот строк, а затем изложил его замечания в письме, на которое Клэр ответил. Тейлор сообщал, что «Одиночество» Китсу понравилось, однако у него есть сомнения насчет композиции: «Когда я прочел ему „Одиночество“, он заметил, что описание слишком перевешивает чувство. Но не огорчайтесь, это хороший недостаток, и потом, вы ведь знаете, мне нужно непременно что-нибудь вырезать – или „кончен труд Отелло“, как сказано в пьесе»[131 - Clare J. The Letters of John Clare. P. 38.]. Ответ Китса отражал его общий взгляд на творчество Клэра. В другом письме того же года Тейлор писал Клэру: «Думаю, он хочет сказать вам, что слишком часто ваши образы природы вводятся, не будучи вызваны каким-то определенным чувством»[132 - Цит. по: Goodridge J. Junkets and Clarissimus. P. 44.].
Реакцию Китса понять нетрудно. Написание поэмы на эту тему было, вероятно, попыткой переписать «Элегию, написанную на сельском кладбище» Томаса Грея с точки зрения «пахаря»:
Колокол вечерний бьет
Похоронный дня уход,
Я ж, отдав свой долг труду,
С одиночеством пойду[133 - Clare J. Solitude // Clare J. The Village Minstrel. 2 vols. L.: Taylor & Hessey, 1821. Vol. 1. P. 200.].
Далее дается подробное описание жизни среди полей, окружающих дом Клэра, которое отличают точные наблюдения о природе и экспрессивная местная лексика:
Малой мышке лебеда
Пригодится для гнезда…
Сколько домиков вокруг
Разорит нечуткий плуг![134 - Ibid. P. 202.]
Время от времени Клэр посвящает несколько строк своей основной теме, прежде чем вновь вернуться к тому, что Китс назвал описанием[135 - Sales R. John Clare: A Literary Life. Basingstoke: Palgrave, 2002. P. 25.]. Трактовка одиночества основана на проверенных временем характеристиках гнетущего городского мира, от которого стремится сбежать поэт. Джеймс Томсон во «Временах года», оказавших глубокое влияние на Клэра, как и на всех других читателей и писателей из рабочего класса в начале XIX века, писал о «железном этом веке, / отребьях этих жизни»[136 - Thomson J. The Seasons [1726]. L.: John Sharpe, 1816. P. 13.]. Отозвался на тему и Питер Куртье, чья длинная поэма «Радости одиночества» имела успех на рубеже веков: «Как сладко, шумную презрев толпу, / Вдохнуть прохладу свежую лесов!»[137 - Courtier P. L. Pleasures of Solitude: With Other Poems [1800; 3
edn.]. L.: F. C. & J. Rivington, 1804. P. 19.] Клэр, в свою очередь, нашел самую очевидную рифму для своей темы: «O thou soothing Solitude, / From the vain and from the rude» («О ты, Одиночество, успокаивающее / После тщеты и грубости»)[138 - Clare J. Solitude. P. 206.]. Для всякого амбициозного поэта одиночество было едва ли не обязательной к покорению вершиной, и Клэр, желавший быть признанным крупными писателями и их аудиторией, не мог проигнорировать такую возможность.
Существует, однако, и другой способ прочтения этой поэмы, сводящий составные части в одно целое, несмотря на периодические скатывания в рутинное «чувство». В первых строках тема определяется как процесс движения: «С одиночеством пойду». Эмоция – одновременно и нечто внешнее, сопровождающее Клэра, и продукт наблюдения на ходу. Как и в большинстве его стихов, повествование было и посвящено, и обязано писателю, прогуливающемуся по дорожкам вокруг своего дома. Иногда предмет составляло само путешествие. В «Зарисовках из жизни Джона Клэра» Клэр описал начало своей жизни как поэта. По дороге на работу он перелез через стену Бургли-парка, чтобы почитать книгу вне поля зрения строгих соседей:
Прогулка стала и будет оставаться важнейшим элементом теории и практики одиночества. Этот вопрос окажется в центре нашего внимания во второй главе, посвященной XIX веку, и будет вновь затронут в пятой – о веке двадцатом.
Современная история уединения
Долгие дебаты об уединении приобрели новую актуальность в связи с приверженностью Просвещения идее социального взаимодействия. Межличностное общение стимулировало инновации, но оставляло мало места для интеллектуальных поисков и самопознания. Социальное взаимодействие способствовало творчеству, но также могло отвлекать и опрощать, если не было возможности для уединения и размышления. Нужно было найти новый баланс между взаимодействием и уединением в интересах прогресса. Вместе с тем исторические формы уединения сохраняли опасную притягательность в условиях суеты и материализма урбанизирующегося общества. Стены монастыря и безлюдные природные ландшафты долгое время были очистительной альтернативой разрушающему воздействию современного мира. И те и другие грозили бесповоротным отказом от жизненно важных структур споров и договоров. На фоне этого давления были очевидны издержки социальной жизни. Росли опасения, подстегиваемые появлением медицинского «сословия», что психическая устойчивость тех, кто отвечает за достижение перемен, не может выдержать вихря личных взаимодействий. Чем жестче требования общества и чем больше участников взаимодействия, тем выше риск сползания в потенциально смертельную меланхолию.
Вопрос о том, как быть одному, оставался своеобразным молниеотводом в реакции на модерн[86 - Harris M. Solitude: In Pursuit of a Singular Life in a Crowded World. L.: Random House, 2017. P. 7.]. По мере того как после 1800 года европейское население разрасталось и переселялось из деревни в город, всё новые вопросы о должной роли одиночества вставали в самых разных контекстах. Перед «новым обществом незнакомцев», по выражению Джеймса Вернона[87 - Vernon J. Distant Strangers: How Britain Became Modern. Berkeley: University of California Press, 2014. P. 19.], стояла задача переосмысления и изменения практик, которые могли рассматриваться как усугубляющие опасность или же как использующие сильные стороны более фрагментированных межличностных отношений. Со временем были выработаны три различные функции уединения, каждая из которых была ответом на возможности и риски все большего роста населения.
Первая восходила к романтическому движению, а от него – к тем оппозиционным практикам, которыми занимался Циммерман. В этом дискурсе уединение – повторяющаяся, бесконечно переиначиваемая критика того, что было задумано как модерн. Локусом нежелательных перемен стали растущие городские центры, извращающие человеческие отношения и угрожающие физическому здоровью. Главной ареной духовного и телесного оздоровления была природа в той ее нетронутой форме, какую предоставляли Британские острова. Благодаря росту международных транспортных систем начиная с середины XIX века стало возможным посещение – личное или же посредством чтения литературы о путешествиях – поистине диких ландшафтов. Желаннее всего была неопосредованная связь не между одним человеком и другим, а между одиноким путником или путешественником и неким проявлением изначального Божьего творения. Такой уход от городского общества будет рассмотрен во второй главе, посвященной главным образом прогулкам в XIX веке, затем в пятой, где речь пойдет о поездках за город в XX веке, и, наконец, в шестой, где будет исследована все больше утрачивающая свое значение практика противостояния экстремальным природным условиям.
Вторая функция отшельнического поведения – патология модерна. Не считающаяся ни с какими правилами погоня за материальными удовольствиями и индивидуальным удовлетворением все больше угрожала здоровому общению. Тяжелые формы физической или психологической болезненности служили непосредственным, измеряемым показателем неуправляемых противоречий межличностных отношений. В течение периода, охватываемого этим исследованием, проблемы срастались одна с другой вокруг зарождающегося понятия одиночества (loneliness). До современной эпохи этот термин редко использовался в отрыве от эмоционального уединения (solitude) в более широком смысле. Мильтон в своей брошюре о разводе (1643) утверждал, что брак является прежде всего «средством от одиночества» и существует для того, чтобы обеспечить «приятную и жизнерадостную беседу мужчины с женщиной, утешить и восстановить его от зла одинокой жизни»[88 - Milton J. Divorce: In Two Books. L.: Sherwood, Neely & Jones, 1820. P. 17. Оригинальное название этого сочинения – «The Doctrine and Discipline of Divorce» (1643).]. В XVIII веке слово «одинокий» (lonely) относилось к состоянию или, чаще, месту уединения. Оно стало все чаще встречаться в творчестве поэтов-романтиков – как обозначение отчетливо негативной эмоции[89 - Оксфордский словарь английского языка. См. также обсуждение в: Lewis K. Lonesome: The Spiritual Meanings of American Solitude. L.: I. B. Tauris, 2009. P. 4.]. Безрадостные скитания Чайльд-Гарольда приводят его в Альпы – в «Природы грандиозные соборы; / Гигантский пик – как в небе снежный скальп; / И, как на трон, воссев на эти горы, / Блистает Вечность, устрашая взоры»[90 - Песнь III, строфа LXII, строки 590–594. [Байрон Дж. Г. Паломничество Чайльд-Гарольда / Пер. В. Левика // Байрон Дж. Г. Соч.: В 3 т. М.: Худ. лит., 1974. Т. 1. С. 224.]]. Однако в Лемане «человек… слишком ощутим», и он возобновляет поиски более полного одиночества: «Скорей же в горы, к высям ледяным, / К тем мыслям, к тем возвышенным отрадам, / Которым чужд я стал, живя с двуногим стадом»[91 - Песнь III, строфа LXVIII, строки 648–651. [Там же. С. 226.]].
В XIX веке термин «одиночество» вошел в широкое употребление, хотя изначально это понятие относилось к области патологического уединения, о котором рассуждали сменявшие друг друга медицинские авторитеты и прочие авторы[92 - О распространении этого термина, почти неизвестного в XVIII веке, см.: Alberti F. B. This «Modern Epidemic»: Loneliness as an Emotion Cluster and a Neglected Subject in the History of Emotions // Emotion Review. 2018. Vol. 10. № 3. P. 3–5.]. У Чарльза Диккенса в рождественском рассказе 1840 года глухой старик в праздничный день встречается с рассказчиком, который пытается вытащить его из меланхолической изоляции, описываемой в рассказе не как одиночество, а как состояние «уединения»[93 - См. рождественский эпизод из «Часов мистера Хамфри» (11 апреля 1840 года) в: Dickens Ch. A Christmas Carol and Other Christmas Writings / Intro., notes by M. Slater. L.: Penguin Classics, 2010. P. 20, 22. Похожее обсуждение «уединения» как жизни без друзей в мегаполисе см. в: Hazlitt W. London Solitude // New Writings of William Hazlitt / Ed. D. Wu. 2 vols. Oxford: Oxford University Press, 2007. Vol. 2. P. 354–355.]. Постепенно одиночество стало особым состоянием, несущим с собой определенный набор симптомов. В 1930 году Г. К. Честертон сатирически описал возникновение этого феномена, тогда еще казавшегося сугубо локальным:
Одно из тончайших проявлений неутомимого патриотизма приняло форму обращения к нации на тему одиночества. В нем содержится жалоба на то, что человек в Англии изолирован в том смысле, какого не знает большинство других стран, а также требование немедленно что-нибудь предпринять, чтобы соединить всех этих одиноких людей в цепочку взаимодействий[94 - Chesterton G. K. On Loneliness // Chesterton G. K. Come to Think of It…: A Book of Essays. L.: Methuen, 1930. P. 82.].
Обратила внимание на одиночество и зарождающаяся психология[95 - Fromm-Reichmann F. On Loneliness // Fromm-Reichmann F. Psychoanalysis and Psychotherapy: Selected Papers of Frieda Fromm-Reichmann / Ed. D. M. Bullard. Chicago: University of Chicago Press, 1959. P. 326.]. Было признано, что при самой большой его интенсивности оно способно вызывать приступы психотических заболеваний. Расплывчатое понятие меланхолии было переосмыслено как состояние, в котором взаимодействуют психические и физические симптомы. В седьмой главе будет рассмотрено появление после 1945 года одиночества как социального кризиса, кульминацией которого стали назначение первого в мире правительственного министра по одиночеству, а также публикация официальной стратегии по борьбе с этим явлением.
Третье изменение было наиболее распространенным, но при этом наименее замеченным современными авторами. Наблюдавшееся с поздневикторианского периода вытеснение врачей профессиональными социологами мало что сделало для изменения маргинального статуса уединения. Первое крупное исследование, в котором оно рассматривалось как нормальный и необходимый аспект жизни, было написано психологом Энтони Сторром лишь в 1989 году. В нем было выдвинуто обвинение против господствующей ортодоксальности: «Широко распространено мнение, – писал Сторр в предисловии, – что главным, если не единственным, источником человеческого счастья являются межличностные отношения интимного рода»[96 - Storr A. Solitude [1989]. L.: HarperCollins, 1997. P. IX.]. Его книга вызвала повышенный интерес к этой теме среди социологов, однако и в 2016 году Айра Коэн мог наблюдать, что, «хотя коллеги-социологи и добились необычайного прогресса в изучении того, как люди участвуют в социальном взаимодействии, они редко признают существование целого ареала различных типов поведения, свойственных людям тогда, когда они не вовлечены в межличностные контакты»[97 - Cohen I. J. Solitary Action: Acting on Our Own in Everyday Life. N. Y.: Oxford University Press, 2016. P. 2.]. Подобные виды деятельности, как будет показано в нашем историческом исследовании, были чем-то большим, нежели просто остаточные явления, следы времяпрепровождения, сведенного на нет шумом и энергией коммерческого прогресса. Скорее они были одновременно продуктом модерна и необходимым условием его успеха. С начала XIX века многообразное улучшение материального благосостояния, потребительских рынков и коммуникационных сетей сделали возможным более широкий спектр одиночных практик для всего населения. Уединение в его основной форме – как способ кратковременного досуга в условиях напряженной жизни – стало более доступным, особенно для женщин и трудоспособной бедноты. Как будет показано, в частности, в третьей и пятой главах, на всех этапах жизни и для всех, за исключением самой обездоленной части общества, эти формы уединения способствовали устойчивому социальному взаимодействию.
Динамику перемен в рамках трех этих функций затемняла статическая концепция уединения как деятельности. В трактате Циммермана, как и вообще в его время, да и позднее, уединение рассматривалось как простой антоним пребывания в компании. Циммерман, как мы видели, настаивал, что мотивы ухода от общества носят чрезвычайный характер, но тем не менее предполагал, что во всех случаях он имел дело с отсутствием другого человека в данном конкретном месте. Современные дискуссии об одиночестве до сих пор во многом основаны на бинарном противопоставлении личного контакта и исключающей коммуникацию изоляции. Идет ли речь о безлюдном месте на лоне природы или о пустой комнате, уединенная фигура остается ключевым компонентом опыта и понимания одиночества на протяжении всего нашего периода. Однако все большее значение приобретают еще две формы уединения. Первую можно назвать сетевым уединением, подразумевая под ним взаимодействие с другими людьми посредством печати, переписки или других средств массовой коммуникации при условии физической изоляции.
Уже в конце XVIII века, особенно при том уровне образования и том положении в обществе, которые имел врач, существовала промежуточная структура виртуальной репрезентации, благодаря которой человек мог одновременно быть предоставлен самому себе и коммуницировать с другим. В Британии мужчины и женщины из дворянского класса использовали письма для поддержания связи с дальними родственниками и деловыми партнерами уже в конце Средних веков[98 - Daybell J. The Material Letter in Early Modern England: Manuscript Letters and the Culture and Practices of Letter-Writing, 1512–1625. L.: Palgrave Macmillan, 2012. P. 20; Allen G. The Cooke Sisters: Education, Piety and Politics in Early Modern England. Manchester: Manchester University Press, 2013. P. 8–9.]. К 1800 году «эпистолярной грамотностью» (Сьюзен Уайман) обладали уже многие грамотные члены ремесленного сообщества[99 - Whyman S. The Pen and the People: English Letter-Writers 1660–1800. Oxford: Oxford University Press, 2009. P. 9–10. См. также: Vincent D. Privacy: A Short History. Cambridge: Polity, 2016. P. 47.]. Впрочем, для тех, кто занимался физическим трудом, составление или получение письма было редким событием; зато ведущие ученые уже давно привыкли иметь сеть корреспондентов по всей Европе, а с недавнего времени и в Новом Свете. Циммерман вел на этой основе не только исследовательскую, но и литературную деятельность. «Его работа об уединении, – писал Тиссо, – была воспринята с большим еclat[100 - Еclat – здесь: помпа (фр.). – Примеч. ред.] не только в Германии, но и везде, где читают по-немецки, и обеспечила его перепиской, которая доставила ему большое удовлетворение»[101 - Tissot S.-A. The Life of Zimmerman. P. 100.]. Последующее расширение европейских и глобальных почтовых сетей на основе британской системы с фиксированной предоплатой («почта за пенни», 1840) способствовало поддержанию связи между родственниками, разбросанными по карте экономическими и демографическими пертурбациями того времени[102 - Vincent D. Literacy and Popular Culture: England 1750–1914. Cambridge: Cambridge University Press, 1993. P. 32–49.]. Дополнительные средства для управления физической изоляцией принесло изобретение телефона и интернета, о которых пойдет речь в заключительной главе. Сетевое уединение и уменьшало стресс, и обогащало опыт пребывания наедине с собой. Благодаря переписке и множащимся формам печатных медиа оно позволило одиноким людям наслаждаться собственной компанией и в то же время чувствовать, что они в некотором смысле являются частью более широкого сообщества.
Вторая альтернативная форма стала предметом научного обсуждения лишь недавно[103 - См., например: Senechal D. Republic of Noise: The Loss of Solitude in Schools and Culture. Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2014. P. 34.]. Это – абстрагированное уединение, способность быть наедине с собой, оставаясь при этом среди людей; средство, позволяющее отвлекать свое внимание и свои мысли от тех, кто находится в непосредственной близости. Давние поиски ментального пространства в условиях оказываемого другими давления приобрели новую актуальность в стремительно развивающейся мегаполисной цивилизации XVIII века. В 1720 году Даниель Дефо написал второе продолжение своего эпохального романа об уединении[104 - [Defoe D.] Serious Reflections during the Life and Surprising Adventures of Robinson Crusoe: with his Vision of the Angelick World / Written by Himself, ed. G. A. Starr [1720]. L.: Pickering & Chatto, 2008. Роман не имел успеха и до 1895 года в полном виде не переиздавался.]. Робинзон Крузо вернулся в Лондон и пытается провести различие между абсолютной физической изоляцией, будь то добровольной или вынужденной, и временным уходом от окружающего общества. Переживший кораблекрушение Робинзон не испытывает ностальгии по прежней жизни. Одиночество, которым он наслаждался, было необходимо для благополучия его нравственного «я», но оно неестественно и небезопасно в том случае, если отсоединено от структур морали и сужает перспективы образованного общества. Самые глубокие формы духовной рефлексии лучше всего осуществляются в процессе повседневной деятельности. «Божественное созерцание, – настаивает Крузо, – требует состояния души, не прерываемого никакими чрезвычайными движениями или вмешательством страстей; а это, утверждаю я, гораздо легче получить и испытать в обычном течении жизни, нежели в монашеской келье или в принудительном заточении»[105 - Ibid. P. 61.]. Толпа, особенно в столице, не помеха, а подходящее условие для дисциплинированного, продуктивного размышления:
Поэтому ясно, что, как я не вижу ничего похожего на уединение в вынужденном заточении на острове, где мысли не имеют формы, подходящей для уединенного состояния, точно так же могу я утверждать, что гораздо больше наслаждаюсь уединением среди величайшего в мире человеческого собрания, то есть в Лондоне, где я пишу эти строки, чем когда-либо за все свое двадцативосьмилетнее одиночное заключение на заброшенном острове[106 - Ibid. P. 59.].
Это был вопрос о необходимом, а также и об осуществимом. Создатель Крузо не сомневался, что произвольно абстрагироваться от сложных сетей отношений, в которых он жил и работал, было абсолютно практическим решением. Его герой настаивает, что «всеми сторонами совершенного одиночества нужно так же полно наслаждаться, если мы того желаем и если достаточно подготовлены, – даже в самых густонаселенных городах, и в спешке разговоров, и в галантности двора, и в суете наших дел, – как и в пустынях Аравии или Ливии или же в одинокой жизни на необитаемом острове»[107 - Ibid. P. 66.].
В силу своей природы абстрагированное уединение оставило о себе мало свидетельств, но все же можно утверждать, что в переполненных домашних интерьерах, где большинство людей жило большую часть времени, охватываемого этим исследованием, оно и было основным средством достижения благ, традиционно востребованных для физической изоляции. Оно требовало некоторого навыка концентрации и могло варьироваться по времени от нескольких минут созерцания или мечтания до продолжительного погружения в какое-то уединенное дело или развлечение. Часто оно было связано с тем или другим типом сетевого уединения, самый очевидный пример – погружение в чтение книги прямо посреди шума домашней жизни. В домах среднего класса оно проявлялось в способности хозяев считать себя вполне одинокими в присутствии трудившейся вокруг прислуги. На протяжении всего этого времени оно будет испытывать влияние технических инноваций и, как будет показано в восьмой главе, достигнет пика с появлением мобильного телефона, позволяющего отправлять и получать текстовые сообщения.
Общими для разных реакций на модерн и разных категорий уединения были вопросы класса и гендера. Авторы конца XVIII – начала XIX века, писавшие об одиночестве и, шире, о меланхолии, не сомневались, что их главная забота касалась хорошо образованных мужчин[108 - О связи меланхолии с интеллектуальными усилиями высокообразованных мужчин см.: Cheyne G. The English Malady: Or, a Treatise of Nervous Diseases of All Kinds. L.: G. Strahan, 1733. P. 181–182; Porter R. Madness: A Brief History. Oxford: Oxford University Press, 2002. P. 83–86.]. «Напряженная и непрерывная работа мышления», как писал Томас Арнольд, – вот основная причина безумия[109 - Arnold Th. Observations on the Nature, Kinds, Causes and Prevention of Insanity. 2 vols. [2
edn.]. L.: Richard Phillips, 1806. Vol. 2. P. 64. См. также: Crichton A. An Inquiry into the Nature and Origin of Mental Derangement. Vol. 2. P. 235.]. Лишь обладатели зрелого, уравновешенного ума способны вынести опасности изоляции и вернуться к продуктивному взаимодействию с обществом. И наоборот, те, кто тратит слишком много времени на науку, оказываются особенно уязвимы для патологий одиночества, тогда как основная масса населения защищена от них своей умственной ограниченностью. Уильям Бьюкен в «Домашнем лечебнике» (1769) сформулировал это так: «Известно, что человек, непрестанно ломающий себе голову мыслями, редко пользуется совокупно и выгодами тела, и силою духа; а напротив того тот, кто, ежели можно так сказать, ничего не думает, вообще имеет и то и другое»[110 - Buchan W. Domestic Medicine. P. 119. См. также: Dolan E. Seeing Suffering in Women’s Literature of the Romantic Era. Aldershot: Ashgate, 2008. P. 25–27. [Бухан В. [Бьюкен У.] Полный и всеобщий домашний лечебник […]. М.: Тип. С. Селивановского, 1809. Т. 1. С. 111.]]. Мужчины, занятые физическим трудом, едва ли страдали от расстройств психики. Томас Троттер в «Обзоре нервного темперамента» (1812) писал: «Я не нахожу, будто шахтеры в этом районе подвержены каким-то определенным болезням; при условии умеренного пьянства они живут обычно до преклонного возраста»[111 - Trotter Th. A View of the Nervous Temperament. P. 48.].
Женщинам в большинстве текстов того времени было отказано в возможности пользоваться благами уединения. Поэтесса начала XVIII века Мэри Чадли считала это «мужским удовольствием», поэтому «никогда уединение не должно быть нашим выбором, активная жизнь содержит в себе гораздо большее совершенство»[112 - Chudleigh, Lady. Essays Upon Several Subjects in Prose and Verse. L.: R. Bonwicke et al., 1710. P. 233, 234.]. Уединение можно обрести «в наших занятиях, в наших садах и в тишине безлюдной тенистой рощи», но «никто не может быть счастлив в одиночестве, если только не имеет внутренней чистоты помыслов, не унял желаний и не подчинил свои страсти абсолютной власти разума»[113 - Ibid. P. 235, 237.]. Циммерман считал такое проявление добродетели весьма нехарактерным для женщин. Либо они были слишком заняты семейными делами, чтобы иметь возможность наслаждаться собственной компанией, либо их особая подверженность силе воображения делала их неспособными противостоять его разрушительным последствиям. «Уединение еще более чревато полным видений безумием в умах женщин, – отмечал он, – нежели в умах мужчин, поскольку воображение последних, как правило, менее управляется раздражительной чувствительностью и более сдерживается твердостью суждения»[114 - Zimmerman J. Solitude… P. 144–145.].
Считалось, что те, у кого есть свободное время, должны обладать и определенным уровнем образования, чтобы уметь извлечь пользу из своего досуга. Поэт XVII века Абрахам Каули заметил в эссе «Об уединении», что «не может рекомендовать уединение совершенно неграмотному человеку»[115 - Cowley A. Of Solitude // Cowley A. Poetry & Prose. Oxford: The Clarendon Press, 1949. P. 80.]. Сталкивающиеся с тем, что он назвал «краткими интервалами случайного уединения, которые часто случаются почти со всеми (за исключением самых посредственных из людей, коим хватает лишь необходимого для обеспечения жизни)», должны иметь доступ к книгам или к каким-то формам «затейливого искусства» для заполнения свободных часов[116 - Ibid.]. Можно утверждать, однако, что уединение существует как в верхнем, так и в нижнем регистре. С одной стороны, есть интертекстуальная литературная традиция, обзор которой вошел в трактат Циммермана и к которой обращались поэты и прозаики на протяжении всего современного периода. С другой, есть традиция обыденных практик, которая была и остается чрезвычайно важной для мужчин и женщин любого социального положения и с любым уровнем образования, поскольку они стремятся сбалансировать свою жизнь и найти какое-то пространство для себя – посреди всех тех требований, что предъявляет к ним общество.
«Краткие интервалы случайного уединения», о которых писал Каули, не были исключительной привилегией избранных, будь то мужчины или женщины. Для основной части живших на рубеже XIX–XX веков, даже в урбанизирующейся Англии, многие из имевшихся для этого возможностей были доступны и в сельской местности. В 1800 году поэт рабочего класса Роберт Блумфилд писал в поэме «Сын фермера» о молодом человеке, ухаживающем за полем, где росла пшеница, и в процессе ежедневного своего труда наслаждающемся «нередким перерывом для покоя… откуда уединение берет особое свое очарованье»[117 - Bloomfield R. The Farmer’s Boy: A Rural Poem. L.: Vernor & Hood, 1800. P. 31.]. Как будет показано в третьей и пятой главах, в течение рабочего дня бывали такие периоды, когда труд мог быть приостановлен, особенно до введения фабричного режима дня. Далее, моменты уединения случались и дома – их частота была разной в зависимости от количества и возраста детей. Многочисленность окружения также варьировалась в течение дня – по мере того как мужчины уходили на работу, а дети – в школу. И всегда (особенно, но не только в сельской местности) были за входной дверью сады, тропинки и поля, где можно было на короткое время остаться наедине с собой[118 - Vincent D. Privacy. P. 10–13, 48, 65–66.].
Эти верхний и нижний регистры уединения должны рассматриваться в соотношении друг с другом. Для этого необходимо сосредоточиться на взаимообмене между литературным дискурсом и повседневными практиками и аттитюдами. В классическом исследовании смежной темы – пасторального идеала в американской жизни – Лео Маркс утверждает, что «для того, чтобы оценить значение и силу наших американских басен, необходимо понимать взаимодействие литературного воображения с тем, что происходит вне литературы, вообще в культуре»[119 - Marx L. The Machine in the Garden: Technology and the Pastoral Ideal in America. N. Y.: Oxford University Press, 1964. P. 4.]. В течение всего периода после 1800 года мы видим ожесточенные споры вокруг таких вопросов, как, например, одиночное заключение, о котором пойдет речь в четвертой главе; в этих дискуссиях происходило сложное совмещение общих теоретических рассуждений, иные из которых восходили к столь занимавшей Циммермана монашеской традиции, и реального или воображаемого опыта обычных преступников. Точно так же – это будет показано в седьмой главе – невозможно понять и появление патологии одиночества в целом ряде социологических, психиатрических и медицинских исследований, не имея четкого понятия об основных особенностях демографии, структуры домашнего хозяйства и уровня жизни населения начиная с XIX века. Если же говорить шире, то сменявшие одна другую информационные революции – от «почты за пенни» до интернета – глубоко изменили представление о том, что такое уединение и что оно может представлять из себя в качестве коммуникативного опыта.
Вместе с тем уединение в его нижнем регистре остается темой третьестепенной. От Роберта Блумфилда и до нашего времени возможности временного ухода от общества находились и с удовольствием использовались. Филип Кох в работе «Уединение: философская беседа» пишет: «Одна из наиболее горячо прославленных добродетелей уединения – его способность предоставить укрытие от тяжких забот общественной жизни»[120 - Koch Ph. Solitude. P. 101.]. Это может иметь форму ухода от повседневной рутины на относительно продолжительное время, но чаще это всего лишь моменты, выхваченные из напряженных будней. Чаще всего и для большей части населения одиночество – это опыт, урывками добываемый в тех случаях, когда компания и ее отсутствие – равные и пересекающиеся возможности. Это будет центральным вопросом в третьей главе (о XIX веке) и пятой (о XX – начале XXI века). В то время как новейшие сторонники монашества и долгосрочной самоизоляции, о которых пойдет речь в шестой главе, порой представляют эти практики как форму духовного бейсджампинга, подвергающую психику риску длительного молчаливого самоанализа, более распространенная схема заключается в том, чтобы принять уединение просто как форму отдыха от работы и семьи. Как пишет Диана Сенешаль в своей «Республике шума», «уединение – прекрасный вид досуга. Быть одному – значит отдыхать, пусть даже недолго, от удовлетворения чужих ожиданий»[121 - Senechal D. Republic of Noise. P. XV.].
Нам нужно нечто, что можно было бы назвать тихой историей британского общества. Слишком мало внимания уделялось организуемым время от времени, зачастую безмолвным досуговым практикам, которые были и остаются жизненно важной частью жизни большинства людей в современном мире. Айра Коэн в книге «Одиночное действие: действуя наедине с собой в повседневной жизни» каталогизирует «многочисленные… общественные места, где мы обнаруживаем людей, занимающихся какой-то уединенной деятельностью», – наряду с «нашими домами, где в разное время дня люди оказываются одни или устраивают себе зону уединения, чтобы заняться домашней работой или отдохнуть в одиночестве», и отмечает, что «этот до сих пор полузакрытый ареал человеческого поведения» является «подходящим предметом для социологического исследования»[122 - Cohen I. J. Solitary Action. P. 2.]. То, что верно для настоящего, применимо и к прошлому. Социальные историки и, шире, социологи склонны сосредоточиваться на коллективных, шумных видах деятельности. Отчасти это связано со стремлением подчеркнуть сложность взаимодействия на всех уровнях общества, а не только среди образованных и привилегированных. В какой-то мере это связано с ощущением, что коллективная практика является локусом исторических перемен. А кроме того, играет роль проблема свидетельства. Блумфилдовский сын фермера, который наслаждался «нередким перерывом для покоя», не оставил об этом никаких свидетельств – равно как и усталая домохозяйка, ненадолго вышедшая на свежий воздух, чтобы отдохнуть в одиночестве. И даже в тех случаях, когда историки снисходили до рассмотрения увлечений простых людей, это, как правило, были шумные спортивные состязания и коммерциализированные массовые увеселения, которые оставили по себе след в виде письменных откликов и канцелярской документации[123 - См., например: Holt R. Sport and the British: A Modern History. Oxford: Oxford University Press, 1990; Malcolmson R. W. Popular Recreations in English Society 1700–1850. Cambridge: Cambridge University Press, 1973; Davies A. Leisure, Gender and Poverty. Buckingham: Open University Press, 1992.].
Тем не менее существует ряд исторических источников, которые все же позволяют написать эту, пусть лоскутную, тихую историю. Богатый архив сформировало постоянное распространение сетевого уединения. Как мы увидим в следующих двух главах, с самого начала охватываемого этим исследованием периода одинокое времяпрепровождение порождало литературу (периодические издания и книги), обслуживавшую изолированные практики. Через год после появления трактата Циммермана в английском переводе начал выходить журнал Sporting Magazine, в котором среди прочего публиковалась информация об одиночных прогулках на большую дистанцию и на время – популярном элементе яркой игорной культуры той эпохи[124 - См., например, биографию знаменитого пешехода мистера Фостера Пауэлла в: The Sporting Magazine. 1792. Oct. P. 7–15. Тот же журнал дал позднее выдержку из «Уединения» Циммермана в контексте практик, связанных с днем отдохновения, при дворе Людовика XV: The Sporting Magazine. 1794. Apr. P. 5.]. С конца XVIII века и до наших дней чуткая и энергичная издательская индустрия производила материалы по быстрорастущему спектру частных способов времяпрепровождения. Наряду с ними существовали книги по наиболее заметным тихим развлечениям, таким как рыбалка и садоводство, хотя в них и нечасто затрагивался вопрос о широте народного участия. В последней четверти XIX века занимающиеся всеми возможными видами невидимых хобби – от вышивки до коллекционирования марок – стали объединяться в ассоциации, которые создавали собственные архивы и публикации. В более недавнем прошлом устные истории и общественные опросы расширили сферу своей компетентности, чтобы исследовать повседневную жизнь широких масс населения. Наконец, есть еще эксперты из мира повседневности – авторы мемуаров и художественных произведений. Соратник Роберта Блумфилда, превзошедший его в успехе у потомков, Джон Клэр, был одним из немногих писателей своего или любого более позднего времени, способных работать с уединением как верхнего, так и нижнего регистра; его стихи и проза станут нашей отправной точкой в следующей главе.
В критической вселенной Циммермана уединение, к добру или к худу, осознанно практиковалось лишь незначительной частью населения. Наиболее разительным изменением в современный период стало увеличение числа людей, сознательно выделяющих время для себя и никого другого. Их поведение – свидетельство как растущей потребности в восстановительном уединении, так и устойчивого влияния материальных и коммуникативных факторов. Как будет показано в седьмой и восьмой главах, сохраняющаяся и в некоторых случаях углубляющаяся бедность населения в эпоху позднего модерна наряду с растущим сокращением инвестиций в сферу государственных услуг грозит повернуть вспять эти изменения, порождая чувство кризиса в отношении к патологии неудачного уединения в форме одиночества. Вместе с тем цифровая революция последних лет исследуемого периода, по-видимому, приведет к существенному нарушению устоявшихся моделей сетевого уединения. Критическое уединение, поиск альтернативных форм духовной истины перед лицом разрушительных социальных отношений характеризовались на протяжении всего этого времени бурным ростом, на который влияло ускоряющееся перемещение населения из сельской местности в города. Но, как будет показано в шестой главе, с поддержанием авторитета христианского уединения и святости природы как убежища от городской цивилизации возникало все больше трудностей. Спрос на них сохранялся, но во все более размытой и персонализированной форме.
Скачки «Талли-хо»
Посмертная жизнь «Уединения…» увела его далеко от истока. Книга «Циммерман об уединении» стала самостоятельным культурным явлением, во многом независимым от полного текста трактата[125 - Выходившие в XIX веке переиздания были основаны, как правило, на сокращенном французском переводе Ж. Б. Мерсье, в котором были опущены многие критические замечания об одиночестве.]. В течение XIX века она использовалась как символ, указывающий на некритическое превознесение ее предмета. Молодой человек или девушка, желавшие казаться серьезными и утонченными, старались, чтобы их видели с этой книгой, когда они гуляют за городом или же нашли себе место для спокойного чтения дома. Как и в случае с другими имевшими успех произведениями литературы, «Уединение…» присутствовало на отдыхе самого разного вида, включая скачки. В марте 1845 года трехлетний скакун мистера Уэсли, носивший кличку Уединение Циммермана, принял участие в скачках «Талли-хо» в Нортгемптоне и Питчли-Хант. Стартовав в прекрасном темпе, лошадь на первом повороте понесла, позволив своему сопернику Дегвиллю лидировать, обойдя ее на триста ярдов[126 - Дегвилль был так назван, предположительно, в честь Джеймса Харви Д’Эгвилля (ок. 1770 – ок. 1836), известного танцора и хореографа.]. В конце концов наездник вернул себе контроль над жеребцом. Газетный репортаж завершался словами: «Уединение, однако, наверстал упущенное время при подъезде к трассе и был побит лишь примерно на три корпуса»[127 - The Era. 1845. 30 Mar.].
2. «С одиночеством пойду»
Клэр, Китс и одиночество
Весной 1820 года Джон Клэр обсуждал с Джоном Китсом свою поэму «Одиночество». Встретиться лично им не удалось. В начале того года Клэр по приглашению своего издателя Джона Тейлора впервые в жизни приехал в Лондон. Он очень хотел увидеть Китса, с которым у него был общий литературный менеджер, но вышло так, что Китс был нездоров и не смог присутствовать на устроенном Тейлором ужине. Когда здоровье Китса немного улучшилось, Клэр уже вернулся домой в Хелпстон и, к своему большому сожалению, так и не увиделся с человеком, которым восхищался как поэтом и как «братом, странствующим по нелегкой дороге жизни, тем, чей взгляд улавливает порою дикий цветок, способный скрасить его одинокий путь»[128 - Clare J. The Letters of John Clare / Ed. M. Storey. Oxford: Clarendon Press, 1985. P. 74.]. После смерти Китса в Риме в феврале 1821 года Клэр написал сонет в его память.
Подобно всем остальным сочинениям, составившим в следующем году сборник Клэра «Деревенский менестрель», «Одиночество» было результатом упорной работы. Как автор объяснил в одном письме начала 1820 года, поэма «писалась урывками в период тяжелого труда прошлым летом»[129 - Ibid. P. 33.], и он с нетерпением ждал суждения Китса. Из-за невозможности личной встречи Тейлор организовал для двух своих молодых поэтов эпистолярную дискуссию[130 - Goodridge J. Junkets and Clarissimus: The Clare – Keats Dialogue // The Keats – Shelley Review. 2011. Vol. 25. № 1. P. 35; Bate J. John Clare: A Biography. L.: Picador, 2003. P. 189; Roe N. John Keats: A New Life. New Haven: Yale University Press, 2012. P. 365.]. Он показал Китсу поэму из трехсот строк, а затем изложил его замечания в письме, на которое Клэр ответил. Тейлор сообщал, что «Одиночество» Китсу понравилось, однако у него есть сомнения насчет композиции: «Когда я прочел ему „Одиночество“, он заметил, что описание слишком перевешивает чувство. Но не огорчайтесь, это хороший недостаток, и потом, вы ведь знаете, мне нужно непременно что-нибудь вырезать – или „кончен труд Отелло“, как сказано в пьесе»[131 - Clare J. The Letters of John Clare. P. 38.]. Ответ Китса отражал его общий взгляд на творчество Клэра. В другом письме того же года Тейлор писал Клэру: «Думаю, он хочет сказать вам, что слишком часто ваши образы природы вводятся, не будучи вызваны каким-то определенным чувством»[132 - Цит. по: Goodridge J. Junkets and Clarissimus. P. 44.].
Реакцию Китса понять нетрудно. Написание поэмы на эту тему было, вероятно, попыткой переписать «Элегию, написанную на сельском кладбище» Томаса Грея с точки зрения «пахаря»:
Колокол вечерний бьет
Похоронный дня уход,
Я ж, отдав свой долг труду,
С одиночеством пойду[133 - Clare J. Solitude // Clare J. The Village Minstrel. 2 vols. L.: Taylor & Hessey, 1821. Vol. 1. P. 200.].
Далее дается подробное описание жизни среди полей, окружающих дом Клэра, которое отличают точные наблюдения о природе и экспрессивная местная лексика:
Малой мышке лебеда
Пригодится для гнезда…
Сколько домиков вокруг
Разорит нечуткий плуг![134 - Ibid. P. 202.]
Время от времени Клэр посвящает несколько строк своей основной теме, прежде чем вновь вернуться к тому, что Китс назвал описанием[135 - Sales R. John Clare: A Literary Life. Basingstoke: Palgrave, 2002. P. 25.]. Трактовка одиночества основана на проверенных временем характеристиках гнетущего городского мира, от которого стремится сбежать поэт. Джеймс Томсон во «Временах года», оказавших глубокое влияние на Клэра, как и на всех других читателей и писателей из рабочего класса в начале XIX века, писал о «железном этом веке, / отребьях этих жизни»[136 - Thomson J. The Seasons [1726]. L.: John Sharpe, 1816. P. 13.]. Отозвался на тему и Питер Куртье, чья длинная поэма «Радости одиночества» имела успех на рубеже веков: «Как сладко, шумную презрев толпу, / Вдохнуть прохладу свежую лесов!»[137 - Courtier P. L. Pleasures of Solitude: With Other Poems [1800; 3
edn.]. L.: F. C. & J. Rivington, 1804. P. 19.] Клэр, в свою очередь, нашел самую очевидную рифму для своей темы: «O thou soothing Solitude, / From the vain and from the rude» («О ты, Одиночество, успокаивающее / После тщеты и грубости»)[138 - Clare J. Solitude. P. 206.]. Для всякого амбициозного поэта одиночество было едва ли не обязательной к покорению вершиной, и Клэр, желавший быть признанным крупными писателями и их аудиторией, не мог проигнорировать такую возможность.
Существует, однако, и другой способ прочтения этой поэмы, сводящий составные части в одно целое, несмотря на периодические скатывания в рутинное «чувство». В первых строках тема определяется как процесс движения: «С одиночеством пойду». Эмоция – одновременно и нечто внешнее, сопровождающее Клэра, и продукт наблюдения на ходу. Как и в большинстве его стихов, повествование было и посвящено, и обязано писателю, прогуливающемуся по дорожкам вокруг своего дома. Иногда предмет составляло само путешествие. В «Зарисовках из жизни Джона Клэра» Клэр описал начало своей жизни как поэта. По дороге на работу он перелез через стену Бургли-парка, чтобы почитать книгу вне поля зрения строгих соседей: