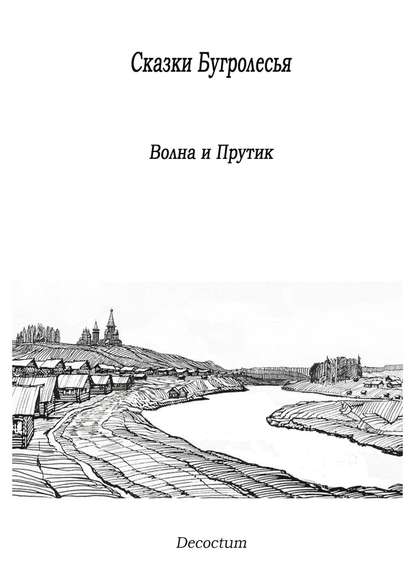По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Сказки Бугролесья. Волна и Прутик
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Мужики нестройно загудели в ответ. Емельян Петрович прищурился и призывно махнул рукой:
– Мишка, Сашка!
Повинуясь отцу, из толпы друг за другом вынырнули два дюжих молодца. Емельян Петрович вытащил из-за пояса небольшой ловкий топор, попробовал пальцем лезвие – острое ли – щёлкнул по нему. Лезвие в ответ тонко зазвенело. Он поднёс топор к уху, некоторое время послушал, подмигнул отцу:
– Ну что, хозяин, пойдём, посмотрим, что там у нас.
Довольно долго Емельян Петрович (на подхвате с отцом, Кирилл Афанасьевичем и двумя сыновьями) обследовал дом. Казалось, он ощупал каждое бревно: то постукивал по ним обухом своего топорика, то делал затёски, тщательно изучил окладные венцы, возился в подклети, затем велел поднять «чистый» пол в горнице и смотрел там, шуршал и кряхтел сначала на чердаке, а затем залез и на крышу. Наконец, он закончил и спустился вниз.
– Ну, картинка такая нарисовалась…
Емельян Петрович Рябов был плотником от Бога. Несть числа избам, амбарам, баням, что вышли из-под его топора. Добрая слава об искусном мастере ходила далеко за пределами Клешемы. Емельяна Петровича сотоварищи приглашали ставить дома, возводить и обновлять храмы. Последнее время сам он почти не рубил, больше расчерчивал и прикидывал углы, сложные сочленения и общую «хонструхцию». Так и теперь: разбив мужиков на группы и определив каждой группе работу, Емельян Петрович ходил между ними и поглядывал, как и что делается. По необходимости он снимал замеры, размечал линии рубки, подсказывал, где и как удобней подступиться. От его острого намётанного глаза не ускользал ни один недочёт. То тут, то там раздавался высокий, с хрипотцой голос:
– Ага, смотри, тот край выше увёл. Чуток сними – и порядок. А то плотно не сядет. А ты, Сергий, здесь аккуратнее! Против «шерсти», в задир, не бери. По волокну прикидывай – не сколи лишку. Вон, лучше стамеску возьми…
Только изредка, в самых ответственных случаях, вытаскивал Емельян Петрович из-за пояса свой топор и в несколько точных и выверенных ударов затёсывал «хитрые» места. Мужики лишь пожимали плечами:
– Силён же ты, Петрович! Мастер!
Петрович таял в широкой улыбке и хихикал:
– Чтобы рубить метко, нужна сметка. Кумекать надобно «шариком», а не токмо шапку носить…
Через три дня дом был готов. Белел новеньким крыльцом и полосами свежих брёвен в сером срубе. Заново проструганные полы и внутренние стены светились. До этого просевшая над поветью крыша распрямила хребет и блестела на солнце сырым ещё осиновым тёсом. Торжественно и гулко разлетался звук шагов по пустым, свежим и опрятным клетям и горнице. Стал дом помолодевшим, заново родившимся. Весёлый задор строителей как будто передался дому, и он, вобрав в свои стены смех, голоса и удары топоров, словно весь напружинился, налился энергией и беззвучно радостно звенел.
Оставалось только печи сложить.
Доля очищенного кирпича, к стыду Фёдора и Павлуши, оказалась невелика. На подмогу пришли Семён и мама с Дашей. А отец с Кирилл Афанасьевичем тем временем занялись приготовлением раствора: предстояло привезти глины и песку, глину замочить на несколько дней и только после этого смешивать песок и глиняную няшу в неглубокой вырытой у дома яме. Песок и глина тоже не всякие годились. За тем и другим ездили на телеге в надёжные разведанные места, версты за две от Клешемы.
Когда почти всё было готово к кладке печей, наведался к ним в гости с «проверкой» отец Савелий. Походил по дому, придирчиво осмотрел, потрогал новые венцы своими большими ладонями: «Вот и славно». Потом, уже на улице, когда Ходовы вышли проводить батюшку, священник положил руку отцу на плечо:
– Да, Иван Фёдорович, с печами голову не ломай. Завтра придёт к вам Захар Петров – будет класть. Вы у него на подхвате. А там он скажет, что и как.
– Так, батюшка, – отец растерялся, – печи я и сам могу. Осилим.
Священник привычно чуть улыбнулся:
– Осилите, Иван, не спорю. Но Захар, почитай, всей Клешеме печи клал, такого печника ещё поискать! Да и должно ему – епитимья[10 - Епитимья? (от греч. epitimion – наказание), нравственно-исправительная мера, а также наказание или возмездие за «грехи» в православной и католической церквах. Э. налагается духовным лицом, церковным учреждением или добровольно исполняется верующими. Формы Э. – длительная молитва, раздача милостыни нищим, пост, паломничество, исполнение трудовой повинности.] такого рода назначена, греховоднику. Так что будут у вас печи форменные, по образу и подобию. Но чтоб ни пива, ни медовухи Захару – ни-ни!
Отец посмотрел на маму, снова на священника, чуть помолчал и махнул рукой:
– А, ладно.
– Вот и славно! – батюшка Савелий отошёл на шаг и широко перекрестил Ходовых. – Храни Бог!..
Захар Петров оказался высоким, сухим и мрачным. Зыркал исподлобья и почти не разговаривал: подай то, принеси это. Во всяком случае, поначалу. А на одном из перерывов в работе Захар взял и рассказал такую бывальщину, что все за животики похватались. Даже мама засмеялась, отвернувшись и прикрываясь платком. Но на «дымовое», когда последний кирпич лег на своё место в трубе, а в обеих печках загудела тяга, и затрещали поленья, мама к столу с угощеньем вынесла кувшин брусничного морса:
– Извини, Захар, сам знаешь…
Перед Троицей Ходовы заселялись в отремонтированный дом. Собралась почти вся Клешема: батюшка Савелий торжественно освятил жильё и поблагодарил народ за доброе дело. Во дворе сколотили длинные дощатые столы, накрыли чем Бог послал и угощали работников и прочих желающих: спасибо тётушке Прасковье и её дочери Анастасии – помогли маме у печи справиться.
И вот он, свой дом! Непривычный, ещё не обжитой, но долгожданный и уже полюбившийся. Светлый и чистый. Легко дышится в нём и сладко спится! И каждое утро как праздник – вскакиваешь и бежишь навстречу новому дню, навстречу новым добрым событиям, навстречу лету! И так здорово пахнет свежетёсанными сосновыми брёвнами и не до конца просохшей печью: смесь терпкого запаха липкой смолы и сохнущих белил. И все рядом: мама с отцом и Семён с Дашкой. А за окнами блестит Жур-река и стоит красивая, ладная деревня Клешема…
А впереди росло, ждало и манило первое клешемское лето, по-настоящему счастливое и радостное…
6
…Ниже Клешемы, в раздольной луговой пойме, поросшей ивою, черёмухой и рябиной, где быстрая вода Жур-реки смиряла свой бег, поблёскивали рукава нескольких старых русел – «стариц». Отделялись старицы от основного течения широкими песчаными перемычками, которые буйно ерошились кустами дикой смородины и малины. Бог весть в какие года то ли обрушился подмытый берег, то ли нанесло бурным половодьем перекатного грунта, то ли ещё как – но оказались куски реки отрезанными от проточной воды. Только по весне и в очень дождливую осень заливала их поднявшаяся Жур.
Ближняя к Клешеме старица, что лежала на том же берегу, чуть дальше и правее бревенчатого моста через реку, называлась Осиновой. Была она мелководной, едва в рост взрослого человека в самом глубоком месте, с пологим песчаным дном, с нависшими плакучими ивами и черёмухой.
Вода в старице прогревалась быстро, и Осиновая до самой середины лета, пока не начинала «цвести», становилась любимым местом купания у клешемских пострелят.
Ещё до Троицы, если весна выдавалась ранней и приветливой, начинала собираться по вечерам шумная ребячья ватага на нешироком открытом участке берега. С гамом, визгом и смехом баламутили стоячую тёплую воду и жгли яркие костры в поздних и зыбких сумерках белых ночей.
Девчонки сюда не ходили, они купались на другом, таком же, рукаве-старице, которая так и называлась – Девкина.
Семён в то лето часто брал Фёдора и Павлушку с собой на Осиновую. Благо рядом: выйдешь на дорогу к мосту, и видно – вот он дом. А вон и мама встречает бредущих с выпаса коров: в ожидании взошла по высокому взвозу на поветь, прикрывает глаза рукой от закатного солнышка и смотрит в сторону моста – где там ребята? Это значит, что пора Фёдору с Павлушкой домой. Скоро Семён, который, конечно, слышал шум возвращающегося деревенского стада, звон коровьих колокольцев, посвисты и окрики пастухов, выскочит из воды и, попрыгивая на одной ноге у костра, скажет: «Ну что, братья-пересмешники, чешите по домам. Завтра ещё сходим».
А уходить страсть как не хочется. Сейчас начинается самое интересное: темнеют заросли по берегам, сумрак плотнее обступает жёлтый языкастый костёр, высоко над макушками деревьев белеет вечернее небо, и отливают оранжевым светом далёкие Тёплые Бугры на востоке – туда ещё падают зоревые лучи закатного солнышка. Разогнав по печкам и лавкам младший народ, старшие ребята будут жарить на костре ржаные сухарики и кусочки сала, рассказывать друг другу захватывающие страшные сказы и, может, ещё разок-другой бултыхнутся в потемневшую воду Осиновой.
Но нужно идти – мама начнёт тревожиться.
Да и «живот к спине прилипать» начал. А дома ждёт распаренная в русской печи ячменная каша, с маслом и мёдом, и крынка парного, только что надоенного из-под коровы Мурашки, молока.
А потом захочется спать: загудят ноги, что отмеряли за день с десяток вёрст, отяжелеют руки, начнут слипаться глаза. Да и ладно. Завтра новый будет день. Завтра ещё столько интересных дел…
Но однажды, когда Фёдор оказался на берегу Осиновой впервые, им с Павлушкой разрешили задержаться подольше.
Ребячий табор расположился у костра широким нестройным полукругом: кто вертелся у самого огня – «сушил шкуру», кто на длинных тонких ветках поджаривал «провиант», кто, как Фёдор с Павлушкой, сидел поодаль на сухих валёжинах или прямо на песке.
К ночи с Севера задул ровный упругий ветер, и небо понемногу затянуло. Огонь ярче обычного отражался на телах и лицах багряными переливами, и отчётливей блестели из сумерек глаза. От темных зарослей, от текущей невдалеке Жур, от раскинувшейся вокруг бескрайней тайги тихо подкралась к костру Сказка.
И, хотя никто не слышал беззвучных шагов на мягких пушистых лапах, все почувствовали её приход. Разговоры и смех поутихли: лишь потрескивали дрова в огне, да иногда раздавались лёгкие шлепки – надоедливые, пусть и редкие пока, комары вылетели на вечернюю поживу.
От костра к Павлушке с Фёдором подошёл Семён, сел рядом и протянул подкопчённую ветку с двумя ржаными сухарями. Ребята стянули их в ладошки и, аккуратно перекатывая из руки в руку, стали остужать. Сухари ароматно пахли и чуть-чуть жглись.
Семён помолчал, глядя в костёр, негромко попросил:
– Афанасий, может, расскажешь чего?
С разных сторон костра послышалось:
– Афонь, расскажи!
Афанасий, худощавый и нескладный ровесник Семёна, знал столько сказок, былин и былей, сколько не знала ни одна мамка-жонка в деревне. Был когда-то у Афанасия прадед. Сто с лишним лет прожил старик на белом свете, много повидал, много походил по миру. Но как отмерял век – занемог, исхудал и сгорбился. Вот и сидел на завалинке сухим калачом, с правнуками нянчился. Но память оставалась у старика крепкой, а мысль ясной. Тогда и перенял Афонька от прадеда, вместе с цепкой памятью, тьму-тьмущую этих сказов и былей.
И рассказывал Афанасий хорошо, интересно. Умело менял голос в нужных местах, копировал интонации, изображал повадки.