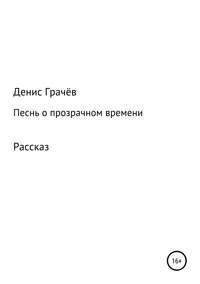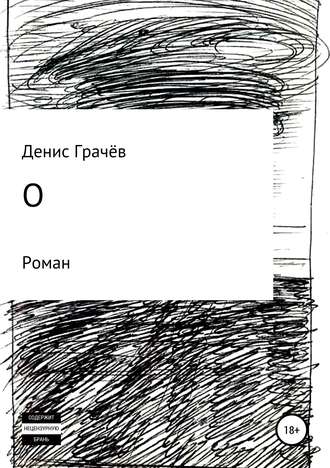
О
Лабиринт, казалось, не привлекал к себе слишком много людей: то было жидкое кипение любопытства, которое вызывает старина, чьё единственное достоинство образует более или менее длинный прицепной составчик из растворившихся в никуда столетий. Но Пётр пытливым взглядом, за прошедшие сутки намётанным на всё четырёх– и пятимерное, не мог не уловить этой показной скуки всех старинных скучных вещей, которая на самом деле представляет собой не что иное, как защитный окрас, отвращающий профанов и вызывающий в истинно зорком сдавленный возглас восхищения искуснейшими разводами этой самой показной скуки. Словом, для феноменолога здесь была истинная отрада, а вот бихевиористу, конечно, пришлось бы туго. Зеленоватый мрамор, помятый медленными, но тяжёлыми тысячелетиями, казался рыхлым. Пётр подошел и потрогал его рукой. Он был бархатистым и, несмотря на прохладу, сообщал прикосновению словно бы некоторую темноту, которая, как и любая темнота, выглядит тёплой.
– У этого горемыки тоже ведь юбилей, – тихо откашлявшись, произнёс Кирилл, – но только кто вспомнит о нём. Две тысячи лет, конечно, – почтенный возраст, но старость – слишком слабый аргумент, чтобы заставить гостей дорогих заинтересоваться этими кусками колотого сахара.
– Цезарь явно переборщил, – недовольно проговорил в ответ Пётр.
– В каком смысле? – выдержав секундную паузу, спросила Олеся, и оба, Пётр и Кирилл, сдержанно улыбнулись, каждый, разумеется, своей улыбкой, но такой своей, которая была своей только в частностях, а в общем она имела одинаковую конфигурацию, и эта конфигурация выглядела такой… ну, беззащитной, что ли, на их голых лицах, поскольку была из той породы, что выглядит более респектабельной, будучи спрятана в усах. В этом, конечно, был бы особый шарм, если бы Пётр и Кирилл улыбнулись в усы, но делать нечего – честность есть истина, истина есть правда, а правда есть вот эти самые беглые строчки, которыми упиваетесь вы, мои благосклонные и мудрые читатели, и которые так отвращают вас, неблагосклонные и скудоумые мерзавцы, а посему ничего не попишешь: придётся оставить и того, и другого без волосистой кудреи́ над благородным зигзагом губ и, проникнув сквозь эту неплотную преграду, чтобы угнездить своё всеведение одновременно и в сердцах их пламенных, и в головах их холодных, выяснить, что улыбка Петра вызмеилась из его внимательности, которая с нежностью вперилась в секундную паузу, выдержанную Олесей перед её вопросом, и тут же умилилась слабой попытке не показаться дурой, попытке столь мимолётной, что сердцу нельзя было не сжаться в кислую вишенку, а улыбка Кирилла захватывала ещё и следующие уровни сложности: она относилась не только к секундной паузе, сделанной его женой, и не только к тому обстоятельству, подмеченному им с дежурной зоркостью, что Пётр улыбнулся этой секундной паузе, показавшейся ему, должно быть, признаком непоследовательной, милой Олесиной слабости, – она относилась и к тому общему для них с Петром горизонту дружбы, который любое, самое тёмное слово, сказанное второпях или невпопад, привычным образом помещает в тот плотный смысловой ряд, где совершенно нет зазора для работы недоумения или растерянности, тому общему горизонту дружбы, поворачиваем мы чуть вспять, который невозможно не приветствовать улыбкой узнавания, когда он, обычно такой скромняга и партизан, проступает водяным знаком над рутиной будничного или необязательного разговора.
Итак, Цезарь хотел казаться настоящим фраером, но с этим он явно переборщил. Если бы тогда, две тысячи лет назад, он был русским, огромная сумятица русского языка настроила бы его тщеславие другим аккордом, пронзительным, внезапным, смятенным – аккордом, рождённым не под знаком Козерога, но под Весами или Девой, так что тщеславию всесильного повелителя Римской империи, загнанному скачкой безумного нашего языка, негде было бы и развернуться для провального манёвра, у него не оказалось бы той свободной территории, где можно столь безысходно фраернуться. Впрочем, здесь я перегибаю палку, но ведь, согласитесь, гнутая палка выглядит гораздо интересней своей прямой родственницы, от которой толка не больше, чем от волка. Впрочем, говорим мы, и наша анафора берёт предыдущую фразу под уздцы, реабилитируя волка, который, конечно же, порой может быть отличным свидетелем, а посему, для подтверждения сей мысли, вверяем ему самовитое наше слово, просим его: реки, мол, правду и только правду, волче; размолвись прямоугольным словесом, ибо правда и только правда имеет, как тебе известно, прямоугольную форму. Хорош мне репу грузить, отвечаху вълкъ, за~шься тут разгребать ваше ~больство; повествовать буду неторопливо, но просто и с толком. Вот, робяты, моя простецкая наррация: Когда Цезарь, прогрохотав по будущим Польше и Германии своими тяжелолатыми легионами, вошёл на территорию нынешней Ленинградской области, латинская душа его, устав от непрерывного veni, vedi, vici, замаялась то ли тоской, то ли печалью, то ли сплином, то ли какой-то иной слабохворью, которую в изобилии вырабатывают при определённом понижении душевного градуса недотыкомки – насельники околопневматического пространства, – и, замаявшись, душа намекнула на необходимость мало-мальского покоя. Раскинулись шатры, разожглись костры, наложив неустойчивый багрец на лица сидящих вокруг воинов. Ночи были прохладные, но неразбавленное вино согревало кровь. И здесь нужно сказать, почему я считаю Цезаря лохом: после нескольких дней отдыха, которые очень красиво составили неделю, ему захотелось быть печальным, сложив меч, но не взяв мяч, то есть, я хотел, конечно, сказать не мяч, а орало, но уж ладно, по фигу, дорогие слушатели, они же читатели: как сказалось – так сказалось. Вам ведь, в сущности, по~, что читать, а посему мне – по~, как говорить: захотел – сказал мяч, захочу – скажу пиявка или омлет. Не нравится – не читайте. Мы ведь свободные люди, звери, птицы, рыбы, микробы и иже с нами. Впрочем, пора повернуть от нас с вами к Цезарю, к его уникальной тоске, которую прогнать можно было лишь оправдываясь перед ней изо всей мочи. Плутон забери эту землю, сказал он поутру, пусть она остаётся медведям и этим маленьким кривоногим человечкам, обмотанным в шкуры, что с опаской поглядывают на нас с окраины жидкого леса. Но ты, Полибий, и ты, Клавдий, – вы вернётесь сюда через год с вашими отрядами и рабами-строителями, чтобы возвести здесь лабиринт, ибо негоже месту, где ступала нога Цезаря, пребывать во мраке неразличённости.
Ну и почему же всё-таки именно лабиринт, спросил Полибий у Клавдия когда-то и где-то спустя несколько месяцев или лет после желанного возвращения из болотисто-комариного края, где к тому времени уже сияла косоугольная мраморная звезда, возведенная со всем тщанием римского инженерного гения. Лабиринт? – со смехом ответил Клавдий, выпивоха и сумасброд, бывший в этот час, как всегда, навеселе. – Но ведь и Цезарь порой желает быть не цезарем, а просто человеком, только, разумеется, не желая показывать, что в тот момент он просто человек, а не цезарь. О, это очень мудро со стороны нашего сюзерена – обнаружить слабость опро́щения не здесь, в Риме, где любая слабость, сколь бы искусно она ни была задрапирована, всё равно будет разоблачена дьявольски прозорливыми сенаторами или историками, а на обочине мира, куда никакой римской зоркости не вглядеться. Лабиринт – это, конечно, памятник всем разочарованиям Цезаря, или, переведя мои слова на язык биографических реалий, это памятник всем тем женщинам, которых Цезарь любил и с которыми, как мы знаем, он вынужден был навсегда расстаться. Ведь у всех женщин, в коих влюбляются властители, души похожи на лабиринты, из которых нет выхода; из такого лабиринта можно выйти, лишь уничтожив сам лабиринт. Но, заметь, Полибий, у того, что построили мы, выход есть, и вот в том-то факте, что он всё-таки есть, и заключается самая большая слабость Цезаря, о которой мы с тобой, разумеется, никогда и никому не расскажем. Наш лабиринт – это мечта Цезаря, а мечта – это капитуляция перед жизнью. Властитель не должен позволять себе мечтать, его мечта, если можно так сказать, должна едва поспевать за мощью слова его и меча. Но ведь мы промолчим об этом, Полибий, ведь мы не можем хотеть, чтобы слово и меч Цезаря вознаградили подобающим властителю образом эту нашу догадливость?
– Пять входов, – проговорил Кирилл, так выразительно щурясь и вздыхая, что Пётр не сразу сумел избыть лестный холодок от своего всеведения, которое снайперски точно определило первопричиной прищура сенсационную и льдистую свежесть воздуха, сочащегося из-под новоприбывшей лиловой тучи, а первопричиной трагического вздоха, вырвавшегося словно бы из жерла вулкана по имени Пьеро, – критическую нехватку алкоголя в крови, – пять входов – и все ведут к центру. Ну что – каждому по входу? Встретимся в центре. Лады?
– Что это за затея, Кирюша? – спросила она тихо, и Пётр с трудом удержался, чтобы не прильнуть ухом к этой шелестящей речи, чья струйка была так дразняще тонка; но даже если бы он сломя голову помчался сквозь разделяющую их полувытянутую руку, ему не суждено было поспеть, потому что Кирилл прервал её мефистофелевским хохотом, беспричинность которого была очень к лицу зачинавшейся абстинентной нервозности.
– Ладно, хватит сомнений. Вперед, други. Покажем Цезарю сквозь толщу веков, что здесь не только ваньки́ в оленьих шубах шастают, но и логически мыслящие индивиды, не понаслышке знакомые с трудным пером Карнапа и Тарского10. Давай, Олеська, дуй в этот проход, – заорал он, проталкивая её, негнущуюся от смущения, в тенистый каменный проём. – Ну а ты, Петька, как-нибудь выберешь сам счастливейший путь. Ну, газу!
Он вошёл туда не задумываясь, с ходу, наполненный, как ему показалось, до краёв равнодушием, но с первых же, самых трепетных мгновений стало понятным, что этот накал равнодушия не выдержать, поскольку эти же самые первые, самые трепетные мгновения открыли, что по лабиринту нельзя идти, лабиринтом можно только красться, выслеживая выход, как добычу, подстерегая его за каждым поворотом, чтобы вдруг закогтить, жадно вышагнув вовне и так же жадно, как вина, глотнув лилового воздуха из свежеиспечённой тучи. Кроме того, – и это кладёт на любое самое изощрённое равнодушие тревожную тень, делающую его интригой, авантюрой, заставляя перестать быть самим собой, то есть равнодушным равнодушием, – кроме того, в лабиринте всегда темнее, чем нужно: ведь хищник чувствует себя уверенней в отсутствии света. И второе, которое непременно следует приклеить к только что сказанному первому: у этих каменных хищников, конечно же, большие нелады с пространством, они от рождения с пространством не квиты, а ведь перед всеприсутствующим оком такого могущественного врага следует быть понеприметней, нужно хотя бы чуть пригасить свет, чтобы создать видимость тише воды, ниже травы. Итак, поступь его была трудна, но душа – головокружительно прозрачна, несмотря на то что в са́мой серёдке этой прозрачности брешь, пробитая от падения равнодушного равнодушия, потеряла устойчивость и начала раскручиваться в маленький, но проворный смерчик. Что же он, маленький, устремил в недра душевной прозрачности? Перелезши через эту вопросительную закорючку, очень трудно становится фокусировать мысль на точном ответе, поскольку, оглянувшись назад, понимаешь, что душа в нынешней словесности – либо persona non grata, либо, значительно чаще, – пария, а посему, положа руку на голову, мы отвечаем для наиболее искушённых наших читателей: никто никуда ничего не устремил, не было ни того, ни сего, ни этого, так что нет и повода для выставки словесных картин. Ну а положа руку на сердце, которое всё же бьётся пока, хоть и преодолевая литературную свою нелегитимность, – нежность, отвечаем мы, нежность вструивалась в Петра, и совершенно необъяснимо было, в каких же пóрах и скважинках окружающей реальности скрывалась она до сей поры, из каких же не видимых глазу резервуаров можно было выструивать её со столь изумительной успешностью?
Он недолго кружил по мраморным проходам, то узким, то расширяющимся в каменные полости с каким-то особым, клюквенным, вкусным, затхлым запахом, недолго кружил, заворачивая вправо, влево, проскакивая тупиковые входы, пока не выбрался, нимало не утомлённый погоней, в раздольную залу – просторную, но простую и резко очерченную лиловым, строгим светом, что, пройдя сквозь фильтр широкогрудой тучи, приобрёл весьма сдержанный тон, мимикрирующий под пастель сумеречной тональности. Есть в этом загадка, подумал Пётр, что в самых многолюдных парках и самых густонаселённых помещениях неизменно отыскивается вечно пустующий закуток, чей вычитательный топос, конечно же, сходен с «глазом» урагана. И в этом нужно видеть высшую логику, то есть логику, которая не движется от первоэлементов к первоэлементам, но просто не знает о них, поскольку её озабоченность охватывает без изъятий всё огромное великолепие дня и всю сверхогромную стужу ночи, и вот эта-то логика, прилагаемая Богом к узорам мира сего, ввергает их – видимо, в интересах гармоничности – в отношения экстремальной оксюморонности, размещая любую истину не в центре, но по краям, наделяя наибольшей наполненностью не изобилие, но беспрецедентное зияние даже без намёка на малейший сквознячок внутри, делая как больше, чем что, вставляя, наконец, в средостение бури жемчужину нирваны. Так же, как он схватывал верный путь в лабиринте, Пётр понял, что далеко вокруг никого нет: точность, поступившаяся оригинальностью, сказала бы, что голоса блуждающих в лабиринте людей, так же как и вся симфония залабиринтовых грохотов и кликов, звучали здесь как отдалённый шум морского прибоя. Впрочем, такого рода пустота даже не требует слуха, информируя человека о себе во всей целостности его внутреннего и внешнего тела, так что о нём, о великолепии запустения, одновременно начинают свидетельствовать грудь и затылок, лоб и спина, сердце и ум, пневма и рацио.
– Как ты быстр, – сказала из-за спины без удивления, и у Петра невозможно свело спину, уже было пронзённую горькой молнией радостного ужаса, но вовремя и цепко стиснутую благоразумием в результате некоего акробатичнейшего спецброска.
Он обернулся медленно-медленно, чтобы точностью своих движений компенсировать ту приблизительность + неразбериху, которая мгновенно взошла в его голове, как дурацкое, малахольное солнце.
– А я и не услышал, как ты подошла, – проговорил он с не человеческой, но фельетонной или джокондовой улыбкой, зная, что инъекция банальности гарантированно приглушает сияние самых ослепительных мгновений. О чём же они сияли? Где они вообще раздобыли такое сияние? Не нужно этой лабуды, проговорила она по-прежнему тихо, но с непопрежней твёрдостью, как-то особенно прямо глядя Петру в глаза своими серыми, стального окраса глазами, а его ответ был невпопад, поскольку нельзя отвечать по делу, когда две лапки, настолько точные в своей вкрадчивости, что от их прикосновений человеческая плоть обращается в сгустки тугого, эластичного тепла, прочувствованно, необходимо, с суровой бархатностью и нудительной силой берут тебя за гусиную спину, которую как бы сладко подташнивает, и распластывают твоё сердце, зависшее над какой-то головокружительной бездной, на чужой, мягкой, вибрирующей груди, – и вот когда это происходит, и голова окончательно теряет свою прозрачность, то язык, побуждаемый всё же некими неизвестными Павлову рефлексами говорить что-нибудь во что бы то ни стало, рекрутирует не из черепной коробки, но из дополнительных околочерепных мембран себе на подмогу любую рухлядь и любое самое отчаянное словесное барахло, произнося, например, как тó произнёс Пётр, как странно, мне казалось, что у тебя зелёные глаза, а они у тебя, оказывается, серые – что, увы, не помогло, поскольку ещё более беспощадными, чем руки, совершенно не милующими были уста, которые, очевидно, хорошо знали, что хотели, обволакивая, пригубляя чужие губы, как абсент и кальвадос, и в хотении сем было столько драйва, сколько не было даже у Егора Летова в его лучшие годы. Но ведь этот драйв грустный, тихо заметит мне читатель, вот и Егор Летов никогда не сиял радостью в лучшие свои, трагичнейшие годы, и я отвечу: да, ваша правда, и Пётр как никогда отчётливо познал скорбь вашей правды, когда в эпилоге форсированной схватки он вдруг вздрогнул и мощно ослабел, чувствуя, как одновременно с ним слабеет приветившее его узкое тельце: крупные слёзы выплеснулись из нашего героя, оставляя на лице жгучие борозды, а он боялся отнять руки от этих горячих бёдер, которые очень постепенно, с какой-то сладострастной расслабленностью теряли упругость. Она, конечно, тоже боялась движения, но, нужно отдать ей должное, когда она совсем почувствовала, что его жезл, только сейчас ещё такой нужный, остывая, всё более идет в разлад с гармонией лелеющей пещерки, лабиринтовая наша скиталица бережно высвободилась и, сноровисто натянув спущенные до колен джинсы, стремительно развернулась. Пока Пётр, стыдливо согнувшись, чтобы утаить, как шило в мешке, кричащую голость своего натруженного коловорота, судорожно сражался со штанами, которые, разумеется, по закону самых нелепых кинокомедий никак не желали вести себя подобающим образом, вступив для этого в какую-то сложную коллаборацию с нижним бельём, – пока Пётр выглядел жалким, она безжалостно смотрела на ту позорную влагу, чьи соляные руслица, подсохнув на свежем воздухе, уже начинали стягивать кожу, добавочно напоминая Петру о его унизительной слабости. Потом, когда он, стиснув зубы, одним профессиональным, а потому мгновенным сеансом психоинженерии отмежевался от раскалённых внутренних волн плотиной из летейского льда и, не отводя взгляда от взгляда жены своего лучшего друга, не торопясь застегнул «молнию» на штанах, она стёрла указательным пальцем его слёзы, к тому времени уже более не принадлежащие ему, но некогда, действительно, принадлежавшие его досадному двойнику, о котором следовало как можно скорее позабыть, и Пётр с неудовольствием почувствовал, ка́к она стёрла эти слёзы: полновластно и равнодушно, как стирают с мебели пыль; или даже ещё обидней – как проводят по запылённой поверхности укоризненную черту, единственный смысл бытования которой состоит в презрительной дискредитации нечистого фона. А это ни к чему, проговорила она, и, на её счастье, в этих словах не было ни йоты насмешки, потому что, будь она, эта ядовитая йота, в её словах, Пётр не раздумывая отпустил бы Олесе оплеуху, по-моему, нам обоим было забавно.
Пока они возвращались – и возвращение это было накормлено стремительностью до отвала, – Пётр выкурил одну за другой две сигареты, и уже незадолго до выхода из лабиринта крепко взял её за руку. Он с каким-то злобным удовольствием ощутил, как холодная эта, сухая рука («Когда же она успела остыть?» – резко подумал Пётр) чуть дрогнула, не желая, конечно, но как бы желая пожелать высвободиться, и, дрогнув едва заметно, так и не решилась ни на что. О, нам сложно было бы описать, что же творилось внутри Петра, какие там шершавые объёмы слагались в какие косматые конфигурации, что там за молнии блистали и что за косые дожди проходили свежевспаханным полем, а потому провернём вхолостую мясорубку нашей повести, чтобы выйти к иным, менее туманным повествовательным рубежам. – Ну уж нет, стоп-стоп-стоп, уважаемый, обожди вертеть рукоятку: ведь ты же договорился и со мной, и со своим вдумчивым читателем, что проза твоя идёт размеренной походкой, а не бежит трусцой, так для чего же все эти возмутительные эллипсисы? Ежели заикнулся – будь добр растолковать нам по порядку, что там за трепетания и внезапности располагались внутри столь интересующего тебя молодого московского юриста. Сказал А, гражданин про заек, – говори Б, и не надо перескакивать сразу к Ё. – Невемо мне, тварь шерстистая, что́ там расположено между А и Ё: различаю лишь некое проворное клокотание с участием воспалённой совести, раскаяния, злости, самоуничижения, тоски, безнадёжной затерянности в Грехе (обрати внимание, серый, на заглавную букву с этом апокалиптическом термине), подавленности, самоуверенности, разочарования, страха и, наконец, обыкновеннейшего счастья. Вот и попробуй провести золотое сечение в столь возмутительно диффузном сооружении. – А вот и попробую, и проведу, тем более что это проще простого: ведь во всех пневматических конструкциях золотое сечение не пронизывает саму их плоть, но укрывает их сверху, как мать, принимающаяся кутать своё дитя – а сверху, надо всей этой бестолковой тусовкой порывов и обрывов, у Петра соткался один равномерный толк, в иных словоизмерениях эквивалентный глубочайшему убеждению, и толк этот состоял в том, чтобы напропалую, самозабвенно лгать, лгать, лгать и себе, и, в первую очередь, другим, и, в первейшую, невообразимо первую очередь, Кириллу о том, что произошло там, в лабиринте. Вот так. Харэ, закругляюсь, писатель хренов. Учись, пока я жив, пронзительности сложных наблюдений и величавости сухого языка.
Перед самым выходом он отпустил её руку, и только теперь понял, что всё это время сжимал её слишком или даже чересчур крепко. Чужая боль мигом проступила на его ладонях, слегка утихомирив внутренний разброд.
Кирилл стоял у входа в лабиринт с бутылкой пива и оглушительно хохотал, вспугивая тех немногочисленных, каких-то как на подбор неказистых любопытствующих, которые крадучись, благоговейной покрадкой подбирались к мраморному гиганту. Рядом с Кириллом стояла на твёрдых мужских ногах в багрец и золото разодетая цыганка и что-то убеждённо ему втолковывала, помогая себе взрывоопасной жестикуляцией, чья неподдельная экспрессивность не мешала участвующим в инсценировке жестикулирующим конечностям совершать какие-то странные хватательнообразные движения вблизи карманов Кирилла. Увидев Петра и Олесю выходящими из лабиринтова жерла, он взвеселился ещё более, предчувствуя, очевидно, что появление Петра катализирует новый виток веселья.
– Она мне втирает что-то, а я ни черта не понимаю, – возгласил Кирилл, бесцеремонно тыча пальцем одной руки куда-то совсем близко от её блудливо-вёрткого глаза цвета ежевики, одетой в траур, и одновременно смахивая другой рукой ненароком зацепившуюся за его карман смуглую длань с крашенными некогда когтищами.
Цыганка на мгновение остановилась, потом посмотрела на подошедших очень серьёзно, с явным уклоном в изучающе и сухо пожевала блёклыми губами, над которыми рос шелковистый чёрный волос, усеянный, ввиду сизифовых тщаний по расколдовыванию легкомысленной, почти оскорбительной недоверчивости клиента, неопрятным перламутром соляной росы. Неслышным ни для кого, включая её саму, образом в её голове что-то перещёлкнулось, клацнуло, умело передвинувшись, и верная рекогносцировка воспряла пред её умственными очами, как лист перед травой. Она засунула руку глубоко за ворот платья, основательно переворошила некие сокрытые в ситцевой тьме пакгаузы – так, словно бы предметом её поисков была не сколь угодно крупная горошина сгущённой материи, но, по крайней мере, смысл жизни – и наконец вытянула из особенно секретной кладовой, забаррикадированной от врага сложной системой хлопчатобумажных прослоек, красного сладкого петушка на палочке.
– На-ка, побалуйся пока, – сказала она Петру, не обращая внимания на Олесю, чью фортификацию упомянутая выше рекогносцировка не сочла, очевидно, подлежащей озабоченности, и уже набрала воздуху, чтобы продолжать скорбное своё радение об усмирении Кирилловой бдительности, но Пётр, оценивающе посмотрев на петушка, перебил её:
– Поглядим на твоё изделие, бабýшка. Поглядим поближе, где там у него знак качества.
Он махом совлёк с петушка прозрачную оболочку и магнетическим взглядом часовщика обследовал всё его тщедушное флюоресцентно-малиновое тельце.
– Ага, бабýшка, – победно прогрохотал он. – Это ты здесь свой перст запечатлела?
И в самом деле, на сладком крылышке, при определённом наклоне к эклиптике всей сиропной скульптурки, обнаружилась грубая резьба анонимных капилляров11.
– Это, очевидно, тавро, которым ты пометила свою скотинку, – логически заключил Пётр под гомерическое согбение Кирилла в приступе лихорадочной холеры, помноженной на джигу святого Витта. – Я чужую скотинку в пищу не употребляю. Забирай свое добришко взад.
(Только в терновый куст не бросай меня, муже ясноочитый. Прискорбно быть отвергнутым, но отверженность по крайней мере придаёт судьбе интерессантный спектр оттенков титанизма, а вот бессрочное пребывание во средостении колючего универсума не даёт ничего, кроме такого же бессрочного ужаса. А на что мне, маленькому, этот ужас? В какую расходную статью записать его? Нету таковой; не завела таковой судьба, то ли искренне не ожидая плохого, то ли обманываясь о своём будущем, так что нет у меня опыта работы со столь огромными чувствами. Ну, слово за слово – вот я и разговорился, тем более что курсивом говорить легко: эта женственная скошенность речи как бы легализует свою необязательность, и в таком скошенном состоянии гораздо вольготнее выбалтывать сокровенное. Так вот, теперь, набравшись блаженного духа бесшабашности, я решусь наконец высказать то, к чему тропой, извилистой, словно арабская вязь, вела моя сложноцветная преамбула: Я – СОВРЕМЕННИК ВАШ, люди добрые, и не будет излишним напомнить вам об этом удивительном факте, ведь, будучи единовременен вам, я перенимаю в актив своего тугого, коагулированного, сугубо персонального бытия существеннейшие фрагменты ваших судеб, и я не могу не делать этого, поскольку настоящему времени, всеместному Present, разумеется, менее пристало амплуа века-волкодава, нежели сверхразветвлённой протоформы, соединяющей своими отростками во единый, но бурный покров всю флору ничьих и чьих-то людей и ничьих и чьих-то вещей, а посему слова мои я – современник ваш за ничтожным фасадом скрывают самый отчаянный, самый страстный призыв к вашей ответственности, на какой только способно маленькое сахарное тельце, слепленное второпях на потребу дешёвому обману в некоем столь отдалённом таборе. И по праву современника, достойного, следовательно, быть собеседником, а значит наделённого привилегией говорить в полный голос, я заявляю, что слово «тавро», вымолвленное в порыве красноречия высоким и белокурым витязем, обладает пронзительной красотой, а вовсе не язвительностью, так что звук столь пронзительных слов не может быть оскорбителен. Я – Петушок Таврический, и я – брат ваш! Слава мне, сахарному, слава и вам, телесным двуногим, слава тебе, матёрая, но виртуальная зверюга серая, что рыщет обло между строк, и тебе, дорохой аутхор, слава вам, чёрные дыры и белые карлики, ношеные носки и соцветья купыря, слава тебе, нейтрино, и вам, кварки! Помните друг о друге и относитесь друг к другу лелейно и трепетно! Кому, как не мне, отверженному и обиженному, произносить для вас эту проповедь любви? Кому, как не мне, бесстрашно назвать себя вашим ближайшим родственником?)