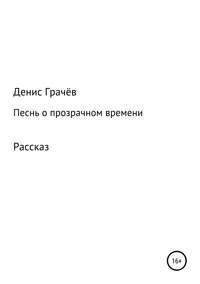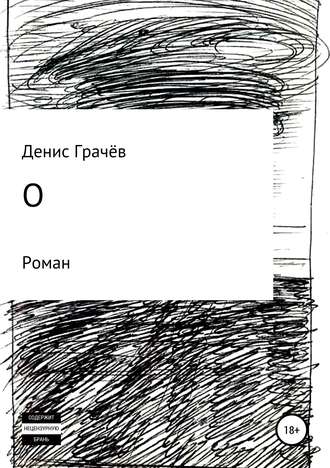
О
С
Без23
Уууууууууууууууууууууууууууууууу!!!!!!!!!
Рано радуешься, дворняга. Ну да ладно. Едем дальше.
– Когда ближайший рейс на Курган? – спросил он серенькую, но бодрую, какую-то такую мышастую девушку-оператора просевшим от бессонницы, сна, алкоголя и головной боли голосом.
Та ладненько и цепко, как пианист, молниеносно хватающий вёрткие аккорды, зацокала по клавишам компьютера гладкими, фарфоровыми пальцами.
– Через два часа, – ответила она, блестя прозрачными глазами, одной игрушечной рукой поправляя до того ровные, что уже как бы скользкие волосы, стянутые в хвост, а другой – играя толстенькой лакированной ручкой, похожей на веретено.
– Слава Богу, – выдохнул он перебродившим коньяком, и уже через пять с половиной часов был там, куда никогда не хотел, что ненавидел всеми объединёнными силами сердца и души и где теперь лишь и можно было спастись, выждав, затаившись, поджав коленки к дрожащей груди.
По приезду он взял такси и отправился в главную гостиницу города, «Ереван»24. Рассеянным, своевольным, недисциплинированным взглядом он блуждал за окном машины, выхватывая из-за окна что придётся, глядя на это что придётся как попало, через запятую пунктирного внимания, без акцента, без ферматы, с паволокой отсутствия, машинально отстукивая по ноге фалангами пальцев вялый марш. Да и в самом деле, чем здесь было озадачивать своё внимание: косенькими ли домиками, словно бы из подручного сора второпях собранными подслеповатым дурачком; неопрятными ли, тщедушными деревами, которые из-за полусогнутых поз и сморчкоподобных цельнопыльных листьев казались нищими попрошайками, гугниво выклянчивающими чего-то (любви? внимания? глотка свежего воздуха?); или, может быть, скалистым рельефом здешнего асфальта? Словом, невнимание Петра не было случайным, минутным, залётным невниманием – оно имело свои мускулы, оно, умудрённое, было мастерски натренировано былым пребыванием его обладателя в этом трудном и сером местечке, которое у любого посетителя, забредшего сюда по воле недоброго случая, ничего, кроме зубной боли, вызвать было не способно. Впрочем, скажем мы этаким заговорщическим шепотком, не только приблудный чужак, но и самый что ни на есть стопроцентный абориген – приземистый, жидковолосый, тошнотворно смекалистый – не был гарантирован от этой зубной боли, просто ему, оборотистому, как водится, невдомёк, что есть иные пространства, более глубокие, более мягкие, с меньшим количеством тёмных углов и, конечно же, начисто лишённые этой надоедливой, методично сверлящей боли.
В гостиничный номер он попал уже в глухие сумерки и сразу же, не зажигая света, улёгся на кровать: ему хотелось поскорее увидеть потолок, или даже, скорее, так: ему хотелось вдохнуть потолка настолько глубоко, насколько позволит глаз, и здесь, я полагаю, каждый поймёт его, поскольку каждый, у кого хотя бы раз в жизни была избита или, по крайней мере, поцарапана душа, знает, что, имея внутри саднящую душу, сложно найти анальгетик лучше, чем самый обыкновенный, затрапезный потолок. Вот так вот и призадумаешься поневоле, почему это нас, собственно, лучше всего успокаивает какая-то ерунда, чушь, труха: какая-то неровно побелённая поверхность, иногда свежести настолько не первой, что на ней хочется в отместку сплясать камаринскую, какая-то абсолютно прозрачная или абсолютно коричневая жидкость с едким-метким запахом в стиле вертиго, какой-то папирусный цилиндрик, набитый сушёной паклей, которая так и норовит стать горьким, ёмким, как пословица, дымом… Впрочем, если поразмышлять над сим парадоксом чуть меньше, чем принято размышлять над парадоксами, но чуть дольше, чем то́ принято в отношении случайных совпадений, то вполне можно обнаружить, что дело в непритязательности и, так сказать, видимой необязательности всей этой успокоительной ерунды: эта ерунда изо всех сил не обращает на себя внимания, она деликатна и стеснительна, она не напрашивается на общение – я так, сбоку припеку, я тут в уголке пристроюсь, вы уж не обращайте на меня драгоценного внимания – и, вследствие этой подчёркнутой незаметности, разумеется, на раз завоёвывает наше доверие, наше внимание, нашу признательность, да и, чего скрывать, всех нас сразу, целиком, полностью и с потрохами. Так что постепенно может стать понятным, отчего полчаса всматривания в потолок, вылепившие внутри Петра некий среднеуравновешенный дубликат потолка, подарили ему вместе с тем и душевную тишину, которая, в свою очередь, сконцентрировавшись в матовую тысячетонную гранулу, позволила, наконец, перевести дыхание, сбалансировав дёрганую, хаотическую тревогу, взять трубку телефона и деревянным пальцем, отвыкшим от человеческих действий и жестов, набрать две цифры: «0» и «9».
– Будьте добры, телефон Павла Сергеевича Денисова.
На том конце провода помолчали, очевидно, испугавшись той вежливости, которой была обёрнута просьба, и Пётр устало чертыхнулся про себя: при мягком выходе из маленькой, но, безусловно, живительной нирваны, дарованной ему потолком гостиницы «Ереван», он как-то запамятовал переключить московский регистр общения на местный, запамятовал, то есть, транскрибировать свою просьбу местной азбукой, которую, конечно, знал когда-то, но с удовольствием забыл и которую теперь приходилось мучительно вспоминать: «Этта… деушка… Мне, этта, телефон Денисова. Какого Денисова? Да Пашки Денисова! Отчество? Отчество??? А на фи… тоись, зачем?.. А… Этта… Ну, Сергеич он, кажись!» – но, слава Богу, весь этот сет со злым азартом сыгран был только в голове у Петра, и по результатам сета, после того как родной язык был попробован на вкус (и оказался безнадёжно прогорклым, затхлым, тухленьким), Петром решено было никогда, даже под страхом отрубания мизинца правой руки, не использовать родную речь ни во сне, ни наяву. А тем временем абонент опомнился (или, точнее, очухался), взял себя в руки перед лицом невидимой, но, очевидно, ужасной опасности и, напрягая все лингвистические трицепсы, изо всех сил вспоминая те слова и интонации, которые некогда подглядел, подслушал, подрезал в каких-то неинтересных телепередачах про неинтересных для него людей, прокашлявшись, выдавил с опаской:
– Кого вам нужно?
– так что Пётр, тотчас нащупав, или, точнее, вспомнив курганский коммуникативный алгоритм столь ясно, что кончик языка сразу заломило от предсказуемости ответа на вопрос трубки, вздохнул с облегчением и благодарностью местечковой судьбе за её постоянство, которое когда-то, в бытность его неприкаянным аборигеном, казалось омерзительным, а теперь, с высоты эмигрантского инобытия, – скорее, обнадёживающим, поскольку на любое знакомое, пусть даже такое, которое по праву может претендовать на медаль заслуженного чемпиона отстоя, умный человек вырабатывает со временем иммунитет, а значит делает это знакомое безопасным. Словом, Пётр с бессознательной уверенностью лунатика прошел через узкий, тёмный, душный перформативный коридор, где на испуганно-недоумённый вопрос трубки последовал компактный уточняющий ответ, на оборонительное хамство, которое правила хорошего курганского тона всегда предписывают разговору с незнакомцем, – корректное, но решительное запугивание, на последующее трусливое блеяние с нежнейшей подкладкой из нервозной агрессивности – успокоительное похлопывание по плечу, ледяное панибратство на чётко выверенной дистанции, и наконец, в ответ на нужную информацию, уместившуюся в пять цифр, – смиренная, едкая, как щёлочь, удовлетворённая благодарность, от которой другой конец провода, залихватски и с облегчением швырнувший трубку, всю последующую дежурную ночь зло кусал себе холёные локти, а по окончании оной, когда Жэкан, с которым конец провода ходил уже целых два месяца, встречал его с работы, выпалил: «Ну и ~ ты опять эту куртку лоховскую одел?!»
Впрочем, дорогой читатель, и для тебя, и для меня лучше будет, если мы поскорее перейдём к следующей мизансцене, в авральном режиме позабыв при этом героиню мизансцены предыдущей: ну в конце-то концов, мало ли в Российской империи проживает уродов и уродиц, мало ли в ней медвежьих углов и тараканьих берложек, где глупость под стать безумию, а полоумное хамство навеки осенено именем отваги? Но да будет благословенна не одна отвага, а много разных отваг, поскольку, чем их больше, тем больше у этого мира подпорок, тем он устойчивее и тем точнее он занимает предназначенное ему место. Так что для нас та застенчивая, сливочная отвага, с которой Пётр, посмотрев на часы, начал накручивать телефонный диск, не менее ценна, чем вязкая отвага китайца, наобум приехавшего жить в русскую деревню, и ещё более ценным для нас является спокойное, точное биение сердца Петра, который всеми своими чувствами и получувствами, мыслями и полумыслями завис на бесконечно долгое время среди густых и одинаковых гудков, равномерно вытекавших из какого-то поднебесного звукохранилища, чтобы в некий сказочно удалённый момент, находившийся как бы уже в другом измерении и другой эпохе, всё-таки быть вырванным из этого выжидающего обморока коротким стартовым прокашливанием и приглушённым, изменившимся, но всё же моментально узнаваемым голосом:
– Я вас слушаю.
И Петру сразу стало легче дышать, легче думать, легче смотреть (уже не в одну точку, а широким плавающим взглядом), да и сам он стал как-то легче, словно отчасти превратившись в призрака. Вот из этого-то самого центра лёгкости он произнёс утвердительным тоном простые, спокойные слова:
– Пашка Денисов.
Произнёс, чтобы случилось то, что слишком часто начало случаться с Петром в последнее время: спокойствие, реальность, ясность мысли, чувств, отношений с внешним миром сломались, потекли-поехали, поскольку родной голос, только сейчас вальяжно и почти нараспев произносивший своё сакраментальное «вас слушают» или что-то там в этом роде, вдруг задохнулся, подавив вскрик, ох, вздох, и зашептал тревожной саднящей скороговоркой:
– Петя, я не могу сейчас говорить. Встречаемся через час на площади.
И сразу за последним словечком, больше похожим на всхлип, в ушную раковину Петра безмятежное, безымянное, необъятное звукохранилище пролило целую капе́ль торопливых, одинаковых гудков, которая, впрочем, была быстро прекращена императивной трубкой, наброшенной на изъявительные рычажки. Ну и откуда эта разудалая императивность, спросит тут внимательный или пристрастный читатель, и что обозначает оная: гнев, отчаяние, смятение, безысходность, ярость, вихрь, *, **, ***25? А вот ни то, ни другое и ни десятое, ответит автор со своего всезнающего кондачка, – усталость. И как только это слово было названо в присутствии нашего героя, как только, перегруппируя предыдущую пропозицию, герой произнёс – про себя, партизанским шёпотом, de profundis anima – это слово, так оно, подобно любому магическому термину, впервые понятому неофитом, начало перевёрстывать под себя все верховные эпизоды последнего, ответственнейшего времени, подкладываясь, наподобие фундамента, под каждый из них и придавая, следовательно, каждому из них свою конфигурацию, свой смысл и толк, с тем чтобы любое воспоминание о самоважнейшем неизменно приобретало теперь тональность усталого, усталости, усталостности или Jetztewigmüdigkeitsein26.
Вот за этой-то вёрсткой он и просидел минуту или даже две, но поскольку, во-первых, если и не сама усталость, то уж, во всяком случае, мысли о ней удивительно жарки, искристы и остры, а во-вторых, человек (человек вообще, с артиклем настолько неопределённым, что он берёт под своё крыло и кое-каких зверюшек, по мере сил и возможностей подражающих нам; так вот, поскольку человек) – существо люфтовое, зазорное, нефиксированно болтающееся между сакральным верхом и телесным низом, поскольку, повторимся, эти во-первых и во-вторых как-то за здоро́во живешь приобняли Петра, то мысли его, уставшие вдруг быть ответственными и последовательными, вальяжно облокотились обо что-то другое, более эфирное или, уж не знаю, более кефирное, засквозили прорехами и по своему какому-то совершенно необязательному хотению повели Петра путём телесного низа, в душ, пахнувший хлоркой и почти вавилонским в своей неуловимой сложности запахом чужих людей, под тугие и тонкие струи жизнеутверждающей воды.
Вечер не был прохладным, но откуда-то из Арктики всё же тянуло некоторым вольным подражанием зиме, и Петру, у которого волосы ещё не до конца просохли, было по-зимнему приятно от нежного прикосновения к вискам невидимых ледяных и как бы мятных подушечек. Он шёл по старой, знакомой, обрюзгшей улице, соединяющей площадь и гостиницу «Ереван», стараясь не узнавать её, стараясь узнать в ней незнакомую улицу, и чем больше у него это получалось, тем таинственней мерцала улыбка на его лице, тем уверенней становилась походка, тем более расширялся тот сегментик в его мозгу (пока ещё лилипутский, по правде сказать), который пытался уверить своего владельца, что всё происходящее с ним – пустое недоразумение, констелляция печальных невнятиц, что вот-вот, после какого-то маленького, разъясняющего всё события она распадётся сама собой, и мы все вместе, хором посмеёмся над дурачившими нас чрезвычайными происшествиями.
В незнакомом городе все улицы и дороги ведут в никуда, и Пётр, подозревая это, стремился идти по улице (которая называлась как-то убийственно смешно – улица имени Пионера Пиявкина, что ли) так, как будто бы он шёл в никуда, втайне надеясь, конечно, что это никуда окажется бледно-бирюзовой зарёй счастья или хотя бы спокойствия, в небе которого неподвижно чертит дугу накрест прикреплённая к воздуху сойка. В общем, на угрюмые булыжники главной площади города – площади имени того же Пионера Пиявкина, где каменный пионер с совиными бровями прижимал, как ребенка, к груди каменную гармошку, – Пётр вступил уже с чувством осторожной надежды, которое он вымучил-таки из себя за время шествия по незнакомойзнакомой27 жидкоосвещённой улочке, и вот такая-то надежда и дала ему силы выдержать клокочущий взгляд Павла, не очень видимый, но очень даже чувствуемый на фоне влажной темноты сего вечера, а также прилагавшийся к этому взгляду резкий рывок сбоку за рукав плаща:
– Петя, мы должны немедленно уйти отсюда. Все вопросы потом…
А у Петра и не было вопросов: какой смысл их иметь, если на вопросы либо не получаешь ответов вовсе, либо ответы приходят сами собой, без твоей помощи и пособничества; – поэтому у Петра был повод сквозь мембрану мнимого спокойствия, которую он смастерил, шагаючи сейчас по темноватенькой улочке, насладиться тут же, спрохвала обступившим его запахом гнилой ели, похожим на запах гнилых грибов, поскольку они, Пётр и Павел, моментально выйдя с площади, моментально попали в Городской сад, и плюс к запаху загробных елей28 получили ещё волглый, объёмистый шум смутных шерстистых веток, целый континент недрессированных теней, а также пронзительный, заполошный, почти клоунский крик неопознанной летающей птицы.
И вот посреди этого-то тлена, в стороне от этого-то орнитологического вопля Павел и зашептал, иногда слегка захлёбываясь тревогой, иногда – вовсе не захлёбываясь ею, а захлёбываясь, например, страхом, о котором Павел вообще-то раньше был менее чем невысокого мнения и о котором думал некогда как о чём-то несбыточном и ему не присущем:
– Слушай, Петя, у меня совсем мало времени, до того как вернется домой моя жена. Я сразу скажу, что она цыганка и что она совсем недавно ездила по своим воровским делам в Питер. Я без обиняков говорю про воровские дела, мы с тобой давно знаем друг друга, и нам ни к чему ходить вокруг да около. У их табора там свои какие-то интересы, и они каждый год окучивают летом питерскую публику – гадание, торговля всяким г~, просто нае~лово чистой воды – в общем, ты себе и сам, наверное, всё представляешь. Так вот, недавно она вернулась из Питера чё-то совсем злая: денег они там, конечно, нарубили, но зато потеряли одну очень важную для них штуковину. Я сейчас расскажу, в чём дело, но ты, ради Бога, не подумай, что я сошёл с ума, и восприми это со всей серьёзностью.
Он сделал паузу – то ли для того, чтобы глотнуть тонизирующего воздуха перед пиротехнической тирадой, то ли для того, чтобы дать Петру время настроиться на новый и необычный лад, единственно годный для ответственного восприятия его слов, и Пётр, ясно понимая, что Павел болен нервной лихорадкой, а он – нет, вежливо переждал эту паузу, не вздрогнув и не всполошившись, не воспаляясь и не замерзая от так называемых предчувствий, не отчаиваясь и не сокрушаясь, поскольку нужные реле, наподобие жабр наросшие в течение нескольких последних месяцев то ли на сердце, то ли на душе, то ли на другом каком средостении сознательности и чувствительности, уже перещёлкнулись, введя Петра в чуткий эмпатический транс, и если бы Павел был более спокоен, он бы, несомненно, ощутил что-то вроде запаха лаванды, который, имитируя солнечное тепло, стал исходить от Петра.
– Словом, – сглотнув, продолжил Павел, – был у них такой… ну, что ли, священный предмет, с виду обычный леденец – Петушок-сан. Раньше-то он требовал только уважения к себе и за это давал какие-то там особые силы табору. Но в последнюю свою поездку жена попыталась его кому-то, как обычно, впарить – это же возвратный Петушок, он забирает у всяких лохов силу и деньги и возвращается с ними в табор. И вот тут что-то не так пошло – то ли человек особый попался, то ли дело в том, что всё это происходило рядом с древнющим, римским еще лабиринтом, и засада в его старинной магии-шмагии, – в общем, был Петушок-сан, а стал Петушок-сам, и теперь ему не нужно никакого уважения, теперь ему подавай самостоятельность. И он ушёл. А что табору без Петушка делать? Как говорится – за здорово живёшь никого не ~. Короче, какие-то там их цыганские паханы постановили, что нужно искать этого чела – ну, который Петушка увёл.
– Ну-ну, – перебил его Пётр, отчаянно глубоко вдыхая птиц, ели, фрагментарный мох и обильную, душную, пышную, как букет гладиолусов, влагу. – Я догадываюсь об остальном. Они уже знают обо мне?
– Ну конечно. Уж чего-чего, а гадать они умеют… – Павел вытер с плохо видимого лба невидимый пот, который каким-то макаром сумел-таки появиться, хотя об уличной жаре не было речи. Павел сглотнул и прокашлял пересохшее горло, в котором, очевидно, был ад и жили грешники. Павел напружинился, словно «Конкорд» перед последним взлётом*29. Павел выпалил, как нырнул: – Тебе лучше не возвращаться в гостиницу. Они уже там.
– Жена сказала? – усмехнулся Пётр, попутно отмечая с неудовольствием, что усмешка вышла не вполне беззлобная.
– Почему жена? – вспыхнул тот. – Петушок.
– Жалко.
– Что жалко?
– Сумку. Очень уж она мне по душе была. В Лондоне пять лет назад купил.
Как-то очень спокойно он это произнёс, вы не находите? И как-то беспокойно, будто приняв на себя роль штормового моря, зашумели-задвигались ближайшие кусты, такие тяжёлые, что почти бархатные, почти фиолетовые, человеческие такие кустики без окантовки и с влажным шорохом, обклеившим листочки да веточки. Так вот из этих-то веточек, ставших морской ветошью, и вышел волк с кожаной сумкой, имевшей во внешнем облике нотку саквояжа. Вышел волк на задних лапах. Сумка, притворявшаяся саквояжем, была у него надета на плечо. НА СЕРОЕ, ПОГАНОЕ, ДРАНОЕ ПЛЕЧО.
– Эй-эй, полегче, – глухим, низким голосом рявкнула собакообразная скотина.
– Что вы говорите? – спросил его Пётр, метко прищурившись, но за этим прищуром стояло мягкое, почти урчащее удовольствие, или, ещё точнее, парнáя удовлетворённость.
– Да это я не тебе, – отмахнулся от него волк. – Тебе я сумку принес.
Павел, стоявший немного сбоку, залитый теменью и дендрошёпотом, отрывисто икнул.
В ответ из глубокой неизвестности крикнула анонимная птица. Впрочем, была, конечно, разница между одним и другой: он-то икнул с чувством, поскольку в его диафрагме, где поселилась вдруг крошечная грудная мигрень, начало́ театрально, почти картинно саднить, а она крикнула бесчувственно, как любая невразумительная орнитология, у которой и забот-то: летать малюсенькими кругами, летать огромными кругами вдоль и поперёк так называемого неба, произвольно деля его на ромбы, треугольники, трапеции, намечая на нём линии арабесок и иероглифов. И уже вторым ответом на эту спонтанную икоту (которая, в данном конкретном случае, конечно, никогда не перейдёт на Федота, а с Федота – на Якова, а с Якова – на всякого) был специальный, будто отмеченный курсивом, ультрафиолетовый блеск в тёмных глазах волка, который не прокашлявшись, то есть ещё страшнее, чем обычно, на манер Тома Уэйтса, увеличенного в несколько раз, проревел, обращаясь к нашему незадачливому икателю:
– А ты-то что ещё здесь? А ну марш к жене! У жинки сиська-то ой какая сладкая, жинка ведь ой как своего Павлушу любит!
Плохой писатель, который обладает куда большей свободой, чем я, нелепый графоман с потугами на гениальность, мог бы написать без зазрения совести стиля и здравого смысла, что Павел, бывший сверхчеловек и сверхмечтатель, вздрогнул от этих слов волка, но я расскажу о последствиях волчьих слов иначе, скорее всего, менее складно, но зато более точно: ведь Павел вовсе не вздрогнул, он антивздрогнул, то есть, оставаясь тем же и таким же, каков он есть в ежедневном обиходе, не выдавая, сиречь, своего ответного чувства ни лицом, ни телом, ни словом, ни делом, он как бы кристаллизовался, сделался точнее и определённей, как делается точнее и определённей любой неточный и неопределённый, как вы и я, человек-человечек, сталкиваясь с чем-то сущностно излишним. Так вот, уточнившись (и став, таким образом, максимально приближенным к боевым неотвратимым условиям – условиям типа цунами или харакири), Павел избавился от приблудной икоты и правильным, я бы даже сказал, хорошо поставленным голосом вопросил:
– А который час, а, Петь?
– Четверть одиннадцатого, – был ему ласковый-преласковый ответ, в котором взаимоналагались сразу несколько ласковостей: во-первых, ласковость оберегающая, пытавшаяся оградить бывшего друга от волчьей резкости; во-вторых, двусмысленная ласковость прощания, наподобие той, что появляется в устах хозяев, когда они говорят надоевшим гостям: «Ну, всего вам —», подразумевая вместе с тем и что-то вроде «пошли вы…»; в-третьих, поминальная ласковость, транслируемая скорее не этому, а тому, пятнадцатилетней давности Пашке Денисову, который сейчас, в густоте и пустоте елового вечера, отмежевался от себя-подростка, произнеся:
– Ну, извини, старик, мне уже пора. Если что, звони.
– Конечно, позвоню, – ответил ему Пётр ещё ласковее прежнего, потому что в теперешней ласковости появилось и некое «в-четвёртых» – ласковость индульгенции.
И он, конечно же, ушёл. Он, конечно же, покинул эту имитацию тёмного леса не то чтобы с лёгким, но с таким легковатым сердцем, в котором определённые и весьма существенные угрызения совести нормальненько соседствовали со своего рода райским насл.30, проистекающим от осознания того, что он избежал, ура-ура, избежал-таки некыих неопределённых страшностей.
Впрочем, я бы не упрекал его поспешно за малодушие, которое, спору нет, имело место, но одновременно с которым имел место и прощальный взгляд волка, направленный в его сторону, взгляд, как бы выточенный из кости, непружинистый, неэластичный, нежилой, с какой-то излишней, туманной, и оттого особенно тревожной отсылкой к вечности; такой, в общем, взгляд, что если бы он был не взглядом, а верой в Бога, этот мир тотчас был спасён, а на месте упругой теснины можжевеловых кустов, тотчас сомкнувшихся за Павлом наподобие театрального занавеса, распустились бы воздушные орхидеи и сверхвоздушные анемоны. Но поскольку до сих пор этого не произошло, еловый, можжевеловый воздух, туго спеленавший ночной парк, оставался плотен без изъянов, ну или почти без изъянов, с одним тонким исключением в виде лёгкого волчьего дыхания, в котором чего только было не намешано – клевера, мёда, липы, яблок, – словно волк был не волком, а пригожим бабушкиным погребом, так что Петру почти до дрожи уютно было чувствовать эти его дуновения.
– В общем, ты попал, чувак, по полной, – негромко рявкнула серая тварь, косясь куда-то в сторону, в направлении призакрытой еловыми лапами церковки, которую чернильный фермент этого времени суток размягчил до воскового состояния полуоплывания: сгладил трудные, упорные, православные церковные углы, замаслил суровые кирпичные поверхности, сделал, словом, всё, чтобы волк недоразглядел величие православия и не обратился во христианство, поскольку зачем нам с тобой, читатель, такой брат во Христе, который без зазрения совести может умять нас с тобой на ужин и который, вообще говоря, в сторону церкви-то посмотрел лишь затем, чтобы собеседник не рассмотрел в его хищных глазках приязни – ведь по их волчьим понятиям весьма стыдно выказывать приязнь кому бы то ни было, а человеку – в особенности. – Ну ничего, мы с петухом попытаемся отмазать тебя, – продолжал он, стремительно теряя свирепость, хищность, ягуаристость и львистость и не теряя, разве что, своего прирождённого хамства. – Значит, слушай сюда. Вот тебе бумажка с телефоном и адресом. Это некий Алмаз Аметистович – татарин, кажется. А может, дагестанец. Ну, тебе, в общем, виднее – я в ваших человеческих породах как-то не очень… Он сдаёт дом в поселке Жучково31. Не Пятая авеню, конечно, и не Остоженка, но тебе сейчас чем глуше, тем лучше. Мы с ним уже созвонились и сбили цену до ста грина в месяц.