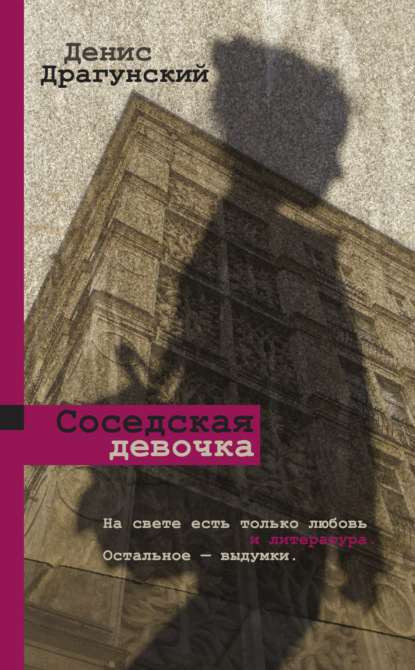По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Соседская девочка (сборник)
Серия
Год написания книги
2019
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Вообще-то трудные и жестокие времена случаются чаще, чем легкие, нежные и беззаботные. Но бывают времена совсем уж тяжелые.
Например, нацистская оккупация. На оккупированной немцами территории СССР в течение двух – трех лет жило примерно 70 миллионов человек. Население крупной европейской страны, страшное дело! И конечно, нельзя осуждать всех этих людей за то, что не стали партизанами и подпольщиками или не бросались с перочинным ножом на немецкий патруль.
Около 20 миллионов людей так или иначе «работали на немцев» – или прямо на немцев, или под надзором оккупационных властей. И опять же нельзя осуждать их всех за то, что они стояли у станков или подметали улицы, играли в театре, лечили больных или учили детей. Хотя бы потому, что в противном случае они бы умерли с голоду либо были бы расстреляны за саботаж.
Но! Но были люди – около 2 миллионов (то ли чуть меньше, то ли чуть больше), – которые служили немцу преданно, истово и даже «с превышением». Охранники в лагерях смерти, каратели, доносчики, осведомители, подручные в гестапо и в айнзацкомандах и те, кто воевал на стороне врага.
Их-то с полным правом и называют предателями. И ни у кого не повернется язык сказать со всепонимающим вздохом: «Время такое было…»
Вернемся к нашим литературным материям.
Разумеется, нельзя осуждать обыкновенных, рядовых советских писателей, которые были в той или иной степени приспособленцами. Да, надо восхищаться теми, кто протестовал, кто писал «в стол», кто не отступился от своего творческого лица и хлебнул за это полной мерой – тюрьмой, смертью, отлучением от читателей, унизительной безработицей. Ими надо восхищаться – но рядовых приспособленцев от литературы презирать не надо.
Возможно, они чувствовали, что нету в них того драгоценного дара, ради которого стоит рисковать жизнью. Возможно, они были слабы духом. Но, так или иначе, они тихо сочиняли свои мало кому нужные романы и повести и жили весьма скромной жизнью.
Речь не о них.
Речь о литературных генералах, о погромщиках и доносчиках, о тех, кто «прорабатывал», кто начинал или подхватывал кампании идеологических чисток, кто предавал своих литературных, а то и фронтовых товарищей на глазах у всех, на открытом партсобрании, кто толкался в очереди подписать очередную политическую кляузу. Кто, наконец, рекомендовал «органам» проверить такого-то автора на предмет измены родине в форме шпионажа.
Говоря о таких людях – а их немало было в советской литературной верхушке 1930–1950-х, – мне трудно согласиться, что «время такое было, и не нам их судить, мы не знаем, в каких они были обстоятельствах». Увы, знаем. Трудно предположить, что в случае Фадеева, Софронова, Грибачёва и прочих речь шла о нагане, уставленном в затылок, о перспективе ареста, о жене и детях, взятых в заложники, о старике-отце, которого грозят выкинуть из больницы, или хотя бы о безденежье, о скитаниях по углам…
Нет, разумеется!
Но эти люди действительно боялись. Что вместо «ЗИМа» или «Победы» будут ездить на «москвиче» или трамвае. Что вместо черной икры каждый день они будут есть красную только по праздникам.
Вот, собственно, и весь страх. Весь, так сказать, мотив гадства.
Вот такое было интересное время…
проще и обиднее
ДОСТОЕВСКИЙ И ЗОЩЕНКО
Михаил Зощенко, говоря, что «жизнь устроена проще, обидней и не для интеллигентов», на самом деле вовсе не хихикает над интеллигентами, а пишет о вещах по-настоящему трагических, определивших человеческий рисунок ХХ века.
В ХХ веке на европейскую историческую арену вышел совершенно другой тип человека, чем тот, кого мы ранее считали Человеком («с большой буквы», «звучащим гордо» и т. п.). Он, этот тип, впрочем, всегда был, но он именно что не выходил на арену. Человек, не отягощенный моралью и особенно – моральным самосознанием.
Герой Достоевского, убив старуху, мог только упасть на свою койку и рыдать. Прошло всего-то 70 лет, два поколения, и такой же недоучившийся студент, запытав до смерти десяток «врагов народа» или ликвидировав сотню, а то и тысячу «расово неполноценных», приходил домой и улыбался, радуясь, что на жене новое красивое платье, что дочь получила пятерку в школе. Играло радио, чай был горяч и сладок. Жизнь шла!
Зощенко первым обнаружил этот новый массовый тип. Человека, который может на улице схватить выпавшую из окна недоваренную курицу и убежать; отказаться от невесты потому, что в приданое не дали комод; убить за ершик от примуса, – и всё это с милой душой, не считая, что происходит нечто странное или страшное.
Он первым описал общество, где ложь, предательство, воровство, даже убийство – выпали из рамок морали. Где этих рамок вообще нет, а когда о них говорит какой-то там «интеллигент» – то его не понимают. Общество, где все согласны с насилием, потому что иначе они не знают, не понимают, не могут.
Зощенко – увы нам всем! – проницательнее Достоевского. Или лучше так: Зощенко – это Достоевский сегодня.
Потому что «бесы» Достоевского – это мерзкие, жестокие, но мыслящие и чувствующие люди. Делая мерзости, они понимают, что делают мерзости. Убивая, понимают, что совершают грех перед Богом и людьми. Почти что романтические персонажи. Дети Байрона.
А герои Зощенко – это массовые и банальные насильники ХХ века. Это «бесенята», для которых и вопросов-то таких не стоит. Пытать? Убивать? Травить газом? Закапывать живьем? Включая детей, женщин и стариков? Это мы пожалуйста! Работа-зарплата, и всего делов.
Вина «бесов» грандиозна. Прежде всего в том, что они вытащили «бесенят» из социального нуля в центр жизни, дали им маленькую, но власть. А потом – коли охрана «бесов» вся состоит сплошь из «бесенят» – были вынуждены им подчиниться. Состарились и легли в могилу старые, утонченно-мерзкие «бесы» – и «бесенята» стали вообще самыми главными.
Читайте Зощенко, друзья!
очерки по истории толерантности
ПРИГВОЖДАЯ ЖЕРТВУ
У русской культуры ХХ века есть одно поистине изумительное свойство.
Оно резко отличает ее от классической русской культуры XIX века, о которой мы говорим с восторженным придыханием и гордостью. Пушкин! Гоголь! Достоевский! Толстой! Некрасов, Тургенев, Чехов и целый сонм писателей чуть поменьше масштабом: Григорович, Лесков, Короленко, Эртель, писатели-народники (извините, что в одну кучу), а также Потапенко, Андреев, Куприн и даже Бунин и Блок.
Мы сегодня считаем себя законными наследниками «золотого века русской культуры». Меж тем это совсем не так.
Что же это за отличительное современное свойство?
Чрезвычайная терпимость к злу, вот что. И отсюда – сочувствие палачу и презрение к его жертве.
Меж тем как вся русская классическая литература исполнена жалости к «маленькому человеку». К жертве обстоятельств или разбойников, нищеты или болезни, полиции или охранки. Бедная Лиза, Самсон Вырин, Акакий Акакиевич, Антон Горемыка, Герасим со своей Муму, Макар Девушкин, Неточка Незванова, Соня Мармеладова, Катюша Маслова, гробовщик Яков Бронза вместе со скрипачом Ротшильдом, андреевские семь повешенных, купринские проститутки и безымянная «под насыпью, во рву некошеном».
И вся атмосфера общества была пропитана этим. Каторжников в народе называли «несчастными». Адвокатов буквально носили на руках. «Войдем в зал суда с мыслью, что мы тоже виноваты», – призывал Достоевский. Мы, которые судим и казним.
Соблазнитель, обманщик, мироед, палач, жандарм и неправедный судья пользовались, мягко говоря, куда меньшим сочувствием авторов и читающей публики. Губернатора, который приказал стрелять в рабочих (рассказ Леонида Андреева), жалела безвестная гимназистка, но почему? Потому что губернатор уже сам себя приговорил к смерти за этот приказ и нарочно ходил без охраны, и в итоге его взорвали эсеры. «Гимназистка плакала». Но вряд ли бы она смогла плакать о взорванном губернаторе, если бы до этого она, и ее мама, и ее бабушка не плакали о Бедной Лизе, Самсоне Вырине, Антоне Горемыке и далее по списку.
В ХХ веке всё вдруг изменилось.
Я не знаю почему. У меня есть предположения и рассуждения, но нет полной уверенности. Поэтому не надо о причинах.
Факты, однако, налицо.
Сейчас жертва (особенно слабая, безымянная и давняя) вызывает брезгливое раздражение.
Палач – «он выполнял приказ», «время такое было», и вообще «не нам их судить». То есть им – судить, приговаривать и казнить. А нам – ни-ни.
(В скобках полезный совет: когда вам кто-то с постной миной говорит: «не судите» – это значит, что вас уже осудили, в полном противоречии с евангельской заповедью, на которую этот ханжа ссылается.)
Стоило кому-то написать в социальных сетях, что рядом с красивым надгробным памятником главпалача НКВД Блохина – который лично, сам, своей рукой расстрелял более 10 000 человек, – что рядом не худо бы поставить табличку с указанием на этот исторический факт, – тут же раздается ханжеский голос: «Воевать с мертвыми – фу, это недостойно, это низко!»
Ему убивать по 20 человек в день было высоко. А указать на это – низко.
Интересные дела.
А вот жертвам достается по полной. Крестьяне прятали хлеб, рабочие бастовали, доценты саботировали, поляки шпионили, татары предавали. Если бы к власти пришли Троцкий (Бухарин, Каменев, Зиновьев, Рыков и т. д.) – то было бы еще хуже. Маршалы и генералы все как один лезли в бонапарты. За колоски сажали по делу («Значит, вы считаете, что воровать, красть – можно?! Интересно!»). А бухгалтера Иванова и его жену – и еще полмиллиона таких же бухгалтеров и их жен – для общей острастки, которая в видах грядущей войны была просто необходима.
И самое главное – ведь не всех же загнали в лагеря, а тем более расстреляли? Не всех. Значит, кого не арестовали и не расстреляли – те были нормальные, ни в чем не виноватые люди. А вот кого таки да расстреляли – наверное, было за что?
А взять евреев? Скорее всего, они сами виноваты, что их с таким упоением и тщанием убивали в конце тридцатых – начале сороковых. Наверное, восстановили против себя мирное малограмотное население восточноевропейских городов и деревень. А погромщики – ну сказано же, малограмотные люди, трудно живущие, им естественно хотелось поживиться еврейским скарбом…
В общем, «не нам их судить».
Например, нацистская оккупация. На оккупированной немцами территории СССР в течение двух – трех лет жило примерно 70 миллионов человек. Население крупной европейской страны, страшное дело! И конечно, нельзя осуждать всех этих людей за то, что не стали партизанами и подпольщиками или не бросались с перочинным ножом на немецкий патруль.
Около 20 миллионов людей так или иначе «работали на немцев» – или прямо на немцев, или под надзором оккупационных властей. И опять же нельзя осуждать их всех за то, что они стояли у станков или подметали улицы, играли в театре, лечили больных или учили детей. Хотя бы потому, что в противном случае они бы умерли с голоду либо были бы расстреляны за саботаж.
Но! Но были люди – около 2 миллионов (то ли чуть меньше, то ли чуть больше), – которые служили немцу преданно, истово и даже «с превышением». Охранники в лагерях смерти, каратели, доносчики, осведомители, подручные в гестапо и в айнзацкомандах и те, кто воевал на стороне врага.
Их-то с полным правом и называют предателями. И ни у кого не повернется язык сказать со всепонимающим вздохом: «Время такое было…»
Вернемся к нашим литературным материям.
Разумеется, нельзя осуждать обыкновенных, рядовых советских писателей, которые были в той или иной степени приспособленцами. Да, надо восхищаться теми, кто протестовал, кто писал «в стол», кто не отступился от своего творческого лица и хлебнул за это полной мерой – тюрьмой, смертью, отлучением от читателей, унизительной безработицей. Ими надо восхищаться – но рядовых приспособленцев от литературы презирать не надо.
Возможно, они чувствовали, что нету в них того драгоценного дара, ради которого стоит рисковать жизнью. Возможно, они были слабы духом. Но, так или иначе, они тихо сочиняли свои мало кому нужные романы и повести и жили весьма скромной жизнью.
Речь не о них.
Речь о литературных генералах, о погромщиках и доносчиках, о тех, кто «прорабатывал», кто начинал или подхватывал кампании идеологических чисток, кто предавал своих литературных, а то и фронтовых товарищей на глазах у всех, на открытом партсобрании, кто толкался в очереди подписать очередную политическую кляузу. Кто, наконец, рекомендовал «органам» проверить такого-то автора на предмет измены родине в форме шпионажа.
Говоря о таких людях – а их немало было в советской литературной верхушке 1930–1950-х, – мне трудно согласиться, что «время такое было, и не нам их судить, мы не знаем, в каких они были обстоятельствах». Увы, знаем. Трудно предположить, что в случае Фадеева, Софронова, Грибачёва и прочих речь шла о нагане, уставленном в затылок, о перспективе ареста, о жене и детях, взятых в заложники, о старике-отце, которого грозят выкинуть из больницы, или хотя бы о безденежье, о скитаниях по углам…
Нет, разумеется!
Но эти люди действительно боялись. Что вместо «ЗИМа» или «Победы» будут ездить на «москвиче» или трамвае. Что вместо черной икры каждый день они будут есть красную только по праздникам.
Вот, собственно, и весь страх. Весь, так сказать, мотив гадства.
Вот такое было интересное время…
проще и обиднее
ДОСТОЕВСКИЙ И ЗОЩЕНКО
Михаил Зощенко, говоря, что «жизнь устроена проще, обидней и не для интеллигентов», на самом деле вовсе не хихикает над интеллигентами, а пишет о вещах по-настоящему трагических, определивших человеческий рисунок ХХ века.
В ХХ веке на европейскую историческую арену вышел совершенно другой тип человека, чем тот, кого мы ранее считали Человеком («с большой буквы», «звучащим гордо» и т. п.). Он, этот тип, впрочем, всегда был, но он именно что не выходил на арену. Человек, не отягощенный моралью и особенно – моральным самосознанием.
Герой Достоевского, убив старуху, мог только упасть на свою койку и рыдать. Прошло всего-то 70 лет, два поколения, и такой же недоучившийся студент, запытав до смерти десяток «врагов народа» или ликвидировав сотню, а то и тысячу «расово неполноценных», приходил домой и улыбался, радуясь, что на жене новое красивое платье, что дочь получила пятерку в школе. Играло радио, чай был горяч и сладок. Жизнь шла!
Зощенко первым обнаружил этот новый массовый тип. Человека, который может на улице схватить выпавшую из окна недоваренную курицу и убежать; отказаться от невесты потому, что в приданое не дали комод; убить за ершик от примуса, – и всё это с милой душой, не считая, что происходит нечто странное или страшное.
Он первым описал общество, где ложь, предательство, воровство, даже убийство – выпали из рамок морали. Где этих рамок вообще нет, а когда о них говорит какой-то там «интеллигент» – то его не понимают. Общество, где все согласны с насилием, потому что иначе они не знают, не понимают, не могут.
Зощенко – увы нам всем! – проницательнее Достоевского. Или лучше так: Зощенко – это Достоевский сегодня.
Потому что «бесы» Достоевского – это мерзкие, жестокие, но мыслящие и чувствующие люди. Делая мерзости, они понимают, что делают мерзости. Убивая, понимают, что совершают грех перед Богом и людьми. Почти что романтические персонажи. Дети Байрона.
А герои Зощенко – это массовые и банальные насильники ХХ века. Это «бесенята», для которых и вопросов-то таких не стоит. Пытать? Убивать? Травить газом? Закапывать живьем? Включая детей, женщин и стариков? Это мы пожалуйста! Работа-зарплата, и всего делов.
Вина «бесов» грандиозна. Прежде всего в том, что они вытащили «бесенят» из социального нуля в центр жизни, дали им маленькую, но власть. А потом – коли охрана «бесов» вся состоит сплошь из «бесенят» – были вынуждены им подчиниться. Состарились и легли в могилу старые, утонченно-мерзкие «бесы» – и «бесенята» стали вообще самыми главными.
Читайте Зощенко, друзья!
очерки по истории толерантности
ПРИГВОЖДАЯ ЖЕРТВУ
У русской культуры ХХ века есть одно поистине изумительное свойство.
Оно резко отличает ее от классической русской культуры XIX века, о которой мы говорим с восторженным придыханием и гордостью. Пушкин! Гоголь! Достоевский! Толстой! Некрасов, Тургенев, Чехов и целый сонм писателей чуть поменьше масштабом: Григорович, Лесков, Короленко, Эртель, писатели-народники (извините, что в одну кучу), а также Потапенко, Андреев, Куприн и даже Бунин и Блок.
Мы сегодня считаем себя законными наследниками «золотого века русской культуры». Меж тем это совсем не так.
Что же это за отличительное современное свойство?
Чрезвычайная терпимость к злу, вот что. И отсюда – сочувствие палачу и презрение к его жертве.
Меж тем как вся русская классическая литература исполнена жалости к «маленькому человеку». К жертве обстоятельств или разбойников, нищеты или болезни, полиции или охранки. Бедная Лиза, Самсон Вырин, Акакий Акакиевич, Антон Горемыка, Герасим со своей Муму, Макар Девушкин, Неточка Незванова, Соня Мармеладова, Катюша Маслова, гробовщик Яков Бронза вместе со скрипачом Ротшильдом, андреевские семь повешенных, купринские проститутки и безымянная «под насыпью, во рву некошеном».
И вся атмосфера общества была пропитана этим. Каторжников в народе называли «несчастными». Адвокатов буквально носили на руках. «Войдем в зал суда с мыслью, что мы тоже виноваты», – призывал Достоевский. Мы, которые судим и казним.
Соблазнитель, обманщик, мироед, палач, жандарм и неправедный судья пользовались, мягко говоря, куда меньшим сочувствием авторов и читающей публики. Губернатора, который приказал стрелять в рабочих (рассказ Леонида Андреева), жалела безвестная гимназистка, но почему? Потому что губернатор уже сам себя приговорил к смерти за этот приказ и нарочно ходил без охраны, и в итоге его взорвали эсеры. «Гимназистка плакала». Но вряд ли бы она смогла плакать о взорванном губернаторе, если бы до этого она, и ее мама, и ее бабушка не плакали о Бедной Лизе, Самсоне Вырине, Антоне Горемыке и далее по списку.
В ХХ веке всё вдруг изменилось.
Я не знаю почему. У меня есть предположения и рассуждения, но нет полной уверенности. Поэтому не надо о причинах.
Факты, однако, налицо.
Сейчас жертва (особенно слабая, безымянная и давняя) вызывает брезгливое раздражение.
Палач – «он выполнял приказ», «время такое было», и вообще «не нам их судить». То есть им – судить, приговаривать и казнить. А нам – ни-ни.
(В скобках полезный совет: когда вам кто-то с постной миной говорит: «не судите» – это значит, что вас уже осудили, в полном противоречии с евангельской заповедью, на которую этот ханжа ссылается.)
Стоило кому-то написать в социальных сетях, что рядом с красивым надгробным памятником главпалача НКВД Блохина – который лично, сам, своей рукой расстрелял более 10 000 человек, – что рядом не худо бы поставить табличку с указанием на этот исторический факт, – тут же раздается ханжеский голос: «Воевать с мертвыми – фу, это недостойно, это низко!»
Ему убивать по 20 человек в день было высоко. А указать на это – низко.
Интересные дела.
А вот жертвам достается по полной. Крестьяне прятали хлеб, рабочие бастовали, доценты саботировали, поляки шпионили, татары предавали. Если бы к власти пришли Троцкий (Бухарин, Каменев, Зиновьев, Рыков и т. д.) – то было бы еще хуже. Маршалы и генералы все как один лезли в бонапарты. За колоски сажали по делу («Значит, вы считаете, что воровать, красть – можно?! Интересно!»). А бухгалтера Иванова и его жену – и еще полмиллиона таких же бухгалтеров и их жен – для общей острастки, которая в видах грядущей войны была просто необходима.
И самое главное – ведь не всех же загнали в лагеря, а тем более расстреляли? Не всех. Значит, кого не арестовали и не расстреляли – те были нормальные, ни в чем не виноватые люди. А вот кого таки да расстреляли – наверное, было за что?
А взять евреев? Скорее всего, они сами виноваты, что их с таким упоением и тщанием убивали в конце тридцатых – начале сороковых. Наверное, восстановили против себя мирное малограмотное население восточноевропейских городов и деревень. А погромщики – ну сказано же, малограмотные люди, трудно живущие, им естественно хотелось поживиться еврейским скарбом…
В общем, «не нам их судить».