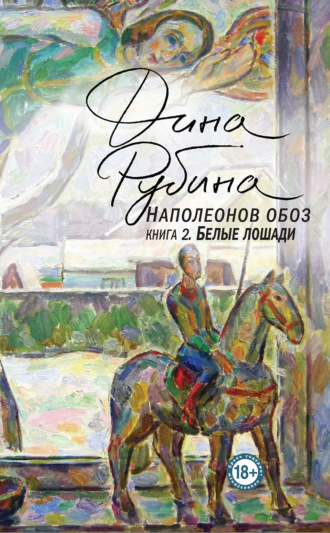
Наполеонов обоз. Книга 2. Белые лошади
Стаху снился душный речной сон – как плывет «веранда» вниз по течению, качаясь на волнах… Они с Дылдой одни на барже, совсем одни, а в центре палубы растёт их могучая ива и тоже мерно колышется – от ветра? от волн? В этой качке было что-то неуловимо сладкое и запретное, томительное и неизбежное, что нарастало и брезжило неописуемым наслаждением… Почему-то запрещено было говорить и даже думать о качке, но думать ужасно хотелось. «Надо обнять Дылду и качаться вместе, в одном ритме, – сообразил он во сне… – тогда всё получится. И надо её раздеть, потому что купальник… – он мешает качаться».
Тут же Дылда стала послушно выскальзывать из купальника. А вокруг уже – никакая не палуба, никакой ивы, они уже оба в воде, потому что речная мутная вода – лучшее из укрытий. Дылда скользила так близко от него, так послушно выпрастывалась из своего надоевшего им обоим купальника, ритмично поворачиваясь и показывая то спину, то грудь, то живот, – странно белые, всплывающие на поверхность воды какими-то музейно-мраморными обломками. И как полагается античной статуе, ладонью она прикрывала там, где… куда… От этого долгожданного обнажения его окатило во сне такой мощной волной желания, что на гребне очередного взмыва что-то блаженно лопнуло внизу живота, горячо растекаясь в паху. Он протяжно застонал, пытаясь плыть за ускользающей Дылдой, пытаясь урвать последнюю дрожь замирающего счастья…
…и открыл глаза.
Где-то вдали погромыхивало. Парило ужасно, томительно, голова раскалывалась от свинцовой тяжести… Дылда тоже проснулась и, кажется, в дурном настроении. Ошалевшие от духоты и жары, оба смурные, потные, они молча валялись в сумрачной глубине старой ивы, медленно приходя в себя, пытаясь понять – что там, снаружи – день? вечер? – и скоро ли появится «веранда»…
– На чём мы остановились… – пробурчал он, приподнялся и перехватил её удивлённый брезгливый взгляд, упёртый в его плавки.
– Ты описался… на моё одеяльце? – пролепетала она.
Он сел рывком, подняв колени, пытаясь укрыть от её взгляда область липкой мокрой материи. Не глядя на неё, бормотнул:
– Да нет, это… это бывает… когда приснится… Ты что, никогда не… Совсем маленькая, что ли?
Она вскочила на ноги, мгновенно став пунцовой, как её проклятый купальник.
– Да, я – маленькая! – крикнула она, и в другое время это было бы смешно: она возвышалась над ним, сидящим, как такая вот ива над берегом.
– Я – маленькая, и ничего не хочу знать! А ты – бесстыжий дурак, вот ты кто! Проваливай отсюда в воду, живо! Смывай свои… мерзкие пятна…
Он задохнулся – от стыда, от обиды. Молча поднялся, раздвинул ветви и понуро побрёл к воде… Нырнул, всплыл, отфыркиваясь, и долго упорно грёб на середину реки, пытаясь прийти в себя. Идиотский случай, блин! Паршивая история… Ну как объяснишь, что ты не виноват, что это организм бунтует… И со смущённой злостью подумал – а может, и не надо ничего объяснять, подождать лет пять, пока её собственное нутро не взвоет, пока она не повиснет на нём, умоляя…
Он обернулся: Дылда бродила по берегу, глядя под ноги – тонкая, одинокая, тоже какая-то потерянная. Большая девочка, отличница-пловчиха; второе сопрано… О чём она думала?
Наверное, он стал ей настолько противен, что сегодня по возвращении они разбегутся в разные стороны, и он уже будет для неё – никто и звать никак. Ничего не будет значить. Ничего?! Тогда лучше сейчас же утопиться.
Он поплыл в сторону заросшей протоки, медленно пробираясь между кувшинок, временами ощущая удары холодных ключей со дна реки. Ждал, когда она обернётся и позовёт его. Здесь вода была гораздо холоднее… Вот пока не позовёт, сказал себе, вообще из воды не выйду. И снова повернул на середину реки. Плыл и плыл, не глядя на берег.
Вдруг правую ногу свело дикой болью – он даже не сразу понял, что это такое, и вскрикнул: показалось, в воде его укусила неизвестная водяная тварь с зубами как пила. Потом понял: судорога. Однажды такое с ним приключилось, когда они с батей рыбачили на речке с подходящим именем Сурдога. Тогда тоже правую ногу свело, и надолго, но он собрался, сцепил зубы и дотянул до берега – батя потом одобрил «отменную выдержку»… Правда, речка была поуже… и течение не такое серьёзное…
«Ничего, доплыву… ничего…» Тело сразу огрузло, сведённая железным капканом нога тянула вниз, будто стала тяжелее всего остального. И всё же он плыл к берегу, заставляя себя ровно и спокойно дышать. Он был прекрасным пловцом – чепуха, пустяки, сейчас пройдёт…
Над головой глухим баском что-то проворчало, потом взрыкнуло, как цыганский фаэтон Цагара, и картаво рассыпалось за кромкой леса на том берегу. «Глубоко-ритмично дышать, просто дышать и плыть, дышать и плыть, и всё будет окей…»
Вдруг свело и левую ногу! Стах задохнулся, ушёл под воду, но всплыл, молотя кулаками по воде. И тут уже – испугался: понял, что – тонет.
Сдавленно крикнул: «На..! Надя!!!» – впервые в жизни назвав её по имени. Неосознанно, но точно: позови он её, как всегда, «Дылда!», она бы, может, и головы не повернула – знала, что он отличный пловец, решила бы, что придуривается. Но вопль его в полном безветрии принесло к берегу, и Надежда резко обернулась: было что-то необычное в этом задушенном вопле, в оборванном голосе, и главное – в беспомощном зове.
Он погружался и всплывал, погружался и всплывал, с силой молотя по воде руками, уже не понимая, где верх, где низ, уже не видя, как Дылда ринулась к нему с берега и быстро приближается широкими гребками, молча, сильно, рывками выволакивая себя вперёд – куда ожесточён-ней, чем на соревнованиях… Успел почувствовать только, как что-то грубо и резко тянет его вверх, выворачивая голову и… потерял сознание.
Они двигались к берегу тяжёлым кентавром, Надежда гребла одной правой, локтем левой руки обхватив его шею под подбородком; плыла, тяжело дыша, молясь отрывочными внутренними стонами, неизвестно с какого дна поднявшимися, – из детской памяти, из деревенских бабкиных причитаний, из дедовых вечерних вздохов: «святая-пресвятая… спаси-помилуй нас… спаси-помилуй нас обоих…» – и что-то ещё, ритмичное, что помогало преодолевать последние метры до берега, а она всё не кончалась и не кончалась, эта полоса мутной, уносящей их, упругой тяжёлой воды… А вот силы кончались. Мелькнуло даже: «Неужели утопнем… вот так, у самого берега?» Наконец на исходе дыхания и сил Надежда нащупала дно. Встала на дрожащие ноги, подхватила выскальзывающего из рук тяжеленного Стаха, подхватила под мышками, замком сцепив обе руки у него на груди – никакая сила не могла бы этот замок расцепить! – и попятилась, поволокла, тоненько воя от усилий.
Это было так трудно – тащить его, удерживая голову над водой. Она останавливалась, хватала воздух широко открытым ртом, снова подтягивала его на себя – каменного, чугунного… Он вроде дышал, но глаз не открывал и был без памяти.
Вдруг над головой плеснуло ядовито-малиновым сполохом, и ужасно громко где-то за небом грохнули двести бомб. Кто-то широким кривым замахом вспорол небо снизу доверху, в эту прореху ломанулся оглушительный водопад: рванул беспощадный ливень, какой бывает раз в году, да и не во всякий год. Непроглядная стена дождя обнесла пятачок бурого-бурлящего потока реки, в котором оба они ещё жили, откуда Надежда силилась вытащить Стаха. Тугие бичи дождя больно хлестали по их спинам, плечам, по головам – будто водяное чудище, упустив добычу из реки, хотело наверстать своё через верхние шлюзы – оглушив и утопив у самого берега.
Надежда выволакивала Стаха, судорожно откашливаясь, захлёбываясь потоками дождя, ничего не видя в шумящей завесе ливня, направление – к берегу – чувствуя только по уровню и течению реки. Когда наконец вытянула на песок свою ношу – рухнула рядом вмёртвую.
Очнулся он не от боли в ногах, а от ритмичного воя, далёкого сквозь рёв какого-то водопада: «…вай-да-вай-да-вай!!!.. да-вай-да-вай-ды!-ши!-ды!-ши! – что-то наваливалось, давило ему в грудь, наваливалось, снова и снова – движением из его недавнего сна, только резким и даже агрессивным. Его бурно вырвало то ли речной, то ли дождевой водой – казалось, река изливалась из него; и сразу стало просторнее, легче вдохнуть. Он застонал и открыл глаза, не понимая: где он, в воде?
По нему колотили, хлестали потоки, заливаясь в открытый рот, в нос, в глаза… Прямо над ним, в чаще свисающих мокрых волос ритмично двигалась маленькая озябшая грудь, от усилий выбившаяся из купальника. Возле соска, как спутник на орбите какого-нибудь Сатурна, сидело зёрнышко горчичной родинки. Он слабо улыбнулся и что-то промычал…
– Живо-о-ой!!! – крикнула она, зарыдала и упала на него, ловя губами его сведённые судорогой губы. – Живой… живой…
Ливень прекратился внезапно. В оглохлом мире ещё бормотала-рокотала река, несла вдаль свои обиды и ярость. Клочковатая синева в небе разрасталась с каждой минутой всё стремительней, и солнце ударило в воду снопами искр, и свежесть, ясность, чистота объяли остров, реку и засиявшую серебром старую ветлу.
Они целовались, не отрываясь друг от друга, – взахлёб, до боли, до пресечённого дыхания… Вот-вот должна была показаться «веранда». Надо было собраться, одеться, пусть даже и в мокрое… Но какая-то властная сила не позволяла им разомкнуть губы, руки, ноги… Они катались по песку, вновь и вновь жадно хватая губами друг друга, вдавливаясь друг в друга, будто губы оказались единственной частью их тел, единственным жадно разверстым входом, через который их благодарные души могли проникнуть одна в другую…
Когда издали гуднула «веранда», они медленно распались, выпрастываясь из объятия, как из борцового захвата; медленными сомнамбулами поднялись, и – раздетые, мокрые, в прилипшем к телу песке, – взошли на баржу и рухнули на скамью под заинтересованными взглядами таких же мокрых, но оживлённых пассажиров.
…В понедельник после репетиции хора она стояла на ступенях крыльца и ждала Стаха. Вышла Зинка-трофейка, недоуменно оглянулась на неё, спросила:
– Ты что, Стаха ждешь?! Он не придёт.
– Почему?! – Надежда подалась к ней, шагнула со ступени.
– А ты не слыхала? У Стаха же батя помер: стоял-стоял, бац – и рухнул! Прям на платформу. У нас там в клубе оркестр со вчера наяривает: Шопена репетируют, на похороны.
Надежда сделала шаг со ступени, другой, третий… и, не оборачиваясь на Зинку, бросилась бежать. И бежала, бежала… бежала к нему, задыхаясь, будто он до сих пор тонул; будто она одна в целом мире могла вытащить его из неумолимого, мутного и горького потока…
Глава 4
В таборе
Одним из самых тяжких его снов – даже много лет спустя, когда для страшных снов в его жизни появилось предостаточно причин и сюжетов, – был сон о его возвращении из табора. Он и начинался всегда одним и тем же: он стоял на углу улицы Киселёва у странно тёмного дома Дылды и ждал.
В воздухе была разлита мертвенная просинь августовских сумерек. Он ждал, теряясь в догадках – отчего всегда шумный, напоённый электричеством дом угрюмо заперт и где все, а главное – где она, та, ради которой он, как библейский Иаков, служил цыганской ведьме – ну, не семь лет, но два полных месяца? И сколько ещё ему здесь стоять, всем существом чувствуя, как этот дом погружается в беспросветную тоску и муку…
Наконец в конце переулка – о, как всплёскивало сердце, особенно во сне, когда по походке, по ногам, по копне волос он узнавал фигуру! – в конце переулка показывалась она. И медленно, очень медленно приближалась…
Она несла какую-то тяжёлую сумку, но было что-то ещё в её облике – странное, тусклое, унылое, – так что две-три минуты, пока она подходила всё ближе, он пребывал в неуверенности – нет, не она… Или она? Неужели она?
Она подходила всё ближе. И странное дело: вместо того, чтобы броситься ей навстречу, стиснуть, сграбастать, ощупать, обдышать её страстным нетерпением, которое в разлуке выросло до высот какого-нибудь нью-йоркского небоскрёба, – он только стоит и смотрит, и не может ног оторвать от земли. Она проходит мимо, лишь скользнув по нему тусклым взглядом…
– Я вернулся! – кричит он ей в спину, глядя, как поднимается она на крыльцо запертого дома. – Я теперь всё умею! Ты слышишь, любимая?
Она не оборачивалась. Молча открывала ключом дверь, входила – самыми страшными были эти мгновения: броситься, не дать захлопнуть дверь! – а он двинуться не мог. Стоял и смотрел, как дверь захлопывается перед его лицом.
Проснувшись, он уже понимал: ему опять снился тот сон (в котором, к слову сказать, ничего особо страшного не происходило). Понимал, что весь предстоящий день отравлен, что тяжкий стон закрываемой двери опять надолго в нём застрял и в ближайшее время станет напоминать о себе в самые неожиданные минуты – тем более что событийно этот сон ничем не отличался от действительности.
* * *Однажды с пригородным поездом прибыл чужой табор. Гомоня и громко перекликаясь, они высыпали на платформу, заполонили здание вокзала, широкой метлой невозмутимо пройдясь по буфету и столовой, сметая со столов всё, что на них стояло; просочились дальше, мгновенно занимая всё пространство и свободно располагаясь на траве в центральном сквере.
Гвалт стоял невероятный. Несколько молодых мамаш сидели на земле и, спокойно вывалив смуглые груди, кормили довольно крупных карапузов. Вокруг всего этого пёстрого нашествия бегал, будто в море нырял и выскакивал оттуда на гребне волны, местный милиционер Костя Печёнкин. Его просто выносило волной на окраину сквера. Он безуспешно требовал «очистить вокзал от присутствия». Но цыгане игнорировали суету и вопли стража порядка: цыгане, как собаки, прекрасно чуют страх и замешательство другого человека.
Наконец дело решилось: кто-то из станционного начальства послал за одним из местных баронов, тот подкатил на собственных «жигулях», безошибочно определил «равного по званию» и, отведя в сторонку, долго с ним говорил – о чём, никто не знает. Но к вечеру табор снялся и переместился на перрон – ждать следующую электричку…
Однако за эти пять или шесть часов кое-что произошло.
Стах пересекал сквер, направляясь к остановке автобуса, когда откуда-то сбоку возникла миниатюрная – сначала даже показалось: девочка-подросток – молодая цыганка. Ничего особенного, типичная представительница их племени: смуглая, черноволосая, чернобровая, вся унизанная браслетами-кольцами. Глаза только зелёные, вызывающе яркие и требовательные. Да ну её на фиг… Стах отвернулся, стараясь как-то обойти это препятствие. Он собирался наведаться в Учительскую библиотеку и поздновато вышел – через час она закрывалась, надо было спешить.
– А тебе, парень, про любовь потолковать, – поравнявшись, вдруг сообщила ему цыганка, не то чтобы дорогу заступая, но продолжая идти вровень с ним и как-то близко, словно были приятелями. Он ускорил шаги. Ничего плохого он ей не желал, занятие у неё такое. Просто торопился.
– Тебе – про любовь, а?
– Нет, – отозвался он через плечо, ускоряя шаги. – Отвали. Другому погадай.
– Да ты и сам цыган! – весело окликнула она.
– Нет, – огрызнулся он. – Я не цыган.
– А похож! Глаза только чужие, светлые… Хочешь, погадаю просто так, от души, за твою симпатичную личность.
– С чего это? – он остановился, впервые оглядывая всю её, с головы до многослойного пышного подола юбок; на ней было их надето три или даже четыре. А вот руки сквозь прозрачные рукава блузки казались тонкими, как прутики.
– А у тебя, вижу, загвоздка имеется. Маленькая, но в большом деле.
– Да брось, – он отмахнулся и дальше пошёл… – у всех загвоздки, и у всех дела, маленькие и большие.
– А такая любовь, рыжая-сладкая… тоже – у всех? – бросила она ему в спину.
Он резко развернулся и уставился на неё. Нет, чужая, пришлая… не могла она… не могла знать! Откуда?!
Он бросился к ней, схватил за руку:
– Молчи! – прошипел. – Пойдем… куда-нибудь. Не здесь!
И за дощатой стеной хлебного ларька они уселись на траве, цыганка извлекла откуда-то колоду карт, раскинула их, помолчала, покусывая нижнюю губу. Попросила левую руку и несколько мгновений, слегка поворачивая её, рассматривала. Подняла на Стаха невозмутимые зелёные глаза и деловито спросила:
– У тебя по утрам стоит?
Он вырвал руку, вскочил, проклиная себя за глупость… Какого чёрта… сам же напросился!..
Она проговорила ему в спину:
– А загвоздка одна: ты её пробить не можешь.
– Прибить?! – спросил он диковато, оборачиваясь.
– Да нет, – терпеливо отозвалась девушка, по-прежнему сидя на траве, собирая и тасуя в ладонях колоду карт. – Пробить боишься… Так любишь, что её же и боишься. А это плохо, когда оба не умеют. Кто-то один должен научить другого. Тебе, парнишка, поучиться надо, а то гляди, как бы она тебя не научила. Она у тебя кипучая: ещё чуток – искры во все стороны прыснут.
Он стоял совершенно оглушённый: как?! Как могла узнать эта зеленоглазая цыганская оторва… Разве могла она видеть… этот позор его, эти жалкие попытки… и милосердные лёгкие ладони Дылды на его спине, и её лепечущий шёпот: «Ну, успокойся, тише, тише… это не шаги, там никого нет… Сейчас всё получится. Просто сделай как правильно… Не торопись, не бойся… Нет, мне не страшно… Совсем не страшно! Я очень этого хочу…»
Он бросился к цыганке, спросил, задыхаясь:
– А ты можешь… как тебя звать… можешь – научить?
Она ответила невозмутимо:
– Заплатишь – научу. Любое умение денег стоит. А звать Папушей.
– У меня нет денег, Папуша, – угрюмо выдавил Стах.
– Заработаешь, – отозвалась она безмятежно.
* * *За два летних месяца он прошёл с табором до Самары. Такое условие поставила Папуша, перетерев со своими его внезапное среди цыган появление. «Делать, что скажут», – обронила она.
Папуша осталась вдовой в 14 лет, а замуж вышла в 13. Её мужа Николая через год после свадьбы забрали в армию.
– Наши от армии не косят! – гордо пояснила в первую же ночь, когда ласково и обстоятельно провела его первым и самым незамысловатым маршрутом в мир чувственных соитий. – Не косят! Служить – это свято!
И убило Николая – не на учениях, не в бою, а просто током зашибло в красном уголке, когда пытался починить неисправную проводку. С тех пор Папуша оставалась свободной и, хотя была бездетной, то есть, по сложившемуся обиходу,порченой, – в таборе её уважали за серьёзные добычи. Гадалкой, даже среди своих, считалась несравненной, настоящей, без штучек и обмана: просто видела правду. Когда женщины выходили в городок на работу, местные бабы ждали её, ловили и порой даже в табор наведывались – только бы сказала Папуша, куда делся любимый, и что делать с алкоголиком-сыном, и когда уже сдохнет злая свекруха.
– Не вздумай сбежать, – предупредила она в первую их ночь, видимо прочитав его мысли; он лежал на перине в её палатке, среди множества разновеликих подушек – мокрый от пота, счастливый, что переступил наконец, перескочил проклятую черту и сейчас свободен, силён и всё может, и когда вернётся… завтра! поскорее бы оно настало!..
– Даже не думай. Ты сейчас как щенок слепой, на поводу своих нижних жил… Они тебя потянут, ты вскочил и – скакать. Ты должен научиться вести, поводья натягивать, должен кучером стать, и себе, и рыжей твоей: умным наездником, а не глупым конём. Тупые ска́чки, это, хороший мой, не любовь, а так, добыча хама, удовольствие насильника.
Она называла это «уроками» (слегка лукавила, конечно, но и всерьёз: учила); и даже в самые горячие, задышливые минуты, когда не то что одежду – шкуру с себя хочется содрать, не снимала широкой шёлковой рубахи, не белой, а зелёной, кружавистой, гладкой и тяжёлой на ощупь. «Сними!» – просил он, которому осязания было мало, он, как художник, хотел и глазами владеть. Но она не уступила ни разу. «Нельзя, – говорила, – я вдова, только муж меня без одежды видел. Я его памяти верная».
Что-то она постоянно втирала в кожу – не духи, не мазь, а какое-то лёгкое травяное масло, душистое и терпкое, – сама готовила. Сливаясь с любовными соками, этот запах разгорался на пылающей коже обоих, заполоняя небольшое пространство палатки, плыл над головами и был навязчиво вездесущ, так что со второй или третьей ночи Стах выбирался на свежий воздух и бродил босиком по траве, прислушиваясь к далёким гудкам поездов (стоянку всегда делали неподалёку от железнодорожной ветки), подспудно тоскуя по запаху другого, невинного тела, мысленно убегая отсюда, ускользая, утекая прочь… Бог с ним, с учением, всему уже выучился, дело простое…
Но каждую ночь Папуша доказывала: нет, не простое! Каждую ночь увлекала его всё дальше, всё искуснее становилась, каждый раз поражала и всякий раз была полна новостей. Она казалась неисчерпаемой. Говорила много, размеренно, даже в разгар его охоты; даже покачиваясь на нём верхом, как амазонка на иноходце, продолжала говорить, сильно этим раздражая, будто хотела вдолбить необходимые навыки, слить смысл звучащего слова с дрожью и танцем скользящего, медленно нарастающего наслаждения.
– Думай о женщине; всегда думай о женщине: у неё другое тело, не твоё. Она по-другому чувствует. Это обманка – думать, если ты слился с ней, то она и есть – ты, и готова так же быстро словить общий огонь. Она медленней разгорается, но тяга внутри у неё сильнее… Она всегда – слышишь? – всегда сама по себе. Ты заслужи её радость. Ты сначала поработай-ка на неё, потому что твоя радость от её сильно зависит. Всё время слушай её глубину: женщина обмануть может, многие так и делают, чтобы любовник был доволен, но ты ничему не верь: стонам не верь! Стонать и заяц может. Её тело запеть должно, как дождёшься этого – ты свободен, и дальше лети себе ввысь один, как голубь, вонзайся в небо: выше, выше! Во-о-о-т… во-о-от… лети-и-и…
– Как это – запеть? тело? – спросил он полчаса спустя.
– Да… но не голосом её, а… покажу потом, ты поймёшь, почувствуешь… – И засмеялась: – Да погоди ты руки тянуть… постой, парень!.. Что ж ты жадный такой…
– Покажи! – потребовал он шёпотом. – Покажи сейчас!
– Ишь ты… – выдохнула она, с силой проводя ладонью по его потной груди, по животу, по бёдрам… И усмехнулась: – Как же ты её любишь!
Как старательно для неё учишься…
* * *С его появления прошло недели две, когда жизнь «кырдо», табора, его люди, их уклад и привычки, из беглых сценок и отрывистых реплик (а он довольно скоро стал кое-что разбирать по-ихнему), из непонятных жестов и, на сторонний взгляд, диковатых поступков – стали складываться в некий цельный и осмысленный образ жизни.
Табор был небольшим – палаток тридцать на стойбище – и кочевал не в полном составе. Родиной и основной базой цыгане считали городок Сенгилей в Ульяновской области. Там у них были кое-какие дома на окраине и большой обжитой луг на берегу богатого рыбой пруда, где и стояли кибитки. Там они зимовали, а весной, едва дороги просохнут, двигались в путь. На семью приходилось до десяти телег со скарбом; шли неторопливо, пыль курилась над дорогой медленным облаком, в котором постепенно, как в проявляемом снимке, проступали придорожные кусты, деревья и заборы.
Летняя и зимняя жизнь табора сильно различались. В пути даже свадеб не играли, всё оставляли на домашнюю оседлую жизнь в Сенгилее.
Как передовой отряд древнего войска, «кырдо» прокатывался на своих колесницах по городкам-деревням и колхозам в поисках добычи, и главными добытчицами были женщины. Сколько авансов-зарплат вытягивали они из карманов работяг своим извечным: «Ой, сглаз на тебе, болезный! Дай деньги подержать – но только все давай, и бумажные тоже, а то проклятье на них останется, да прямо на семью перейдёт!»
Вообще, как с удивлением приметил Стах, женщин в таборе побаивались. Была в отношении к женщине извечная двойственность. С одной стороны, не могла она прикасаться к чистым вещам, вроде мужнина-отцова-братнева кнута или ножа; держалась подальше от угла, где выставляли икону; вся её одежда, что ниже пояса, а также обувь, считалась скверной; мужчина не мог касаться, не мог продать женской юбки, не мог даже чинить женский сапожок. Может, потому в одежде цыганок такое значение имел фартук – всегда широкий и длинный, – непременный атрибут облика. Только так женщину можно было обнять, положить ей что-то в карман и при этом не оскверниться. Опять же, и она может тащить в руках нечто необходимое, прижав к себе: фартук защитит от скверны. Но уж если цыганка хочет оскорбить, смертельно унизить за какую-то обиду – ей достаточно мимо пройти, обмахнув обидчика подолом юбки, или просто переступить через лежащий на земле его кнут. Страшнее этого ничего нет, разве что обритая голова – символ бесчестья. Кого выгоняют из табора, тех стригут наголо. Именно потому, объяснила ему Папуша, в советской армии делают исключение для новобранцев-цыган: их наголо не бреют.
Так что роскошные, хотя и засаленные длинные космы в таборе были поголовно у всех, не только у женщин.

