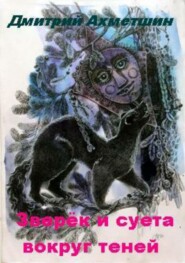По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Когда ты перестанешь ждать
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Вот, например, то, что он писал, когда отрастали клыки. В минуты, когда на личном небе Томаса сияло солнце и клыки втягивались в дёсны, он писал, как хорошо прыгать с мостков в воду, плескаться и ловить голыми руками под водой окуней – они такие скользкие! В некотором роде, думаю, стихи его можно назвать собачьими.
– Ты что, книжек начитался? – я буквально кожей почувствовал холодный, как лезвия ножниц, взгляд. – А? Детективных? Тома больше нет. Томаса больше нет с нами – вот всё, что нужно понять.
Я не стал извиняться. Не поднимаясь с земли, я пропустил руки через дыры карманов и спросил напрямик:
– Как это случилось?
Я страшный трус. Не знаю, хватило бы у меня духу спасти из горящего дома человека (или хотя бы кошку), но необходимость сказать что-то искреннее в разговоре с людьми скручивает в жгут, точно мокрое бельё в руках дородной финки. Карманы – что-то вроде индивидуальных бронежилетов. Там твои потные красные ладони никто не увидит, и можно, хоть и с натугой, с дрожью в коленях, но говорить с плачущими людьми. А Сашка сейчас явно плакала. Глаза её и оставались сухими, а рот почти не дрожал, но есть, видно, внутри у меня некий детектор слёз и горя, который сейчас истерично пищит. Слезами можно истечь изнутри, что неминуемо приведёт к острой рези в животе. Слёзы – они как кислота, а вся не вышедшая наружу кислота будет разъедать тебя изнутри. Я тоже захлёбывался от слёз, но вместо того, чтобы это признать, держал руки в карманах и выспрашивал подробности смерти лучшего друга. Я, наверное, вырасту в зачерствевшее чудовище.
– Тот мужчина… – она всхлипнула.
– Какой мужчина?
– Который приходил к родителям Тома. Он, должно быть, из полиции. Или криминальный врач. Его привёз господин Аалто. Он сказал, что Том облил себя керосином и зажёг спичку. А потом сел и сидел, пока не сгорел дотла.
Вместо всхлипов её сотрясала только сухая икота. Вся влага копилась где-то внутри, ожидая момента, когда можно будет кипящей лавой извергнуться наружу. Я хмурился.
– Так не бывает, Сашка. Знаешь, какая боль, когда ты горишь? Я один раз пытался на спор подержать палец над горящей спичкой… Сначала должна сгореть кожа, потом мышцы, потом, наверное, закипает кровь и лопаются вены… и всё это время ты чувствуешь боль, как будто тебя режут тысячи ножей сразу… а!
В сидячем положении трудно увернуться от летящего в тебя комка земли, который ввиду засухи превратился во что-то почти такое же твёрдое, как камень. Я дождался, пока не погаснут пляшущие перед глазами звёзды, после чего осторожно ощупал нос. Вроде, цел. На языке остался горький привкус: в тот момент, когда «астероид» столкнулся с моей головой, я неосмотрительно открыл рот.
– Томми сгорел заживо, – сказал я голосом человека, который проснулся вдруг посреди ночи и едва способен отличить истаивающий сон от реальности.
– Да, Антон.
– Где это случилось?
– В Земляной дыре.
– В дыре!..
Я задохнулся. Земляная дыра была нашим тайным местом – особенным по сравнению со многими закутками и местечками вроде этого подмостья. Земляная дыра была настоящим тайником, чем-то вроде сейфа за картиной, код к которому мы – вся наша ребячья компания – знали, но всегда предполагали двойное дно или съёмную заднюю стенку. Потому что кто, когда и зачем вырыл и обустроил Земляную дыру, оставалось загадкой.
Я сказал с превеликой осторожностью:
– Почему было решено, что это самоубийство?
– Он оставил записку. В стихах.
Сомнений быть не могло. Всё, как по сценарию. Может, кто-то и мог бы написать за него предсмертную записку, но записку в стихах, в стиле неистовых хокку, которые, как кожурки от семечек, выдавал на-гора Томас, подделать невозможно. Пора выкинуть из головы всю эту детективную чушь. Томаса больше нет, и никто кроме него самого в этом не виноват.
– Что мы теперь будем делать? – спросила Саша.
Риторичность этого вопроса я разглядел уже после того, как на него ответил.
– Жить, как всегда… когда он был Одиноким стрелком. Как будто бы он стал Одиноким стрелком навсегда.
На самом деле у меня не было ответа. Эта, особенная, навсегда запомнившаяся мне суббота, положила начало первым глобальным переменам в моей лёгкой, как воздушный змей, жизни, и это вселяло в меня лютый ужас. Конечно, несравнимый с тем, что, наверное, испытывал мой лучший друг – вряд ли кто-то с этим будет спорить. Но вряд ли кто-то поспорит и с лозунгом трусов и одиночек: «Своя рубашка ближе к телу».
Сашка молчала. К шуткам она относилась примерно как к пегасам и единорогам, которых выпускает в синее небо развязность детских языков, но то, что случилось с нашим другом – самая настоящая правда. В правде она разбиралась лучше всех и сильнее всех понимала её гнетущую неизбежность.
Глава 2. Разные Люди и Разные Города – Похожее Зрелище
Когда мы вылезли из-под моста, уже стемнело. Александра попрощалась, как умела только она, холодным кивком, трогая себя за плечи, и исчезла. Я побрёл в сторону дома, вручную прокручивая в голове киноплёнку мыслей.
Как я узнал от Сашки, Томас ушёл из дома в одиннадцать утра (в то время я был на конюшне; как раз, когда сумел разжечь в скакуне по кличке «Придон» искорку энтузиазма и под одобрительные возгласы тренера, женщины по имени Ханна, пустил его галопом). Он сказал родителям, что они с Антонкой (то есть со мной) собираются отправиться в Котий загривок строить дом-на-дереве, натаскать туда книжек и открыть библиотеку для Тех Кто Читает В Чаще При Свете Керосиновой Лампы. Это была давняя наша задумка – «идея на двоих». Дом-на-дереве оставался пределом мечтаний и планом на каждое лето целых поколений мальчишек с восьми и, приблизительно, до четырнадцати лет; даже компьютеризация детских умов не влияла на его положение: дом-на-дереве по-прежнему оставался во всех смыслах на высоте. Что до библиотеки – это была одна из странных идей Томаса, которая мне всецело пришлась по душе. Читать любили мы оба.
– Читать старую книгу в лесной чаще, сидя на дереве – что может быть прекраснее? – спрашивал он, и я просто не мог не согласиться.
Сначала Томаса видели в местной хозяйственной лавке «Всё и Всячина». Там он купил канистру керосина и долго, пыхтя себе под нос, привязывал её к багажнику велосипеда. «Он сказал, что это для бензопилы, – поведал побледневший торговец, старик Культя, как мы его за глаза (и втайне от взрослых) называли. У него не было правой руки, зато был замечательный пёс, который был приучен приносить с нижних полок склада товар. Пёс был глухой, и старик показывал ему аналогичный товар на витрине. Правда, на радостях он мог принести заказанное в неуёмных количествах. Бывало, зазеваешься – а перед тобой уже гора бумажных полотенец. – Сказал, отец отправил его за топливом для бензопилы. О Боже! Но я же не знал…»
Никто и не думал винить старого Йоргена. Керосин, конечно, не положено продавать детям, но Томас был уже подростком, а все подростки помогают отцам.
После того как Томас уехал, его вроде бы видели на дороге к Котьему загривку, естественно, одного. Без меня. А потом – не видели больше уже никогда. С Котьего загривка мы старались вернуться засветло, и на закате, как это периодически бывало, когда мы заигрывались и задерживались дольше положенного, отец Тома поехал на машине по единственной дороге навстречу. Он никого не встретил, и только когда между деревьев проглянула устроившаяся на ночлег вода, увидел велосипед сына и почуял мерзкий запах обугленной плоти…
Наверное, дым валил из-под земли, как из жерла вулкана.
Домой я пошёл не скоро, отправившись бродить по окрестностям. Сотовый телефон надрывался, но я не стал брать трубку, а просто написал маме, что со мной всё в порядке. Видимо, до них ещё не дошла страшная весть, потому как мелодию из Чёрного Плаща, что стояла на звонке, сегодня я больше не слышал.
Наш город больше напоминает большую деревню. Двухэтажные коттеджи, иные достаточно старые, будто каменные глыбы, останки какого-то средневекового замка, встречались там и сям. Были здесь и светлые современные домики, похожие на комки сахара, с верандами, с обилием стекла, с запахом свежей древесины или утреннего кофе. Между ними всё утопало в зелени, лужайки такие ровные, что даже отпечатки тяжёлых садовничьих ботинок там не задерживаются. Заборов нет. Родина мне отчего-то запомнилась обилием оград и оградок, но финнам, похоже, достаточно и того, что они запирают на замок своё сердце, и выдают ключи от него только заслужившим расположения людям. Кто-то позволяет своему саду зарастать, и только строит между пышных кустов извилистые каменные дорожки, отмечая их крошечными фонариками. Иногда даже умудряется всунуть под какую-нибудь иву беседку. Кто-то росистым утром прохаживается вдоль подъездной дорожки с газонокосилкой – от него клином, как от плывущей утки, расходится ощущение простора и ничем не сдерживаемого дыхания.
Местные жители предпочитают старые, отжившие своё автомобили. На ходу они поскрипывают подвеской, точно огромные жуки, что трутся друг об друга хитиновыми панцирями, а сигналы похожи на сигналы океанских лайнеров. У каждого автовладельца есть гараж, где горкой сложены покрышки, где пахнет машинным маслом, горячим теплом, и можно через неприметную дверь выйти прямиком на кухню, чтобы забрать со стола бутерброды. Но обычно люди здесь передвигаются на велосипедах. Велика ли важность – выгонять из гаража лупоглазого ворчливого старика, чтобы съездить за две мили на работу? Также и у каждого уважающего себя мальчишки есть велосипед, а если сложить вместе их скорости, получится число, превышающее население доброго мегаполиса.
У нас с Томом были странные отношения. Сегодня мы приходились друг другу лучшими друзьями, как сказали бы у меня на родине, «не разлей вода», завтра – уже нет. А послезавтра – опять неразлучны. Здесь, в Суоми, я слышал однажды выражение: «Разные калачи, да из одной печи», – и это тоже про нас. Не в смысле, что он тоже был из русской печки, а в смысле, что если бы мы были киборгами, электронные мозги бы нам заправлял в голову один и тот же мозгоправ.
Такие, как мы, люди, бывают похожи не внешне, не характером и даже не поведением, а какой-то расположенностью к миру, точкой зрения или же одинаковым поворотом головы. Мы не задумываясь выбирали в аквапарке один и тот же лежак, и тот, кто первый его занимал, имел полное право всласть поиздеваться над товарищем.
При всём при этом интересы у нас были очень разные. Я любил кататься на всём, что катится и хоть как-то двигается, он любил быть на одном месте, точно… точно дерево.
Том высокий, прямой, как жердина, слегка сутулый. С вечно нечёсаными вихрами и добрым лицом. Когда он был в хорошем расположении духа, то немного походил на вставшую на задние лапы собаку. Абсолютно так же ухмылялся всем встречным, знакомым и незнакомым, разве что не вываливал язык. Когда хотелось показать, что я на него рассержен или раздосадован, я кричал что-то вроде: "Я тебе хвост оторву!", и все, кто при этом присутствовали, сами становились улыбающимися лайками, так что аллегория с собакой приходила в голову не мне одному. В другие дни он только и делал, что язвил, протирал свои очки платком и стремился к покою. На любую попытку кантовать угрюмую версию этого сукиного сына, мой приятель отвечал очередной остротой, если бы я их куда-то записывал, я бы, наверно, смог бы уже издать сборник.
Но я не мазохист, поэтому в этот период я предпочитал с Томом не общаться. И, по возможности, не злиться на него. Он был, по собственному выражению, «одиноким стрелком», и любил говорить:
«Одинокому стрелку никто не нужен. Одинокий стрелок сидит у костра и курит».
Как дерево, Том возвышался над током жизни. Деревце из него так себе, ещё молодое, с неокрепшим стволом и верхушкой, до которой любой малыш может добраться за пятнадцать секунд, но это не мешало ему покровительственно простирать свои ветви над нашей мышиной вознёй.
Тому было тринадцать, почти как мне, но при всём при этом я мог обращаться к нему за советом как к старшему брату. Оттуда, с верхушки, видней. Это если я готов был признаться своему бунтующему эго, что мне нужны советы. Но, как ни странно, рядом с Томасом любые попытки бунта этого самого эго проваливались.
Мама называла его «тот странный мальчик», а я мог с чистой совестью назвать его другом, единственным среди своих приятелей.
Томас писал стихи. Лично он никому их не показывал, потому как считал, что мы всё равно ничего не поймём, но мы их читали – они публиковались в нашей школьной газете. Томаса хватало аж на два псевдонима: Добрый романтик и Одинокий стрелок, он ни разу не признавался в причастности к тому или иному, но кто на самом деле эти признанные гении, кажется, знал весь город.
В заваривающихся сумерках я покачался на чьих-то качелях, пока не заметил, что их хозяйка, русоволосая голубоглазая девочка, наблюдает за мной из окна. После чего слез и пошёл прочь, свернув со 2-й линии на улицу Хенрика Круселля и пропустив лабрадора, деловито бредущего куда-то в ошейнике, но без хозяина.
Что могло заставить Томаса так поступить? Я терялся в догадках. При мне он никогда даже не заговаривал о самоубийстве. Хотя всё, что он делал, казалось просчитанным и взвешенным, мне сложно представить, чтоб он так же хладнокровно просчитал и свой уход из жизни. Можно сказать, он помечал свой путь, как Гензель и Гретель: ронял крошки-стихи, и те, кто их подбирал, очень быстро понимали, что созданы они для внутреннего пользования. Что полностью понятны только человеку, который их оставил.
«Мне нужно увидеть этот его предсмертный стих», – решил я. Я слышал, что самураи перед ритуалом сэппуку – то есть ритуалом лишения себя жизни – писали короткие стихи, выражая своё отношение… ну, или не отношение. В общем, выражая что-то важное для себя. Что-то вроде «Всё прекрасно как сон; Сон придёт и уйдёт. Наша жизнь – сон во сне». Пиная потерянную кем-то луковицу, я надеялся, что в предсмертной записке Томаса будет немного больше конкретики.