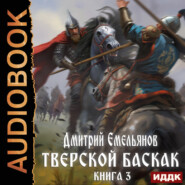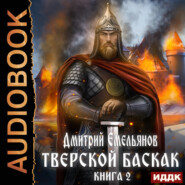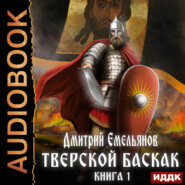По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Тверской Баскак
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Хорезмиец фыркает на ходу и в язвительности мне не уступает.
– Мог бы, но Кулькан, видите ли, вас желает.
Дальше уже идем молча, но на входе я неожиданно останавливаюсь и пропускаю хорезмийца вперед. Не ожидавший такого подвоха, аль Хорезми влетает в шатер и получает от не привыкшего ждать чингизида полный «ушат дерьма». Подождав, когда за пологом немного утихнет, захожу вовнутрь и чувствую себя при этом прожженным восточным царедворцем. Навстречу, удивленный таким коварством, взгляд хорезмийца, злобная искра от Турслана Хаши и все. Я спокойно занимаю положенное мне место. Кулькан, уже выплеснувший накипевшую злость, устало машет рукой – наконец-то. Пусть ведут послов.
Через пару мгновений охрана ввела в юрту трех посланников рязанского князя. На всех троих длинные, до колен, кольчуги, добротные кожаные сапоги – сразу видно, люди не бедные. Приложили открытые ладони к груди, поклонились. Даже не в пояс, а так, едва склонив головы, как равные с равным. Я им едва в глаза глянул и сразу понял, добром это посольство не кончится.
За те два месяца, что мне пришлось провести в степной орде, я уже успел познакомиться с чудовищной натурой хана Кулькана. То, что воин он превосходный и военачальник неплохой, сомнений не вызывает, но вот как человек – полное дерьмо. Капризный, вспыльчивый и злобный. Жесток и злопамятен до параноидальности. То ли били его в детстве нещадно, то ли другая какая обида засела в сердце, но ему просто необходимо постоянно ощущать свое превосходство над другими людьми. И выражается оно, конечно же, в неуважении ко всем и вся, и к своим близким в том числе, в оскорблениях, в прилюдных избиениях, и в придирчиво-мелочном отношении к малейшему несоблюдению этикета.
Вот и сейчас, вижу, как глядя на послов, зажегся дьявольский огонь в глазах хана, а те, словно не замечая опасности, прут на рожон и заявляют.
– Почто ты, хан, орду свою у границ княжества держишь? Нет ли в мыслях твоих зла на Рязани сотворить?
Перевожу, стараясь максимально смягчить фразу, но Кулькан уже завелся.
– Кто вы такие, чтобы спрашивать с меня, сына Великого Чингисхана?! Я, и только я, решаю, где мне пасти своих коней, а где нет!
После такой недвусмысленной угрозы, рязанцы опасность осознали, но, нахмурившись, на попятный не пошли.
– Мы хозяева земли здешней и право спрашивать заслужили железом и кровью.
И без того узкие глаза хана превратились в едва различимые щелки.
– На всей земле есть только один хозяин – Великий хан монгольский, а у всех остальных есть лишь выбор: покориться или умереть. Преклоните колени передо мной, тайцзы Кульканом, и, может быть, я подарю вам жизнь.
Вокруг все напружинились, охрана схватилась за рукояти сабель, а послы тревожно переглянулись между собой. Тот, что постарше с окладистой бородой, выступил вперед.
– Мы здесь не за тем, чтобы на коленях перед тобой ползать. Князь послал нас сказать тебе – убирайтесь с земли Рязанской или навеки в ней успокоитесь.
– Собака! – Лицо хана скривилось от ярости, и он наотмашь рубанул рукой.
Охрана восприняла это, как знак к расправе и накинулась на послов. Поначалу, они хотели их повязать и вытащить из юрты, дабы не пачкать ковры кровью, но русские не дались, и завязалась драка. Посыпались удары, и первая кровь, несмотря на численное превосходство, брызнула из монгольского носа.
Бешено вращая глазами, Кулькан несколько секунд смотрел на царящее перед ним безобразие, а затем, не выдержав, рванул с пояса нож и бросился в схватку. С первого же удара, стальное лезвие нашло цель, и шея одного из рязанцев зафонтанировала кровью. Двоих оставшихся завалили на пол, и хан, кривя рот от удовольствия, зарезал их тут же собственной рукой.
Произошедшее настолько ошеломило меня, что я застыл заледеневшим столбом. От запаха крови заложило нос, колени ослабли, а желудок крутануло рвотным спазмом. До сего дня я видел убийство лишь на экране, а тут… Еле сдержав еще один спазм, я, зажимая ладонью рот, рванулся к выходу. Протаранив полог головой, выскакиваю на воздух, но там то же самое. Кругом кровища, ругань и вой. Монголы рубят свиту рязанского посольства.
Развернувшись, бросаюсь в другую сторону, все равно куда, лишь бы подальше. Не успеваю сделать и шага, как меня сбивают с ног, и навалившаяся туша шипит голосом Куранбасы.
– Лежите тихо, святой отец, а то, неровен час прирежут по ошибке.
Затихнув, тыкаюсь лицом в морозную траву. От холода вроде легчает, и выдохнув, рычу наверх.
– Все! Слезай с меня, живо!
Половец сползает и ложится рядом. Его спокойный, разумный взгляд смотрит мне прямо в глаза.
– Не вставайте, подождем, пока все закончится.
Бухаюсь опять лбом в траву и лежу. В висках пульсирует одна единственная мысль: «К черту все! К черту! Отпустите меня домой!»
Сколько времени я пребывал в таком состоянии, не знаю. Как встал, куда шел, с кем, не помню напрочь. По-настоящему пришел в себя, лишь услышав.
– Глянь, один живой.
Из-под груды мертвых тел, ханские телохранители вытащили пожилого мужика, залитого кровью. Один из них, запрокинув жертве голову, уже взмахнул саблей, но окрик Кулькана остановил его.
– Оставь! – Хан покрутил головой. – Толмача мне найдите.
Чувствую легкий тычок в бок, и слышу голос моего половца.
– Пропустите, не толпитесь.
Протискиваюсь в расступившийся коридор и оказываюсь прямо перед ханом. Смотреть на него не могу, сразу перед глазами всплывает распоротое горло. Не поднимая глаз, шевелю плохо слушающимся языком.
– Я здесь.
Кулькан пройдясь по мне невидящим взглядом бросает.
– Скажи этому… – он не находит подходящего слова. – Пусть возвращается и известит князя своего, что так будет со всеми, кто не покорится.
Перевожу, а на меня с залитого кровью лица в упор смотрит единственный видящий глаз. Смотрит с такой тоскливой безнадегой, что во мне вдруг щелкает какая-то еще не осознанная мысль, заставляющая меня повернуться к хану и произнести.
– Этот человек не доедет в таком состоянии, кровью изойдет. Перевязать бы надо.
Кулькан смотрит на меня, как на заговорившую лошадь, а затем фыркает.
– Зачем? Если сдохнет, то туда ему и дорога.
– Умрет – не передаст слово ханское, – я уже настолько поднаторел в общении с этими людьми, что знаю на какие кнопки души надо жать, – а слова хана должны быть услышаны, чтобы не случилось.
Кулькан задумывается, причмокивая губами, словно пробует мои слова на вкус, и вдруг растягивает рот в ухмылке.
– Хитер ты, латинянин, ой хитер. – Он тычет в меня пальцем. – Хорошо, займись им, чтобы доехал и по дороге не сдох. Мои слова должны быть услышаны.
***
В юрте чадит масляный светильник, в свете которого Калида жутковатой кривой иглой штопает порубленного мужика. Тот в сознании, мычит и грызет зажатую в зубах палку. Резко воняет кровью и потом. Сидя в противоположном углу, я стараюсь не смотреть в ту сторону. Мутит.
Сижу, скрестив ноги, и в который уже раз спрашиваю себя:
«Зачем я ввязался? Этот параноик Кулькан запросто мог и меня прирезать, чтобы не умничал. Ведь все равно ничего не изменить! Мужик так и так умрет, ведь здесь ни бинтов, ни антибиотиков… Да и вообще, мне-то какая разница – одним больше, одним меньше».
Ответов на вопросы, естественно, не нахожу, и от полной бессмысленности своих действий все больше раздражаюсь на самого себя.
К счастью, слышу за спиной удовлетворенный голос Калиды.
– Кажись, все!