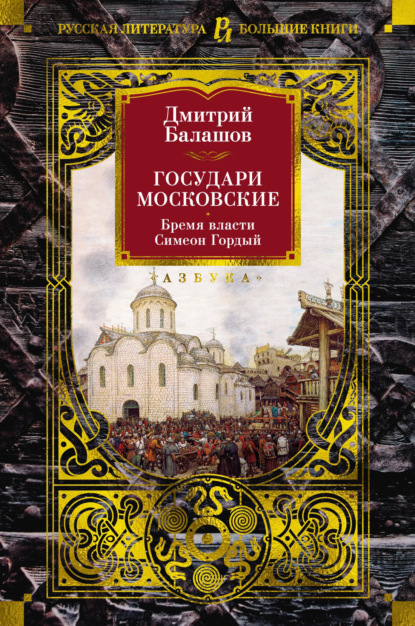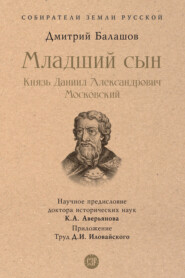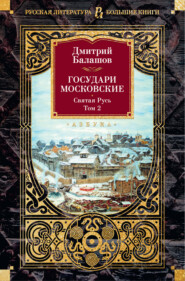По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Государи Московские: Бремя власти. Симеон Гордый
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Ханский покой был невелик и весь, кроме потолка, завешан гладкими ткаными или войлочными коврами. Окон не было, или их тоже закрывали ковры. Комната освещалась многочисленными мерцающими светильниками, точно церковь, так что можно было очень скоро позабыть, день теперь на дворе, вечер или утро.
Сейчас, внимательнее вглядевшись вблизи в усталое лицо хана, Иван похвалил сам себя за то, что сообразил при известии о смерти Тимура, сына Узбекова, послать тотчас в Сарай соболезнования с поминками. И в летописании владычном отмечено о скорби хана – чтущий да разумеет!
Там, за стенами, мела ледяная поземка. Было холодно. Калите не было холодно в теплом русском платье, но он за Узбека чувствовал, как холодно, как не греют жаровни, как надоели жены, не радуют золото и шелка… Пили горячий мед. Шла осторожная цветистая беседа; наконец один из вельмож прошептал что-то на ухо хану. (Иван догадывал что. Вельможе тому было дано, и дано преизлиха даже!) И Узбек, змеистым извивом бровей и чуть заметным склонением головы показав, что услышал и понял, вопросил Ивана (и, вопросив, поднял чело, расправил плечи, в глазах зажглось грозно, и весь он стал как проснувшийся барс: властелин полумира, великий, славный, кесарь, царь царей, повелитель Руси):
– Просишь Владимир?!
– Александр Василич помре, теперь мочно и совокупить волость ту!
– Каждому свою отчину! – бросил Узбек почти сердито.
– Володимер преже всегда был в волости великого княжения! – возразил Калита, преданно глядя на хана. – По ряду, по обычаю так, от дедов-прадедов наших!
Узбек покачал головой.
– А ярлыки зачем покупал? Мало тебе Ростова? Теперь просишь Галич и Дмитров?
Узбек усмехнулся и вдруг, круто сведя брови, вскипел, вскинулся с подушек, пронзительно вперивши взгляд в Калиту, молвил с угрозою:
– Я тебе велел добыть коназа Александра! Ты не исполнил того! Ныне коназ Александр вновь сидит во Пскове! Что ты сделал, князь?! Почто молчишь? Отвечай!
– Царь-батюшка! Дак ить немочно! Всё Гедимин проклятый! Литва подвела! – возразил Калита и поглядел на Узбека таким бестрепетно-прозрачным взором, что Узбек, за миг до того почти привставший с подушек, вновь лениво и недовольно откинул стан, уселся, поерзал, отводя глаза.
– Я и то уж спас от беды, – прибавил Калита, слегка опуская взор долу. – Свово епископа прошали плесковичи, совсем отделитися чтоб… Не попустил Господь!
– Епископ, епископ… – пробормотал Узбек, – колдун… Где митрополит?!
– Едет, царь-батюшка! – готовно отозвался Калита.
– Едет…
Узбек вновь сгорбился, четче прорезались глубокие морщины щек.
– Во Пскове и всегда сидели твои коромольники, царь-батюшка! Галицкий князь Федор наместничал, сынок еговый и братец Борис Дмитровский, оба из руки Михайлы Ярославича, покойного супротивника твоего! Дак теперь вот и князя Александра Михалыча приняли! И волость-то Тверская еще за им, нать бы ее Костянтину…
– Крови хочешь, князь, – возразил Узбек, покачав головою, – мстить хочешь! Нехорошо! Не нада! («Не нада» прибавил по-русски, остро глянув опять в лицо Калите.)
Толмачи, тот и другой, засматривая в рот хану и Калите, переводили слово в слово. Иван, добре понимая речь татарскую, успевал, услыхав вопрос Узбека, еще и обдумать ответ, пока толмач переводил ему ханские слова.
– Ярлыки возьмешь, кто дань будет давать Орде? – спросил вдруг Узбек без связи с предыдущим.
– Великий князь владимирский! – готовно и сразу отозвался Иван. (Ростовские дани нынче были выплачены без задержек.)
– Ты лукавый, князь! – сказал Узбек и вновь покачал головой, как бы в раздумье. – Не знаю, стоит ли брать твое серебро, быть может, лучше взять твою голову, а, князь?
– Моя голова в твоей воле, царь! – отмолвил Калита, помолчав. – Только без меня ты и серебра не соберешь на Руси! Вернее меня нету у тебя слуг!
И – строго поглядел. И сейчас, в миг этот, был и вправду самым верным слугою Узбека. Только на миг. И хан опустил глаза, вздохнул, вымолвил нехотя:
– Знаю, князь! Испытать тебя захотел. Прости…
И вновь вскинулся на подушках, почти прокричав:
– Меня все обманывают! Льстят и лгут! Никто не говорит правды! Я казнил стародубского князя за ложь! Только за ложь!
Узбек раздул ноздри, вновь яростно вперил очи в Ивана:
– Вот, я взял сына ворога твоего, Нариманта Гедиминова! Что велишь делать с ним? Ты! Русский князь!
– Знаю, царь. Сам хотел прошать тебя: выкупить Нариманта, ежели примет святое крещение.
– Почто хочешь так? – удивился Узбек.
– Наша вера, государь, – возразил Калита серьезно и устало, – велит любить даже ворогов своих! Выкупая Нариманта, творю угодное Богу.
Узбек поглядел чуть подозрительно. Протянул не то с угрозою, не то удивленно:
– Смотри!
В этот миг Калита верил, свято верил, что только затем и выкупает Гедиминова сына, чтобы, окрестив его, сотворить милостыню Господню.
Узбек склонил голову, вновь постарел и померк, долго молчал, думал. Наконец поднял глаза, что-то решив про себя окончательно. Сказал устало:
– Ладно. Бери все великое княжение! – И добавил хмуро, словно бы спохватясь: – Дани задержишь – отберу.
Глава 25
Назад он ехал опустошенный. Хмуро подсчитывал протори и издержки ордынские. От подсчетов кружилась голова. Обросшие шерстью, отощавшие в пути, кони то и дело сбивались, дергали не в лад. Возок колыхало и било. Был март, и мокрый снег начинал налипать на полозья саней и проваливать под конским копытом. Он уже обогнал обозы, оставил тащиться назади, скакал в мале дружине: скорей, скорей, скорей! Что-то неясное гнало и торопило его воротить в Москву не стряпая. Странно, о жене он почти не думал тогда. Разбираясь сам в себе, находил одну причину для беспокойства – потраченное в Орде серебро, возместить коее было нечем и неоткуда. Ярлык при нем, во Владимир он пошлет своих бояр тотчас же, после того как Алабуга, посланный ханом, возведет его на стол. Но обирать владимирцев так, как он обобрал ростовчан, нельзя. Круг замыкался опять, и вновь все приходило к тому, что взять неоткуда и не с кого… Только с Новгорода! А значит, надо требовать с них серебра закамского! Ежели бы не селетошний пожар московский! Всё ить и рубили и созидали наново. Сколь погорело добра! Обилия мехов, портна, узорочья – о сю пору не сочесть!
Напоенные солнцем, еще оснеженные, еще дремлющие, но уже весенние, стояли боры, и синие тени от топких, смугло-розовых, палевых и бумажно-белых березок узорно чертили тяжелый, потерявший пушистую ласковость, оседающий на припеках снег.
Об Елене он вспомнил почитай уже под самым Владимиром. Подумал, что и как скажет ей, воротясь. С больною с ней стало трудно. Ну, хоть корить не начнет! Теперь и похвастать мочно: все великое княженье в руках! Жаль, Бяконт не дожил… Солнце почти пекло, снег оседал, орали птицы, призывно, нюхая воздух, ржали лошади. И он был великий князь, и шла весна, а радости не было. Была забота, еще большая теперь, чем допрежь того. И теперь можно было признаться, как он смертно устал в Орде на сей раз!
Когда его торжественно утверждали на столе во Владимире – епископ служил службу и Алабуга гортанно читал ханский указ, – он уже почти не понимал слов, почти не чуял смысла происходящего, и все кричало внутри него: торопись! Скорей отделаться от пиров, торжеств, от Алабуги и скакать – в снег, в дождь, в распуту, но только скорее домой!
Великая княгиня Елена умерла, не дождав Ивана всего за несколько дней. Перед смертью приняла постриг и схиму. Положили ее первого марта в церкви Спаса. Иван узнал об этом, уже подъезжая к Переяславлю.
Повестили – и в первый миг словно свет померк, и некуда стало спешить. Сидел на подушках, прикрыв глаза, безотчетно отдаваясь колыханью и тряске возка. Не дожила… Не дождалась… Почти враждебное чувство, детская нелепая обида переполняли его всего. Не дожила! Не дождалась! Сейчас только понял, как он ее любил. И болящую тоже. Печальницу. Советчицу. Что ж ты, Олена, не дотерпела, не порадовала со мной! И сын встретит, и дочери, и младшие сыновья, а ее не будет. И уже дом не в дом, и очаг не в очаг. Только заботы, и холод, и нескончаемые труды господарские, кои немочно бросить, ни свалить на иные плечи. Годы и годы труда, а зачем?
Близилась Москва. Близились торжества, колокольные звоны, встречи. Как выдержать, как вынести, как, Господи, не возроптать в этот час!
Встречали хорошо. Не было ложного горя, напоказ, не было и пустой радости. По тому уже, как подошел, как поклонился старик Протасий, понял, почувствовал: берегут. Стало немного легче. И когда сын, Симеон, бросился на грудь и вдруг разрыдался совсем по-детски – оттаял, отлегло от души. Есть все же и семья, и дом, и свои близкие, родные.
В церковь, к могиле, прошел один, никого не велев пускать за собою. Долго молился. Хотел заплакать – не было слез. Как она не поняла, как не сумела… Да что я! Говорила ведь, упреждала: «Не доживу!»
Коленями чувствуя холод камня, стоял, думал. Кинуть бы все! Или уж пождать было… Нет, не понимала она его и в смертный, последний час не поняла. Или не захотела понять?
«Что ж ты лежишь тут, под этою плитой, непредставимая уже, уже вся „там“ – в том мире, где дух наш пребывает бессмертно. И свидимся ли мы еще? Или „там“ уже и не узрим, и не узнаем друг друга, бо смертная плоть наша изгниет в земле? Или, как путники в краю далеком, что вопрошают друг друга, отвечая: „Я из такого-то села, а я из таковыя-то волости“ – и так познают ближних своих, – такожде и мы в мире ином вопрошая, спознаем сродников и любимых?
Сейчас, внимательнее вглядевшись вблизи в усталое лицо хана, Иван похвалил сам себя за то, что сообразил при известии о смерти Тимура, сына Узбекова, послать тотчас в Сарай соболезнования с поминками. И в летописании владычном отмечено о скорби хана – чтущий да разумеет!
Там, за стенами, мела ледяная поземка. Было холодно. Калите не было холодно в теплом русском платье, но он за Узбека чувствовал, как холодно, как не греют жаровни, как надоели жены, не радуют золото и шелка… Пили горячий мед. Шла осторожная цветистая беседа; наконец один из вельмож прошептал что-то на ухо хану. (Иван догадывал что. Вельможе тому было дано, и дано преизлиха даже!) И Узбек, змеистым извивом бровей и чуть заметным склонением головы показав, что услышал и понял, вопросил Ивана (и, вопросив, поднял чело, расправил плечи, в глазах зажглось грозно, и весь он стал как проснувшийся барс: властелин полумира, великий, славный, кесарь, царь царей, повелитель Руси):
– Просишь Владимир?!
– Александр Василич помре, теперь мочно и совокупить волость ту!
– Каждому свою отчину! – бросил Узбек почти сердито.
– Володимер преже всегда был в волости великого княжения! – возразил Калита, преданно глядя на хана. – По ряду, по обычаю так, от дедов-прадедов наших!
Узбек покачал головой.
– А ярлыки зачем покупал? Мало тебе Ростова? Теперь просишь Галич и Дмитров?
Узбек усмехнулся и вдруг, круто сведя брови, вскипел, вскинулся с подушек, пронзительно вперивши взгляд в Калиту, молвил с угрозою:
– Я тебе велел добыть коназа Александра! Ты не исполнил того! Ныне коназ Александр вновь сидит во Пскове! Что ты сделал, князь?! Почто молчишь? Отвечай!
– Царь-батюшка! Дак ить немочно! Всё Гедимин проклятый! Литва подвела! – возразил Калита и поглядел на Узбека таким бестрепетно-прозрачным взором, что Узбек, за миг до того почти привставший с подушек, вновь лениво и недовольно откинул стан, уселся, поерзал, отводя глаза.
– Я и то уж спас от беды, – прибавил Калита, слегка опуская взор долу. – Свово епископа прошали плесковичи, совсем отделитися чтоб… Не попустил Господь!
– Епископ, епископ… – пробормотал Узбек, – колдун… Где митрополит?!
– Едет, царь-батюшка! – готовно отозвался Калита.
– Едет…
Узбек вновь сгорбился, четче прорезались глубокие морщины щек.
– Во Пскове и всегда сидели твои коромольники, царь-батюшка! Галицкий князь Федор наместничал, сынок еговый и братец Борис Дмитровский, оба из руки Михайлы Ярославича, покойного супротивника твоего! Дак теперь вот и князя Александра Михалыча приняли! И волость-то Тверская еще за им, нать бы ее Костянтину…
– Крови хочешь, князь, – возразил Узбек, покачав головою, – мстить хочешь! Нехорошо! Не нада! («Не нада» прибавил по-русски, остро глянув опять в лицо Калите.)
Толмачи, тот и другой, засматривая в рот хану и Калите, переводили слово в слово. Иван, добре понимая речь татарскую, успевал, услыхав вопрос Узбека, еще и обдумать ответ, пока толмач переводил ему ханские слова.
– Ярлыки возьмешь, кто дань будет давать Орде? – спросил вдруг Узбек без связи с предыдущим.
– Великий князь владимирский! – готовно и сразу отозвался Иван. (Ростовские дани нынче были выплачены без задержек.)
– Ты лукавый, князь! – сказал Узбек и вновь покачал головой, как бы в раздумье. – Не знаю, стоит ли брать твое серебро, быть может, лучше взять твою голову, а, князь?
– Моя голова в твоей воле, царь! – отмолвил Калита, помолчав. – Только без меня ты и серебра не соберешь на Руси! Вернее меня нету у тебя слуг!
И – строго поглядел. И сейчас, в миг этот, был и вправду самым верным слугою Узбека. Только на миг. И хан опустил глаза, вздохнул, вымолвил нехотя:
– Знаю, князь! Испытать тебя захотел. Прости…
И вновь вскинулся на подушках, почти прокричав:
– Меня все обманывают! Льстят и лгут! Никто не говорит правды! Я казнил стародубского князя за ложь! Только за ложь!
Узбек раздул ноздри, вновь яростно вперил очи в Ивана:
– Вот, я взял сына ворога твоего, Нариманта Гедиминова! Что велишь делать с ним? Ты! Русский князь!
– Знаю, царь. Сам хотел прошать тебя: выкупить Нариманта, ежели примет святое крещение.
– Почто хочешь так? – удивился Узбек.
– Наша вера, государь, – возразил Калита серьезно и устало, – велит любить даже ворогов своих! Выкупая Нариманта, творю угодное Богу.
Узбек поглядел чуть подозрительно. Протянул не то с угрозою, не то удивленно:
– Смотри!
В этот миг Калита верил, свято верил, что только затем и выкупает Гедиминова сына, чтобы, окрестив его, сотворить милостыню Господню.
Узбек склонил голову, вновь постарел и померк, долго молчал, думал. Наконец поднял глаза, что-то решив про себя окончательно. Сказал устало:
– Ладно. Бери все великое княжение! – И добавил хмуро, словно бы спохватясь: – Дани задержишь – отберу.
Глава 25
Назад он ехал опустошенный. Хмуро подсчитывал протори и издержки ордынские. От подсчетов кружилась голова. Обросшие шерстью, отощавшие в пути, кони то и дело сбивались, дергали не в лад. Возок колыхало и било. Был март, и мокрый снег начинал налипать на полозья саней и проваливать под конским копытом. Он уже обогнал обозы, оставил тащиться назади, скакал в мале дружине: скорей, скорей, скорей! Что-то неясное гнало и торопило его воротить в Москву не стряпая. Странно, о жене он почти не думал тогда. Разбираясь сам в себе, находил одну причину для беспокойства – потраченное в Орде серебро, возместить коее было нечем и неоткуда. Ярлык при нем, во Владимир он пошлет своих бояр тотчас же, после того как Алабуга, посланный ханом, возведет его на стол. Но обирать владимирцев так, как он обобрал ростовчан, нельзя. Круг замыкался опять, и вновь все приходило к тому, что взять неоткуда и не с кого… Только с Новгорода! А значит, надо требовать с них серебра закамского! Ежели бы не селетошний пожар московский! Всё ить и рубили и созидали наново. Сколь погорело добра! Обилия мехов, портна, узорочья – о сю пору не сочесть!
Напоенные солнцем, еще оснеженные, еще дремлющие, но уже весенние, стояли боры, и синие тени от топких, смугло-розовых, палевых и бумажно-белых березок узорно чертили тяжелый, потерявший пушистую ласковость, оседающий на припеках снег.
Об Елене он вспомнил почитай уже под самым Владимиром. Подумал, что и как скажет ей, воротясь. С больною с ней стало трудно. Ну, хоть корить не начнет! Теперь и похвастать мочно: все великое княженье в руках! Жаль, Бяконт не дожил… Солнце почти пекло, снег оседал, орали птицы, призывно, нюхая воздух, ржали лошади. И он был великий князь, и шла весна, а радости не было. Была забота, еще большая теперь, чем допрежь того. И теперь можно было признаться, как он смертно устал в Орде на сей раз!
Когда его торжественно утверждали на столе во Владимире – епископ служил службу и Алабуга гортанно читал ханский указ, – он уже почти не понимал слов, почти не чуял смысла происходящего, и все кричало внутри него: торопись! Скорей отделаться от пиров, торжеств, от Алабуги и скакать – в снег, в дождь, в распуту, но только скорее домой!
Великая княгиня Елена умерла, не дождав Ивана всего за несколько дней. Перед смертью приняла постриг и схиму. Положили ее первого марта в церкви Спаса. Иван узнал об этом, уже подъезжая к Переяславлю.
Повестили – и в первый миг словно свет померк, и некуда стало спешить. Сидел на подушках, прикрыв глаза, безотчетно отдаваясь колыханью и тряске возка. Не дожила… Не дождалась… Почти враждебное чувство, детская нелепая обида переполняли его всего. Не дожила! Не дождалась! Сейчас только понял, как он ее любил. И болящую тоже. Печальницу. Советчицу. Что ж ты, Олена, не дотерпела, не порадовала со мной! И сын встретит, и дочери, и младшие сыновья, а ее не будет. И уже дом не в дом, и очаг не в очаг. Только заботы, и холод, и нескончаемые труды господарские, кои немочно бросить, ни свалить на иные плечи. Годы и годы труда, а зачем?
Близилась Москва. Близились торжества, колокольные звоны, встречи. Как выдержать, как вынести, как, Господи, не возроптать в этот час!
Встречали хорошо. Не было ложного горя, напоказ, не было и пустой радости. По тому уже, как подошел, как поклонился старик Протасий, понял, почувствовал: берегут. Стало немного легче. И когда сын, Симеон, бросился на грудь и вдруг разрыдался совсем по-детски – оттаял, отлегло от души. Есть все же и семья, и дом, и свои близкие, родные.
В церковь, к могиле, прошел один, никого не велев пускать за собою. Долго молился. Хотел заплакать – не было слез. Как она не поняла, как не сумела… Да что я! Говорила ведь, упреждала: «Не доживу!»
Коленями чувствуя холод камня, стоял, думал. Кинуть бы все! Или уж пождать было… Нет, не понимала она его и в смертный, последний час не поняла. Или не захотела понять?
«Что ж ты лежишь тут, под этою плитой, непредставимая уже, уже вся „там“ – в том мире, где дух наш пребывает бессмертно. И свидимся ли мы еще? Или „там“ уже и не узрим, и не узнаем друг друга, бо смертная плоть наша изгниет в земле? Или, как путники в краю далеком, что вопрошают друг друга, отвечая: „Я из такого-то села, а я из таковыя-то волости“ – и так познают ближних своих, – такожде и мы в мире ином вопрошая, спознаем сродников и любимых?