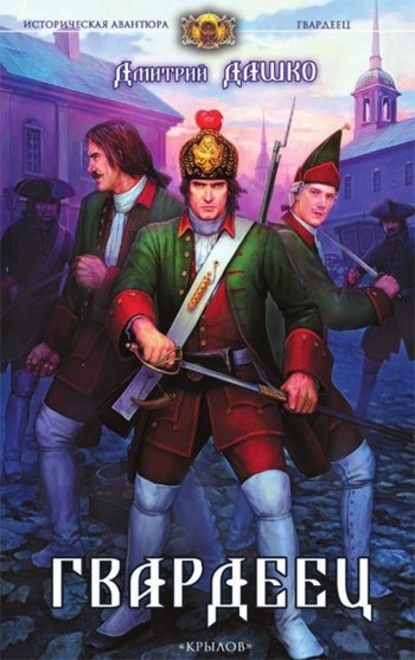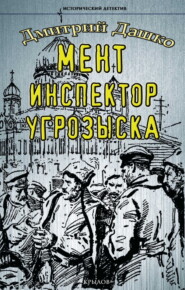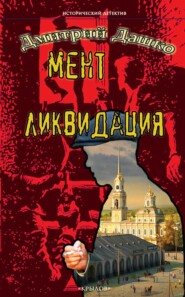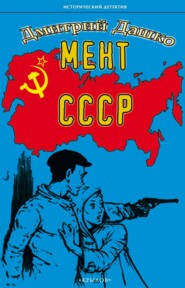По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Гвардеец
Автор
Серия
Год написания книги
2010
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Все, что угодно. Дуэли здесь еще не получили такого распространения, как в Европе. Дворяне сводят счеты другим способом. Самый распространенный – подкараулить, навалиться большим числом и избить до полусмерти. Те, что побогаче, нанимают убийц. Есть такие, что не брезгуют клеветой и наветами, но это на крайний случай. В Тайной канцелярии умеют отличать ложь от правды. Поверьте, тому, кто заявит, придется не сладко. Но, – многозначительно произнес он, – расслабляться в любом случае не стоит.
– Вы можете вытащить меня из тюрьмы? – с надеждой спросил я.
– Увы, – вздохнул гость. – Рад бы, но это не в моей власти. Более того, скоро нам придется проститься, ибо я не могу долго находиться в этом хронопотоке. Мое состояние слишком нестабильное.
– Но что мне может помочь?
– Попробуйте сыграть на том, свидетелем и непосредственным участником чего вы стали, – посоветовал Кирилл Романович.
– Имеете в виду нападение на Месснера?
– Да. Поручик был доверенным лицом Миниха. Он состоял в так называемом «безвестном карауле», занимавшемся слежкой за Елизаветой Петровной. Месснеру удалось узнать важную информацию, он собрался доставить ее патрону, но люди Лестока устроили засаду. Остальное произошло на ваших глазах.
– Каким образом это можно использовать? – заинтересовался я.
– Не знаю, – вздохнул гость. – Но это все, чем могу помочь. Придумайте что-нибудь, Игорь Николаевич. Вы умный человек… – Он помялся и наконец выдавил: – Очень жаль: мое время истекло. Я больше не могу здесь находиться. Хорошо было с вами, но, увы…
– Мы увидимся? – спросил я.
– Все может быть, Игорь Николаевич. Желаю успеха! Прощайте!
– До свидания, Кирилл Романович, – поправил я.
Он внимательно всмотрелся в меня и неожиданно крепко стиснул мою руку:
– Вы правы, до свидания.
Гость дунул на свечку, и, как только наступила темнота, стало ясно – в камере его больше нет. Исчез – испарился, и все.
Кстати, забыл спросить: а елизаветинский переворот – не их ли рук дело? Ну да уже поздно, Кирилл Романович умчался в другое измерение, оставив меня одного. Я кое-как устроился и заснул. Сон был зыбким, грезилась разная ерунда: школьные годы; коммуналка, в которой мы раньше жили; женщина, очень добрая, излучающая добро и уют, она произносила ласковые успокаивающие слова, а сердце мое переполнялось нежностью.
«Мама», – всплыла подсказка в памяти.
Но она не была моей матерью. Я впервые видел эту женщину, однако откуда во мне столько чувств? Может, она – мама Дитриха? Кирилл Романович говорил, что душа погибшего немца отставила отпечаток в теле. Тогда чем все закончится? Не начнется ли шизофрения? Каким образом я смогу отличить свои мысли от тех, что могут принадлежать Дитриху? Нет, хватит. Так и на самом деле чокнуться можно.
С такими мыслями я проснулся, трясясь от холода. Да и есть хотелось со страшной силой, во рту давно уже ни крошки не было. Но никто не спешил включать обогреватель и не нес чашечку утреннего кофе. До меня никому не было дела.
Чтобы размять занемевшие мышцы, стал приседать, стараясь не стукнуться о потолок. Покачал пресс, отжался. Кровь забурлила. Жить стало лучше, жить стало веселей. Если б еще голодный желудок не бурчал.
Интересно, где Карл, чем сейчас занимается? Сидит в одиночке или в общей камере, «наслаждаясь» сомнительным обществом?
В коридоре загромыхало. Это ко мне? Я приподнялся и присел на лежанке, дверь отворилась.
– Выходи на допрос.
Суровый голос хорошо вязался с широкоплечей, будто вырубленной из камня фигурой тюремщика.
Понятно, завтрак откладывается. Произнесенная в уме шутка – глупая, но необходимая: я старался приободрить себя, чтобы охватившее уныние не было слишком заметно. Чего-то хорошего от допроса в Тайной канцелярии ждать не стоит. Это заведение спустя без малого триста лет оставило дурную память. Репутация как у НКВД, КГБ, Моссада и ЦРУ, вместе взятых. Хотя… может, у страха глаза велики. Авось что-то удастся придумать.
Собственно, в чем моя вина? Да, убил Звонарского и его лакея, но они явно занимались неблаговидными делами. По сути, это была вынужденная самооборона – защищался, как мог. К тому же я вроде как считаюсь иностранным подданным. Вдруг допрашивать меня можно лишь в присутствии посла? Хотя этот вариант кажется слишком сомнительным. Тайная канцелярия вряд ли заморачивалась такими пустяками.
Ой, кстати, а чье у меня подданство? Кирилл Романович сказал, что Дитрих был курляндцем. Из обрывочных знаний по курсу школьной истории помню, что Курляндией называлась часть нынешней Латвии со столицей в Митаве, номинально принадлежавшая Польше. Что самое интересное – хоть и плачутся нынешние прибалты о временах Советского Союза, но настоящую оккупацию они заимели как раз в те годы. Практически вся верхушка – немецкая, свою линию – жесткую, да что там говорить, жестокую – немцы гнуть умели. Латышам жилось тяжко.
Навстречу двое солдат за руки протащили стонущего человека с голой спиной, покрытой ужасными язвами. Явственно послышался запах горелого мяса. Я отвернулся, не в силах глядеть на отвратительное зрелище. Сразу бросило в жар. Пытка здесь явление обыденное, применяется и к правым и к виноватым. Где гарантия, что не наговорю лишнего, за что можно распроститься жизнью? Я, конечно, парень крепкий, но у всех есть предел. Опытный палач развяжет язык даже немому.
В животе разом потяжелело.
Меня ввели в небольшую комнату, поставили лицом к окну. Свет сразу ударил в глаза. После темноты одиночки солнечные лучи палили, будто лазерные пушки. Конвойный солдаты замерли как истуканы, прижав мушкеты к ногам.
Я увидел за столом Фалалеева вместе с худощавым мужчиной, который обмакнул гусиное перо в чернильницу и приготовился писать в толстой книге, похожей на амбарную. Понятно, первый – следователь, второй – писец. Сбоку загремел инструментом палач – дородный, в кожаном фартуке; другой – в ярко-красной поддевке, с прической горшком – ему ассистировал.
– Ступайте, – приказал Фалалеев солдатам.
Те развернулись и покинули помещение. Почему-то без них стало еще страшнее.
– Приступим к роспросу, – сказал Фалалеев. – Помни, что ложное слово твое будет противу тебя же обращено. Клянись, что не прозвучит здесь от тебя ни единой кривды.
– Клянусь.
– Знай, что целью нашей является возбудить в преступнике раскаяние и истинное признание, за что ждать тебя награда может милостию императрицы нашей Анны Иоанновны.
Ага, щаз, ищите дурака в другом месте. Надо быть полным идиотом, чтобы взвалить всю вину на себя на первом же допросе. Нет, я еще побрыкаюсь.
Фалалеев продолжил:
– Ежели будешь строптивым и непокорным – учти: за утаение малейшей вины – жестокое и примерное наказание, как за величайшее злодеяние. Укрывательство с твоей стороны будет тщетным, ибо правда нам всея известна! – Он потряс листами бумаги.
Я понял, что это отчеты Борецкого и его начальника. Буду рассчитывать, что ничего лишнего они не написали.
– Признаешься ты?
– Мне не в чем сознаваться. Моя совесть чиста, – спокойно произнес я.
Фалалеев скрестил руки на груди и задумался. У меня сложилось впечатление, что к допросу он не готовился, да и рассеянный взгляд наводил на мысль о том, что чиновник не так давно успел приложиться к бутылке.
– Что писать? – подал голос писец, которому надоело ждать, когда «шеф» очнется.
– Пиши, что увещевание не понял, – вяло откликнулся чиновник.
Писец бегло застрочил.
– Говори, кто таков, каких чинов, откуда будешь и веры какой? – опомнился Фалалеев.
Понятно, началась рутина. В принципе, ничего страшного на данном этапе нет, главное, не сболтнуть лишнего.
– Барон курляндский, Дитер фон Гофен, вера моя… – Я стал вспоминать, кем могли быть прибалтийские немцы. Понятно, что христиане, но какие именно? Так, католики отпадают, православные тем более… Рискну. – Лютеранская, – добавил я, надеясь, что заминка с ответом получилась незначительной.
Чиновник удовлетворенно кивнул, писец старательно заскрипел пером.
– Вы можете вытащить меня из тюрьмы? – с надеждой спросил я.
– Увы, – вздохнул гость. – Рад бы, но это не в моей власти. Более того, скоро нам придется проститься, ибо я не могу долго находиться в этом хронопотоке. Мое состояние слишком нестабильное.
– Но что мне может помочь?
– Попробуйте сыграть на том, свидетелем и непосредственным участником чего вы стали, – посоветовал Кирилл Романович.
– Имеете в виду нападение на Месснера?
– Да. Поручик был доверенным лицом Миниха. Он состоял в так называемом «безвестном карауле», занимавшемся слежкой за Елизаветой Петровной. Месснеру удалось узнать важную информацию, он собрался доставить ее патрону, но люди Лестока устроили засаду. Остальное произошло на ваших глазах.
– Каким образом это можно использовать? – заинтересовался я.
– Не знаю, – вздохнул гость. – Но это все, чем могу помочь. Придумайте что-нибудь, Игорь Николаевич. Вы умный человек… – Он помялся и наконец выдавил: – Очень жаль: мое время истекло. Я больше не могу здесь находиться. Хорошо было с вами, но, увы…
– Мы увидимся? – спросил я.
– Все может быть, Игорь Николаевич. Желаю успеха! Прощайте!
– До свидания, Кирилл Романович, – поправил я.
Он внимательно всмотрелся в меня и неожиданно крепко стиснул мою руку:
– Вы правы, до свидания.
Гость дунул на свечку, и, как только наступила темнота, стало ясно – в камере его больше нет. Исчез – испарился, и все.
Кстати, забыл спросить: а елизаветинский переворот – не их ли рук дело? Ну да уже поздно, Кирилл Романович умчался в другое измерение, оставив меня одного. Я кое-как устроился и заснул. Сон был зыбким, грезилась разная ерунда: школьные годы; коммуналка, в которой мы раньше жили; женщина, очень добрая, излучающая добро и уют, она произносила ласковые успокаивающие слова, а сердце мое переполнялось нежностью.
«Мама», – всплыла подсказка в памяти.
Но она не была моей матерью. Я впервые видел эту женщину, однако откуда во мне столько чувств? Может, она – мама Дитриха? Кирилл Романович говорил, что душа погибшего немца отставила отпечаток в теле. Тогда чем все закончится? Не начнется ли шизофрения? Каким образом я смогу отличить свои мысли от тех, что могут принадлежать Дитриху? Нет, хватит. Так и на самом деле чокнуться можно.
С такими мыслями я проснулся, трясясь от холода. Да и есть хотелось со страшной силой, во рту давно уже ни крошки не было. Но никто не спешил включать обогреватель и не нес чашечку утреннего кофе. До меня никому не было дела.
Чтобы размять занемевшие мышцы, стал приседать, стараясь не стукнуться о потолок. Покачал пресс, отжался. Кровь забурлила. Жить стало лучше, жить стало веселей. Если б еще голодный желудок не бурчал.
Интересно, где Карл, чем сейчас занимается? Сидит в одиночке или в общей камере, «наслаждаясь» сомнительным обществом?
В коридоре загромыхало. Это ко мне? Я приподнялся и присел на лежанке, дверь отворилась.
– Выходи на допрос.
Суровый голос хорошо вязался с широкоплечей, будто вырубленной из камня фигурой тюремщика.
Понятно, завтрак откладывается. Произнесенная в уме шутка – глупая, но необходимая: я старался приободрить себя, чтобы охватившее уныние не было слишком заметно. Чего-то хорошего от допроса в Тайной канцелярии ждать не стоит. Это заведение спустя без малого триста лет оставило дурную память. Репутация как у НКВД, КГБ, Моссада и ЦРУ, вместе взятых. Хотя… может, у страха глаза велики. Авось что-то удастся придумать.
Собственно, в чем моя вина? Да, убил Звонарского и его лакея, но они явно занимались неблаговидными делами. По сути, это была вынужденная самооборона – защищался, как мог. К тому же я вроде как считаюсь иностранным подданным. Вдруг допрашивать меня можно лишь в присутствии посла? Хотя этот вариант кажется слишком сомнительным. Тайная канцелярия вряд ли заморачивалась такими пустяками.
Ой, кстати, а чье у меня подданство? Кирилл Романович сказал, что Дитрих был курляндцем. Из обрывочных знаний по курсу школьной истории помню, что Курляндией называлась часть нынешней Латвии со столицей в Митаве, номинально принадлежавшая Польше. Что самое интересное – хоть и плачутся нынешние прибалты о временах Советского Союза, но настоящую оккупацию они заимели как раз в те годы. Практически вся верхушка – немецкая, свою линию – жесткую, да что там говорить, жестокую – немцы гнуть умели. Латышам жилось тяжко.
Навстречу двое солдат за руки протащили стонущего человека с голой спиной, покрытой ужасными язвами. Явственно послышался запах горелого мяса. Я отвернулся, не в силах глядеть на отвратительное зрелище. Сразу бросило в жар. Пытка здесь явление обыденное, применяется и к правым и к виноватым. Где гарантия, что не наговорю лишнего, за что можно распроститься жизнью? Я, конечно, парень крепкий, но у всех есть предел. Опытный палач развяжет язык даже немому.
В животе разом потяжелело.
Меня ввели в небольшую комнату, поставили лицом к окну. Свет сразу ударил в глаза. После темноты одиночки солнечные лучи палили, будто лазерные пушки. Конвойный солдаты замерли как истуканы, прижав мушкеты к ногам.
Я увидел за столом Фалалеева вместе с худощавым мужчиной, который обмакнул гусиное перо в чернильницу и приготовился писать в толстой книге, похожей на амбарную. Понятно, первый – следователь, второй – писец. Сбоку загремел инструментом палач – дородный, в кожаном фартуке; другой – в ярко-красной поддевке, с прической горшком – ему ассистировал.
– Ступайте, – приказал Фалалеев солдатам.
Те развернулись и покинули помещение. Почему-то без них стало еще страшнее.
– Приступим к роспросу, – сказал Фалалеев. – Помни, что ложное слово твое будет противу тебя же обращено. Клянись, что не прозвучит здесь от тебя ни единой кривды.
– Клянусь.
– Знай, что целью нашей является возбудить в преступнике раскаяние и истинное признание, за что ждать тебя награда может милостию императрицы нашей Анны Иоанновны.
Ага, щаз, ищите дурака в другом месте. Надо быть полным идиотом, чтобы взвалить всю вину на себя на первом же допросе. Нет, я еще побрыкаюсь.
Фалалеев продолжил:
– Ежели будешь строптивым и непокорным – учти: за утаение малейшей вины – жестокое и примерное наказание, как за величайшее злодеяние. Укрывательство с твоей стороны будет тщетным, ибо правда нам всея известна! – Он потряс листами бумаги.
Я понял, что это отчеты Борецкого и его начальника. Буду рассчитывать, что ничего лишнего они не написали.
– Признаешься ты?
– Мне не в чем сознаваться. Моя совесть чиста, – спокойно произнес я.
Фалалеев скрестил руки на груди и задумался. У меня сложилось впечатление, что к допросу он не готовился, да и рассеянный взгляд наводил на мысль о том, что чиновник не так давно успел приложиться к бутылке.
– Что писать? – подал голос писец, которому надоело ждать, когда «шеф» очнется.
– Пиши, что увещевание не понял, – вяло откликнулся чиновник.
Писец бегло застрочил.
– Говори, кто таков, каких чинов, откуда будешь и веры какой? – опомнился Фалалеев.
Понятно, началась рутина. В принципе, ничего страшного на данном этапе нет, главное, не сболтнуть лишнего.
– Барон курляндский, Дитер фон Гофен, вера моя… – Я стал вспоминать, кем могли быть прибалтийские немцы. Понятно, что христиане, но какие именно? Так, католики отпадают, православные тем более… Рискну. – Лютеранская, – добавил я, надеясь, что заминка с ответом получилась незначительной.
Чиновник удовлетворенно кивнул, писец старательно заскрипел пером.