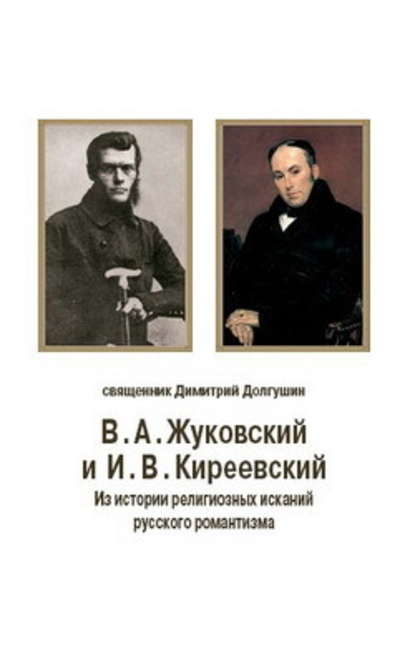По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
В. А. Жуковский и И. В. Киреевский: Из истории религиозных исканий русского романтизма
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Что делает Иван? Боюсь, что он ничего не делает, а это никуда не годится. Его неудача журнальная не может служить ему оправданием, она может быть только разве придиркой для его лени. Петр когда-то говорил мне о намерении переводить Шекспира: вот дело на целую жизнь, и какая была бы услуга для русского языка. Для чего бы и Ивану не выдумать себе подобной работы? Да и не все же работать для печати. Работай для того, чтобы душа созревала и не мелела [УС, 55].
То же советовал Киреевскому и Е. А. Баратынский:
Что делать! Будем мыслить в молчании и оставим литературное поприще Полевым и Булгариным [Баратынский, 238].
Виланд, кажется, говорил, что ежели б он жил на необитаемом острове, он с таким же тщанием отделывал бы свои стихи, как в кругу любителей литературы. Надобно нам доказать, что Виланд говорил от сердца. Россия для нас необитаема, и наш бескорыстный труд докажет высокую моральность мышления [Баратынский, 244–245].
Киреевский постарался, по возможности, следовать этим советам. В хозяйство он не зарылся и даже не поехал с родными на лето на дачу в Ильинское. Заменой журнальной деятельности становится для него интенсивная переписка с Баратынским. Здесь он развивает темы, при более благоприятных обстоятельствах, несомненно, ставшие бы предметом литературно-критических статей в «Европейце»: о «новой басне», о поэзии Гюго и Барбье (см. [Баратынский]).
Летом 1832 г. из заграничного путешествия возвращается А. И. Кошелев, и Киреевский вместе с В. Ф. Одоевским в сентябре гостит у него на даче. Общение со старыми друзьями еще более ободряет и утешает его. В письме от 17 сентября 1832 г., посланном Киреевским Кошелеву из Москвы, нет уже и следов уныния. Три друга, собравшиеся вместе за столом – счастливое предзнаменование, пишет Киреевский. Он с увлечением собирает материал для начатой Кошелевым работы по философии (наброски, очевидно, этого труда имеются среди писем Кошелева Киреевскому, хранящихся в РГАЛИ) и сам собирается приняться за труды. «Потому пиши, я буду делать то же, и потом посмотрим», – призывает он Кошелева. Это письмо проникнуто такой же ясной надеждой на будущее, как и письма Киреевского 1820-х годов. «17 сентября, день Веры, Надежды, Любви и Софии» – заключительная его строка звучит как программа действий и указание образа предлежащего пути [Киреевский, II, 226].
В октябре 1832 г. в Москву приехал Н. В. Гоголь. Он тоже не заметил в Киреевском следов уныния, напротив, жаловался П. А. Плетневу, «что Киреевский при его прекрасном уме слишком рассеянно, слишком светски проводит время». Очевидно, это была их первая встреча. В целом, Киреевский произвел на Гоголя выгодное впечатление. Гоголь, по выражению П. А. Плетнева, не мог им нахвалиться, а 28 сентября 1833 г. писал М. П. Погодину: «Кланяйся особенно Киреевскому, вспоминает ли он обо мне? Скажи ему, что я очень часто об нем думаю, и эти мысли мне почти так же приятны, как о тебе и о родине» [Гоголь 1988,1, 348].
В феврале 1833 г. в Москве по инициативе Н. А. Мельгунова стал «затеваться» альманах «Шахерезада». Среди других писателей пушкинского круга участвовать в нем собирался и Киреевский. Это издание осталось неосуществленным, зато летом 1833 г. Киреевский принялся за статью о воспитании женщин, которую намеревался окончить к октябрю и опубликовать под своим именем (очевидно, в альманахе А. П. Зонтаг – в нем в конечном итоге и появилось письмо Киреевского «О русских писательницах», помеченное 10 декабря 1833 г., правда, без подписи автора), и сообщил Баратынскому, что он «хочет усердно работать пером» [Баратынский, 248]. В 3 и 4 номерах «Телескопа» за 1834 г. появились две заметки Киреевского «О стихотворениях г. Языкова«. Как видим, можно согласиться с В. А. Котельниковым, что «катастрофа с журналом <…> не привела Киреевского к духовной замкнутости (которую предрекал Жуковский[64 - Имеется в виду письмо Жуковского императору Николаю [Гиллельсон, 120–122].]), к свертыванию литературно– философских замыслов, к угасанию публицистической активности» [Киреевский 1984, 23].
Глава 6. В. А. Жуковский и И. В. Киреевский в 1830-е годы
В 1834 г. произошло событие, которое стало для дальнейшей жизни Киреевского решающим: он женился на Н. П. Арбеневой. Его невеста была дочерью той самой А. Н. Арбеневой, которую Жуковский (а вместе с ним и А. П. Елагина) одно время[65 - В 1818 г., когда их отношения перекипели он называет ее уже «милым товарищем старины». Об отношениях поэта с А. Н. Арбеневой см. с. 89.] считал причиной своих несчастий в истории со сватовством к Маше Протасовой.
В 1829 г. Киреевский пытался свататься к Наталье Петровне, и с ним повторилась история Жуковского: он получил отказ по причине родства (Иван Васильевич и Наталья Петровна были троюродными братом и сестрой[66 - Их бабушки – Наталья Афанасьевна Вельяминова и Варвара Афанасьевна Юшкова были родными сестрами.], но церковно-каноническая ситуация здесь иная, чем у Жуковского с Машей – подобные браки по благословению архиерея совершаются, такая же степень родства была между Авдотьей Петровной и ее вторым мужем А. А. Елагиным).
Мать Киреевского была категорически против этого брака, поскольку считала Н. П. Арбеневу холодной и умной кокеткой. В своих письмах сыну она уговаривала забыть ее, но Киреевский был вовсе не расположен к этому. «Одно место в вашем письме было мне особенно тяжело. Вы его знаете. Всего тяжелее видеть вас способною к несправедливости, вас!» [РА 1906, кн. 3, 286] – писал он матери из Петербурга в 1830 г. Можно не сомневаться, что это место было о Н. П. Арбеневой.
Обстоятельства неудавшегося сватовства Авдотья Петровна изложила в письме Жуковскому от 21 сентября 1829 г., и, кажется, он принял ее точку зрения. По крайней мере, во время пребывания Киреевского в Петербурге в январе 1830 г. поэт решился однажды завести разговор о кокетстве и высказал следующую сентенцию: «без веры нет любви; можно любить кокетку, но долго любить ее нельзя, ибо сердце (если оно подлинно сердце) не верит ей, хотя и льнет к ней; но оно скоро и отпадет от нее» [УС, 50]. Киреевский не спорил, но, конечно, вряд ли соглашался с тем, что его возлюбленная – кокетка.
В 1831 г. все переменилось: умерла А. Н. Арбенева, и Наталья Петровна осталась сиротой. Жуковский всерьез обеспокоился ее судьбою. Во время пребывания в Москве осенью 1831 г. он не только говорил о ней с Авдотьей Петровной, но, видимо, и хлопотал за нее у императрицы (см. [ПССиП, XIII, 318]). После смерти матери Наталья Петровна поселилась у своей замужней сестры М. П. Норовой, однако отношения с ее мужем, В. А. Норовым, не складывались. В ноябре 1832 г. Жуковский сообщал А. П. Елагиной: «Я получил (между нами) письмо от Наташи Арбеневой, которая, кажется мне, терпит большие неприятности от Норова. Не говорите, прошу вас, об этом никому, дабы не произвести между ними большей распри, но осведомьтесь и уведомьте меня о ее положении» [УС, 55–56]. «Неприятности» скоро заставили Наталью Петровну уйти от Норова, но теперь Авдотья Петровна, переменив мнение о ней, приняла ее под свое покровительство.
Объяснение между Иваном Васильевичем и Натальей Петровной произошло на именинах А. П. Елагиной. Вот как она рассказывала об этом в письме Жуковскому 6 марта 1834 г.
Милый брат, благословите Ивана и Наташу. – Весь пятилетний оплот недоразумений, разлуки, благоразумия и пр. распался от одного взгляда. 1-го марта после 5 лет разлуки он увидел ее в первый раз; часа два глядел издали, окруженный чужими гостями, и как она встала ехать, повлекся какой-то невидимой силой, и на крыльце объяснились одним словом, одним взглядом. – На другое утро привел мне благословить дочь [УС, 50].
Венчание было назначено на ближайший возможный день – Фомино воскресенье, попавшее в том году на 29 апреля. Киреевский был счастлив. «Щастье! это слово, от которого я было отвык, и которое вдруг воскресло для меня с полным, глубоким смыслом» [Киреевский, II, 228], – писал он А. А. Елагину, испрашивая его благословения на брак. П. В. Киреевский приглашал H. М. Языкова поспешить в Москву, «чтобы только видеть счастливым такого человека, как брат: такое это странное и вместе поэтическое явление» [Киреевский П. В. 1935, 66].
Посаженным отцом на свадьбе был Жуковский, но заочно. В самый день венчания он писал новобрачным:
Милые друзья Иван Васильевич и Наталья Петровна.
Теперь утро 29 апреля: переношусь мысленно к вам, провожаю вас в церковь, занимаю данное мне место отца и от всего сердца прошу вам от Бога мирного, постоянного, домашнего счастия, которое, несмотря на необходимый примес печалий, все-таки останется счастием, если будет взаимное согласие чувств и мыслей. Сохрани вам Бог это согласие, этот необходимый для дыхания, необходимый для душевного здоровья воздух домашней жизни, все остальное найдется само, как скоро будет это главное, лучшее благо. И я уверен, что оно будет [VI] [Жуковский – Киреевскому, л. 9][67 - Это письмо опубликовано в альманахе «День поэзии» [День поэзии, 70] с неточностями, поэтому приводим его текст по рукописи. По-видимому, ответом на него является письмо Н. П. Киреевской, хранящееся в РГБ: «Несравненный Василий Андреевич!Примите душевную мою благодарность за Ваше о нас попечительное участие, наставления, ласку и снисхождение! все, все ценю в полной мере! и всем полезнейшим советам Вашим непременно последую! – Истинно боготворю Вас! и в Вас вижу единственного нашего благодетеля!.. Как горестно сказать Вам прости – на неопределенное время. От души желаю Вам всего лучшего и совершенного здоровья, прошу Вас, сохраните к нам чувства ангельской доброты Вашей и не забудьтедушею и сердцемВашу Наташу.Вера просит Вашего воспоминания!Прощайте! Несравненный ангел мой» [Киреевская Н. П. – Жуковскому, л. 1].].
Заботы Жуковского о семье И. В. Киреевского не закончились этим благопожеланием. Поэт стал и для нее таким же, по выражению Киреевского, «гением-хранителем», каким был для семьи Авдотьи Петровны.
Уже первое письмо, написанное И. В. Киреевским своему «другу-отцу» после венчания, содержит просьбу:
Я хотел написать к Вам много, и потому откладывал, ожидая хорошего часа, и теперь, вместо выражения моих чувств, вместо этого гимна щастия, который был бы Вам гимном благодарности; я должен первое слово мое к Вам начать просьбою» [Киреевский – Жуковскому, л. 12].
Дальше следует изложение сути дела – речь шла о том, чтобы помочь одному из директоров Воспитательного дома, благодетелю Н. П. Киреевской, И. И. Клаузену. И это была, конечно, не единственная просьба и не единственный случай, когда Киреевские нуждались в покровительстве Жуковского[68 - Через 4 года, летом 1838 г. Клаузен скончался. Сообщая об этом А. П. Елагиной, Киреевский писал о нем так: «Это был может быть единственный пример совершенно чистой честности, со всеми ее прекрасными убеждениями и даже суевериями» [Киреевский – Елагиной 30, л. 17].].
Так, в 1835 г. они, видимо, имели какие-то неприятности от местных властей и, вероятно, поэт хлопотал за них. Во всяком случае, весной 1835 г.[69 - В дореволюционных, а вслед за ними и в современных изданиях, это письмо предположительно датируется 1836 г. Между тем, датировка его должна основываться на времени посещения Авдотьей Петровной Петербурга по пути в Германию – май 1835 г.] И.В. Киреевский просил мать:
Поблагодарите хорошенько нашего доброго Жуковского. Стало быть и здесь, между собак, карт, лошадей и исправников, можно жить независимо и спокойно под крылом этого гения-хранителя нашей семьи. Пожалуйста, напишите об нем побольше, его слов, его мнений, всего, куда брызнет его душа… [Киреевский, II, 228].
Киреевский обращался с такой просьбой, поскольку знал, что Авдотья Петровна должна вскоре увидеться с Жуковским: вместе с М. В. Киреевской она ехала на лечение в Германию и проездом собиралась остановиться в Петербурге, где в то время жил поэт.
В столицу они прибыли около 12 мая 1835 г. Жуковский в это время находился в Царском Селе, но В. Ф. Одоевский послал к нему, и поэт поспешил приехать, чтобы повидаться с путешественницами. 21 мая 1835 г. М. В. Киреевская рассказывала в письме брату Ивану, что они с маменькой провели несколько вечеров очень приятно у Жуковского и Одоевского, «особенно у Жуковского».
В Воскресенье поутру мы были с Жук<овским> в Академии, видели картину Брюллова. Вечер же мы провели у Ж<уковского>, там было очень много; между прочими Вяземский, только что воротившийся, и который с участием расспрашивал о вас; еще Крылов, который мне очень понравился своею простотою [Киреевская М. В., л. 29 об.].
А. П. Елагина также рассказывала в письмах старшему сыну о своих впечатлениях от петербургских встреч с Жуковским, который уделил ей много внимания [Елагина].
В Петербург приехал и Петр Киреевский, собравшийся путешествовать вместе с маменькой и сестрой. Выехать из столицы одновременно с ними он не смог: задерживалось оформление поездки. В результате у него появилось время посмотреть Петербург, повидать Жуковского, В. Ф. Одоевского, А. С. Пушкина, А. В. Веневитинова, П. А. Вяземского, С. А. Соболевского, В. П. Титова и порадоваться, как они любят его старшего брата [Киреевский П. В. Письма, л. 24]. К Жуковскому у него было от Ивана Васильевича поручение – очевидно, попросить прощения за то, что поэта не известили о рождении первенца Киреевских – Васи[70 - Несмотря на это, 9 мая 1835 г. Жуковский поздравлял Киреевских: «Что делают наши отец и мать? Обними их за меня хорошенько и с новорожденным младенцем» [УС, 57], – просил он А.П. Елагину.]. Исполнив эту просьбу, Петр сообщал И. В. Киреевскому:
Жуковский на тебя не сердится нисколько; но сердится на Наташу. Вот слова его, которые он сказал, как я говорил, при первом свидании, <брат>, что вы поручали мне: «На Ивана я и не думал сердиться; я довольно его знаю, и может быть сам на его месте был бы виноват в том же, но что жена его ко мне не писала, это, признаюсь, меня удивило, потому что я знаю, что она, бывало, любила писать». – Из этого ты видишь, что вам обоим писать необходимо [Киреевский П. В. Письма, л. 24].
Через десять дней П. В. Киреевский опять успокаивает брата насчет Жуковского: «Ты, кажется, думаешь, что он в чем-нибудь к тебе переменился: всякое слово его об тебе полно любви» [Киреевский П. В. Письма, л. 21 об.].
1835, 1836 и 1837 годы проходят для Киреевского в хозяйственных хлопотах. Ивану Васильевичу приходится осваиваться с ролью помещика. В это время он покупает с аукциона лошадей гр. Орловой и устраивает у себя конный завод. «Теперь мое главное занятие – хозяйство» [Киреевский, I, 64], – сообщает он в письме H. М. Языкову 4 июня 1836 г. О том, как не приспособлен был Киреевский к подобным занятиям, и в частности, к роли коннозаводчика, пишет в «Былом и думах» А. И. Герцен:
Чтобы дать понятие о хозяйственной философии его, я расскажу следующий анекдот. У него был конский завод, лошадей приводили в Москву, делали им оценку и продавали.
Однажды является к нему молодой офицер покупать лошадь, конь сильно ему приглянулся; кучер, видя это, набавил цену, они поторговались, офицер согласился и взошел к Киреевскому. Киреевский, получая деньги, справился в списке и заметил офицеру, что лошадь оценена в восемьсот рублей, а не в тысячу, что кучер, вероятно, ошибся. Это так озадачило кавалериста, что он попросил позволения снова осмотреть лошадь и, осмотревши, отказался, говоря: «Хороша должна быть лошадь, за которую хозяину было совестно деньги взять»… [Герцен, IX, 168].
В 1836 г. у Елагиных-Киреевских начался семейный раздел. Он стал для них причиной череды семейных неприятностей. В завязавшемся узле взаимных обид и противоречий было трудно разобраться. Часть родственников винила в них Н. П. Киреевскую, другая – А. А. Елагина. Отношения с ним несколько раз оказывались на грани разрыва. В результате постоянных сцен жизнь в Петрищеве, где жил А. А. Елагин, превращалась, по выражению Петра Киреевского, в «Петрищевскую муку». В одном из писем М. В. Киреевская сообщала старшему брату:
Нам очень тяжело. Почти теряем надежду перекричать Ал<ексея> Анд<реевича> <…> Какое наше неловкое, фальшивое положение. Разумеется, тебе тяжелее всех, друг наш Ваня, я очень удивляюсь твоему высокому молчанию. <Не знаю, хорошо ли нам позволять тебе это самоотвержение>. Мне кажется, что по крайней мере Жуков<ский>, мнение которого дороже остального мира, он по крайней мере, должен знать всю чистую истину, и не обвинять тебя вместе с другими» [Елагина, л. 30 об.].
И. В. Киреевскому было тяжелее всех, а положение его в отношении А. А. Елагина было самым неловким, потому что ему по разделу досталась лучшая часть имения – Долбино и еще семь деревень с почти что пятьюстами душами крепостных (см. [Лазарева, XLI]), а Алексей Андреевич чувствовал себя обделенным.
Жуковский посетил Елагиных в 1837 г., приехав в родные места в свите путешествующего по России наследника престола. В Петрищеве и Белеве он долго разговаривал с И. В. Киреевским. Об этих беседах Жуковский сделал записи в дневнике. Говорили о брате Петре и, видимо, о семейных делах, которые не радовали. «Ввечеру разговор с Ив<аном> Киреевским. Ссора без видимой причины, и от того нельзя прекратить ее» [Дневники, 343], – записал Жуковский после разговора 20 июля, видимо, подразумевая отношения Киреевских с А. А. Елагиным.
К началу 1840-х гг. эти отношения улеглись. К тому времени и Жуковский, наконец, вступил на путь семейной жизни, женившись на Елизавете фон Рейтерн. Даже если оставить в стороне сближение через семейство Рейтернов с пиетической средой, брак имел для его религиозности в 1840-е гг. определяющее значение. В многочисленных письмах на Родину поэт осмысляет произошедшую в его жизни перемену именно в религиозных категориях. Брак, рассуждает он, – это дар Промысла Божия: «Божий перст указал мне угол семейственный». Казалось, осуществился идеал его молодости – уединение в семейном кругу в сочетании с поэтическими трудами. Но, по сравнению со взглядами молодых лет, отношение Жуковского к семейной жизни переменилось: к убеждению, что «земное счастье живет только в семействе» присоединилось другое: в венец семейного счастья «необходимо вплетены» терния скорбей и испытаний. Семья – это не только «милое вместе», островок блаженства посреди реки времен, это еще и крестный путь к Богу, школа воспитания души, научающая терпению, смирению, вере и любви.
Это было выводом из личного опыта Жуковского, семейное счастье которого «разрушалось» болезнью жены. «Мне в удел досталась на старости нелегкая ноша», – признавался он в письмах П. А. Плетневу. – «…есть много, много минут несказанно тяжелых, и эти минуты возвращаются часто» [Плетнев, 695]. В письмах Жуковского этого времени складывается своеобразная философия брака.
Семейная жизнь, понимаемая в ее полном смысле, есть та школа, в которой настоящим образом научишься жизни, но не радостями беззаботными, не поэтическими мечтами, а более тревогами, страхами, ссорами с самим собою, ведущими от раздражения души к терпению, от терпения к вере, от веры к сердечному миру, и все это наконец сливается в одно, любовь безмятежную, а ее имя – Бог-Спаситель[71 - Ср.: Иак. 1, 2–5.] (письмо к А. О. Смирновой) [Зейдлиц 1883а, 204].
Что касается Киреевского, то общеизвестно, что его обращение к церковному христианству произошло благодаря жене. Насколько уместно здесь это слово – «обращение»? Оно употребляется в заглавии известной записки А. И. Кошелева «История обращения Ивана Васильевича», написанной, по всей видимости, со слов Натальи Петровны.
И. В. Киреевский женился в 1834 г. на девице Наталии Петровне Аребеневой, воспитанной в правилах строгого христианского благочестия; в первые времена после свадьбы исполнение ею наших церковных обрядов и обычаев неприятно его поражало, но по свойственной ему терпимости и деликатности он ей в том нимало не препятствовал. Она со своей стороны была еще скорбнее поражена отсутствием в нем веры и полным пренебрежением всех обычаев Православной Церкви [Киреевский, I, 285].
Так начинается этот документ. Несомненно, что некоторые акценты тут, по выражению В. Афанасьева, «немного смещены» [Афанасьев 1996, 48].
Сообщение А. И. Кошелева об отсутствии у Киреевского веры перекликается с тем местом из его же «Записок», где указывается, что Киреевский «перебывал локкистом, спинозистом, кантистом, шеллингистом, даже гегельянцем; он доходил в своем неверии даже до отрицания необходимости существования Бога» [Кошелев 1991, 89]. К этому свидетельству стоит прислушаться, но оно относится, конечно же, не к 1834 г., а к началу 1820-х гг., когда Кошелев и Киреевский увлекались Локком и Гельвецием. С этим увлечением, вероятно, и был связан период безверия, если он у Киреевского вообще был: ведь отрицать необходимость существования Бога – совсем не значит отвергать само существование. Во всяком случае, переход от увлечения английским и французским эмпиризмом к увлечению новейшим немецким любомудрием должен был окончательно уврачевать этот юношеский атеизм. Нужно помнить о философской атмосфере Европы первой половины XIX в. «Религиозная проблема как бы поглотила все содержание философии, – пишет об этом времени П. Н. Сакулин. – Примирить философию с религией – вот всеобщий клич, который раздался по Европе и взволновал все философствующие умы. В разрешении этой задачи видели венец всех стремлений человеческого ума» [Сакулин, 333].
Внимание молодого Киреевского тоже было приковано к этой проблематике. Например, в одном из писем к С. А. Соболевскому он сообщает как о важнейшем событии: «Вот важное: все материалисты московские верят теперь главному догмату Христианской религии. Совершилось чудо очевидно. Ты верно также поверишь, ибо твое единое, целое, совместно теперь с Троицей» (цит. по [Рябий, 10]). Во время путешествия в чужие края Киреевского более всего заинтересовало современное религиозно-философское движение, и он даже хотел писать статью о религиозном направлении умов в Германии для «Литературной Газеты» А. А. Дельвига[72 - Показательно, что и другому любомудру, путешествовавшему тогда в чужих краях, – H. М. Рожалину – бросилась в глаза именно религиозная составляющая интеллектуальной атмосферы Германии [Рожалин].].
Характерно, что во время пребывания в Берлине внимание Киреевского привлекла фигура Ф. Шлейермахера. Киреевский не только усердно посещал лекции этого теолога-романтика, но и тщательно штудировал его «Христианскую веру». Пересказывая в письме матери ([Киреевский, I, 31–33]) лекцию Шлейермахера о Воскресении Христовом, которую тот читал 3(15) марта 1830 г., Киреевский пишет, что Воскресение Христово – «главный момент христианства», и что достигнуть туда можно, только «поднявшись на вершину своей веры, туда, где вера уже начинает граничить с философией».
Из этих слов видно, между прочим, каким Киреевскому представлялось тогда отношение религии к философии. Либо философия – высшая ступень над верой, либо вера и философия соприкасаются своими вершинами, – в любом случае именно в точке пересечения философии и веры высказывается весь человек. Эта мысль показывает, что все нараставшее в то время в романтизме стремление осуществить синтез религии и философии, найти универсальное знание, захватило и Киреевского. Он выдвигает программу соединения веры и философии «в их противоположности и общности, следовательно, в их целостном, полном бытии». Таким образом, религия и философия у молодого Киреевского отнюдь не противопоставляются друг другу. Напротив, он уверен, что философское искание приводит к вере [VIII].