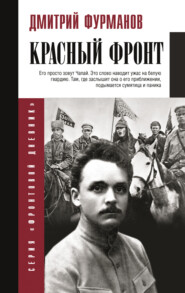По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Мятеж
Год написания книги
1924
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Вот она, комнатка штаба полка, густо закуренная черной, вонючей махрой, закиданная окурками, огрызками, засоренная так, что ноги скользят по всякой мерзости. Тут же, вповалку, спят одетые в шинели красноармейцы, – раздеваются ли они когда? На столах полевые телефоны; от времени до времени они жалобно гудят, словно кого-то о чем-то безнадежно умоляют. По штабу – матерый, отважный храп. За столом придремывает дежурный, в дверях маячит часовой. В небольшую грудку собраны на столе бумаги, – разные отметки, телефонограммы, распоряженья. Пахнуло родным духом Чапаевской дивизии.
Знать, везде она одна, наша Красная Армия!
Пришел комполка Лопатин. Он из тех, которые с первого слова, с первого взгляда приковывают к себе лучшими чувствами; с простыми, нужными словами, спокойный, уверенный, подошел он к нам и поздоровался запросто. Чувствовался человек, знающий себе цену. Это было – не гордость, не самомнение, – это органическое, естественное уважение к себе – к себе и к другим. Так же, как с нами, через минуту разговаривал и держался он с дежурным по штабу, а еще через минуту – будил и шутливо выпроваживал красноармейцев-храпунов. И движенья и речь его как-то естественно, тесно слиты были с тем, что он делал, – иначе, верно, делать было бы и нельзя. Радовало то, что с рядовым красноармейцем он держался так же, как и с нами, представителями военной власти. Это к нему располагало чрезвычайно, сразу поднимало его в наших глазах, заставило с сугубой внимательностью и интересом вслушиваться в то, что он говорил. Лопатин показался мне живым, лучшим типом того нового, подлинного командира, который является лишь старшим товарищем, более знающим и более опытным среди равных, таких же, как он, красноармейцев. Вкруг стола сели беседовать.
– Что у вас, в Верном? Расскажите-ка, пожалуйста, – обратился к нам Лопатин. – Мы тут кой-что хоть и знаем, да, видно, мало…
Коротко мы ему перебрали главные факты последних дней, рассказали и про последний тревожный митинг в казармах.
– О… от, подлецы! – усмехнулся он. – Надо будет штыком испробовать, слово тут ни к чему.
И эти слова его были простые, обычные, такие слова, за которыми, – чувствуешь это, – немедленно последует у него и действие.
– А как полк у тебя, Лопатин, – надежный? Сам-то ты веришь или нет?
– Да как сказать, – пожал он плечами, – и так и этак может выйти. Главное то надежно, что с разных мест: мадьяры, немцы, киргизы, французы, татары… это хорошо… А вот которые здешние, семиреченские, – заодно, подлецы, говорят, что и у вас там, в крепости…
– Ну, этих ведь мало?
– Мало. Да вредный они народ, – заключил Лопатин. – Сразу их пускать в дело не надо. Лучше пустим других.
– А ты, значит, думаешь, что «дело» будет? – усмехнулись и мы на его уверенность.
– Так как же, – словно испугался он, – а то разве не будет?
– Давайте все обдумаем…
– Обдумаем, – тихо согласился он. – Только дело мне ясное. Идти надо… на Верный.
Стали мы прикидывать разные планы.
Первое: послать в крепость наших делегатов и, судя по ответу, действовать.
Второе: вызвать сразу их представителей сюда для совместных разговоров.
Третье: идти походом на Верный, не завязывая ни с кем никаких переговоров.
Четвертое: попытаться в самом Верном поднять небольшое «восстание» против крепости, а нам лишь подоспеть на подмогу.
Разное предполагали. Многое предполагали. И все забраковали, – не годилось. Остановились, наконец, на таком плане.
Утром проводим общее собрание полка, точно выясняем его настроение, обрисовываем ему создавшуюся обстановку и устанавливаем: можно с такою силой идти в поход или нельзя? Если можно – выступаем в полдень. До Верного не доходим, останавливаемся за несколько верст и вызываем к себе навстречу всех, кто с нами: часть караульного батальона, одумавшиеся команды особого отдела и ревтрибунала, партшколу, – разумеется, тайком послав заранее в Верный свою связь. Посылаем на Верный разведку. А дальше, если это потребуется обстановкой, открываем непосредственно действия.
На этом плане сошлись. Часа два-три решили соснуть. Приткнулись тут же, в штабе: на лавках, на окнах, у стола, на полу, – где кому любо. В окна широкой мутной волной вплывали предрассветные сумерки. Было холодно. Мы ежились в куртках и шинелях. Жадно курили, согреваясь махорочным дымом. Усталость брала свое, переборола стужу, и скоро один за другим все позасыпали.
Полк расположился тут же, у Карасука, на зеленой поляне, на берегу старинного, глухого, в тину затянутого пруда. Зеленью-зеленью, сочными травами, садами и густыми аллеями рано поутру пробирались мы к нему из промахоренного неприютного штаба полка. Бойцы давно на ногах, – они подымаются вместе с солнцем. Одни крутятся вокруг коней: чистят, моют, скребут скребницами, охорашивают любовно, подравнивают бережно хвосты, расчесывают с ухмылкой густоволосые гривы, другие чинят седла, подшивают и заматывают всякие дыры, перетягивают и увязывают расползшиеся концы, продергивают разные ремешки, постукивают, прихлопывают, рвут зубами, сосут и мусолят, причмокивают, смачно и густо сплевывают опачканную каштановую слюну; иные кучками на лужайке – греют воду, махорят, здоровенно хохочут, балагурят безмятежно.
– Товарищи, всем сюда, на эту луговину – айда скликать! Командир полка требует.
Эх, загудело, заревело, заухало по аллеям, по кустарникам! И бегом, вприпрыжку, как беспокойные жеребята, и тихой развалкой, со всех сторон собирались бойцы. А когда собрались, обступили, – Лопатин сказал:
– Товарищи! К нам приехали начальник дивизии и председатель военного совета – они вам расскажут о том, что в Верном. Слово имеет товарищ… (он назвал мою фамилию).
И вот снова на самодельной трибуне – маленьком деревянном ящике. Снова перед лицом красноармейской массы. Снова речь о мятеже.
Но это уж вовсе, вовсе новая, иная обстановка, иная среда: это свои ребята, и к ним мы – за помощью. Нужна ли и здесь, как в крепости, увлекающая, раздражающая, пронзительная демагогия? Надо ли уговаривать, подбивать и взвинчивать на высокую ноту? Нет. Нужды (пока) в этом нет. Ценнее, надежнее, крепче будет – ежели не к сердцу, не к чувствам у них постучаться, а к разуму, если убедить их, что нельзя иначе поступать, как тронуться на Верный и кончить врага. Вот ежели этот способ – убеждением – не поможет, тогда дело иное: тогда, может быть, и демагогию, в интересах дела, надо будет спустить с цепи.
Выслушали бойцы в глубоком молчании, серьезно и сосредоточенно все, что рассказал я им про Верный. Когда заканчивал и говорил о том, что надо спасать Советскую власть, что надо с взбунтовавшимися говорить языком огня, штыка и сабель – взвыли ребята:
– На Верный… на Верный…
– Идти немедленно, чего ждать…
– Мы им, сволочам, дадим против Советской…
Даже китайцы, киргизы, мадьяры – и те вопили зычно, хотя половину, может, и не поняли из того, что им говорили:
– Саветски… Саветски!.. – кричали они, сверкая зловеще угольками раскосых глаз.
Выступили представители полка; они только что из Верного. Туда их полк услал вчера, наказал передать мятежникам, что крепко стоит за Советскую власть и не потерпит дальше мятежа.
– А они нам, товарищи, и говорят, – передавали делегаты, – убирайтесь вы, сукины дети, прочь; вас никто, поди, и не выбирал, сами наехали, коммунисты наслали… Мы с вами и говорить-то не будем да не хотим, а вот полк придет – со всем с им говорить хотим… Так и уехали…
Пуще прежнего заволновались бойцы.
– Наших делегатов не признавать? Наших делегатов прогонять? Ах ты, стервецы такие… Ну, мы покажем, как с четвертым полком говорить надо…
Здесь много уверять не требовалось. Положение ясное. Настроение полка, – как и надо.
Дальше ни к чему медлить, надо готовиться в поход. Но все построить с таким расчетом, чтобы под Верным очутиться лишь ввечеру.
Бочаров в это время уже был в 26-м полку. Он дал знать, что настроение среди бойцов хоть и не столь надежное, как в 4-м, но временно переломлено в нашу пользу, и поддерживать мятежников там пока что не собираются. Мы дали распоряжение подтягивать 26-й ближе на Верный, за 4-м по пути.
Полк собирается в поход. По улицам Карасука носятся всадники, гикают, свищут, кричат, ищут своих, находят, вновь теряют и снова ищут, свищут и скачут, скачут и свищут. Тот кому-то забыл сказать, тот забыл что-то взять, у каждого нашлось свое последнее срочное дело, – и до тех пор в последние минуты будут бешено метаться, пока не промчится команда командира.
И вот построились эскадроны. Построился полк. Красным облаком поплыло быстро вперед и словно дохнуло, обвеяло всех полковое красное знамя.
Вперед проскакали командиры.
Мы ехали перед полком.
Постановлено было остановиться верст за пять от города и вызвать туда из города всех, кто не против нас. А потом вызвать и самый батальон, – ведь ему ничего неизвестно о том, что мы ночью ускакали из Верного и что идем теперь вместе с полком. Мятежный батальон выйдет доверчиво навстречу к 4-му полку, – он же сам так хотел поговорить с бойцами!
И лишь только подойдет – окружить и потребовать сдачи оружия. А там – гуртом арестовать.
Уж вечерело. Медленно, весь путь ровным шагом, колыхались по просторному шоссе эскадроны. То и дело встречались в пути одиночки-красноармейцы, прятавшиеся по опушке, садами и огородами – нам навстречу уползшие из города.
Этих налаживали сюда наши товарищи, оставшиеся в Верном. Перебежчики сообщали нам последние новости: мятежники, оказывается, что-то заподозрили и к чему-то, видимо, готовятся. Часть красноармейцев из 25-го полка и часть из батальона 27-го снова ушла в крепость. Дозоры неприятельские усилены, из города никого не выпускают, – приходилось от конных разъездов затаиваться по высокой, густой придорожной траве, как червякам, уползать на животах.