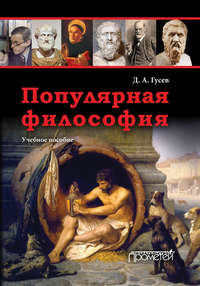Естественнонаучная картина мира
Для античной теоретико-философской традиции вопрос об объекте познания («что познавать?») теснейшим образом связан с вопросом о методе познания («как познавать?»). Само слово «метод» – греческое и дословно оно переводится как «путь». Вопрос о методе, таким образом, есть вопрос о выборе пути к истине, но такой вопрос может быть поставлен и ставится только тогда, когда истина нам уже знакома, когда она уже присутствует близ нас, а мы – рядом с ней. Последнее, конечно, не означает «знания истины» в современном понимании этого слова. Отвлеченно-абстрактное знание было чуждо античной мысли на всех этапах ее существования. Наполнить ум информацией – не значит что-либо познать, последнее предполагает собой скорее особый акт состояния по отношению к Космосу, некоторое видение в Космосе и себе самом фундаментальных бытийственных оснований, приоткрытых уже в акте первоначального интереса к Космосу, в акте первичного платоновского удивления. Знание здесь, скорее, есть дальнейшее раскрытие, развертывание той непосредственной данности порядка, красоты и гармонии, которые обнаруживаются уже в обыденной жизни и доступны каждому и для каждого. Ум не просто наполнен знанием – он живет знанием, мышлением, созерцанием. То есть знание – не его содержание, а состояние подлинного бытия, открытого истине.
Сегодня мы широко используем слово «теория», которое также имеет греческое происхождение. Дословно теория, как уже говорилось ранее, означает «созерцание» (отсюда близкое по значению «театр»); для теоретико-философской мысли Античности это созерцание не простое, а «умное». Истина постигается умом, обнаруживается в уме и существует для ума – к этим весьма строгим утверждениям античные мыслители приходят очень рано и придерживаются их очень последовательно. Однако эти же ученые не противопоставляют мир, открытый умом (интеллектуальный Космос), и мир, данный непосредственно в созерцании. Практически все современные авторы, исследующие античную культуру, отмечают указанный факт: греки никогда не относились пренебрежительно к чувственному миру, не противопоставляли его миру «умному» в категориях прекрасного и безобразного или гармонии и хаоса. Более того, знаменитая античная математика славилась своей наглядностью, возводя числа в «квадрат» или в «куб» в прямом смысле этого слова (возвести в квадрат – нарисовать квадрат со стороной, равной числу, и найти его площадь) или же изображая квадратный корень из единицы целым числом (как диагональ квадрата со стороной, равной единице). Мир чувственных данностей и мир теоретических созерцаний не столько противопоставляются друг другу, сколько выводятся как взаимные дополнители и прояснители.
Иллюзия такого противопоставления, правда, иногда возникает и сейчас в процессе знакомства с работами античных мыслителей. Но она возникала и у их современников. Известен ставший уже хрестоматийным случай, когда девушка-служанка подняла на смех Фалеса, засмотревшегося на звездное небо и упавшего в колодец: ты, мудрец, смотришь на звезды и не замечаешь то, что у тебя под ногами. Но похожие анекдоты можно найти и про Сократа, и про Платона, и, наконец, про Архимеда с его знаменитой фразой, адресованной римскому солдату: не трогай моих чертежей. Античная мысль не просто тонко осознавала единство Космоса во всех его данностях, она интуитивно всегда исходила из этой мысли о его единстве.
Однако многие античные ученые подчеркивали и иное: истина, данная в уме и раскрытая умом, может не просто отличаться от привычного обыденного видения мира, она может ему прямо противоречить. Отсюда парменидовское «небытия нет», зеноновское «движения нет», легендарное демокритовское самоослепление, наконец, хорошо знакомый вам по курсу философии платоновский миф о пещере. Для чего же античная мысль в ряде пунктов своего продвижения противопоставляет привычную видимость умозрительной истине? Дело в том, что огромная часть дошедших до нас текстов представляет собой не что иное, как учебную литературу, цель которой, как известно, не только поведать о том, как устроен мир, но и научить мыслить и познавать самостоятельно. Поэтому противопоставление чувственно-данного и разумно-постигаемого носит, как правило, методический характер – начинающий свое движение к истине (выходу из платоновской пещеры) ум должен понимать, что истина, взятая во всей ее полноте, не всегда совпадает с тем, что непосредственно дано в повседневности, а видение физическим зрением должно отличаться от видения, как говорил Платон, «глазами души». Ищущий ум должен уметь сталкиваться с парадоксами и преодолевать «затрудненные места». Речь, собственно, чаще всего именно об этом – о правильной настройке ума по отношению чувствам, о движении ума в правильном направлении. Разум, таким образом, не подминает или подменяет чувства, а лишь направляет их к необходимой конечной цели и наполняет их необходимым умным (теоретическим) видением.
С другой стороны, чувства, безусловно, нуждаются в разуме и его руководстве. Да, в самых первых своих феноменах прежде всего красота дана уже в чувственном восприятии, например, в созерцании красивой девушки. Наслаждаться прекрасным вполне можно и на уровне чувственно-осязаемой образной реальности, восхищаясь прекрасной картиной, прекрасной музыкой, прекрасной поэзией. Мы видим, что нечто прекрасно, хотя и не понимаем. Почему же этого видения недостаточно самого по себе? Дело в том, что любое видение такого типа непостоянно как минимум в двух смыслах. Во-первых, чувственно-прекрасный мир постоянно изменяется – прекрасный человек может состариться и умереть, прекрасный стол можно сломать и сжечь и т. д. Во-вторых, постоянно изменяется тот, кому непосредственно дан этот чувственно-прекрасный мир, то есть я сам в своих ощущениях. Ум (разум), таким образом, дает возможность не только увидеть случайную явленность прекрасного в чувствах, но и пребывать в устойчивом, вечном, неизменном, закономерном прекрасном космического бытия. Следовать за чувствами – следовать за непостоянством, случайностью, видимостью. Направляться разумом – пребывать в вечном, абсолютном, постоянном. Таким образом, чувственный опыт в античной теоретико-философской традиции имеет ценность лишь в свете своей интеллектуально-теоретической направленности.
Вопрос о роли чувственного опыта наиболее ярко в методологическом плане поставил Аристотель. Если его учитель Платон таким опытом часто пренебрегал по разным причинам в разных контекстах (опять же, например, для того, чтобы показать несводимость тотальной изменчивости текучего мира ощущений к фундаментальным конструкциям бытия, знакомым нам как «мир идей»), то для Аристотеля чувственный опыт также фундаментален, как и интеллектуальное созерцание, так как сущность каждой вещи находится в ней самой (а сама вещь изначально доступна нам через опыт). На фоне многочисленных своих коллег – как предшественников, так и современников – Аристотель действительно выглядит чуть ли не сторонником эмпиризма, во всяком случае по результатам работы в рамках той же «физики» или «зоологии». Однако позиция Аристотеля здесь как минимум двойственная – широко внедряя опыт, он всячески подчеркивает традиционный приоритет теоретического знания через разумные созерцания, в ряде случаев даже последовательнее своего учителя Платона.
Обратим внимание на два момента, где и как Аристотель обосновывает свою позицию со всей возможной определенностью. Во-первых, Аристотель доказывает, что индуктивное познание само по себе всегда неполно и несовершенно. В самом деле – для формирования какого-либо знания на основе опыта необходимо просмотреть все возможные случаи этого опыта. Любой чувственный опыт имеет огромное количество случаев. Сегодня мы бы сказали, что такое количество есть бесконечность, однако Аристотель выражается более обтекаемо. Так или иначе, наше описание никак не может претендовать на всю эмпирическую полноту – а потому оно всегда окажется приблизительным и неполным. Остроумно неполноту индукции уже в наше время проиллюстрировал Б. Рассел в своем знаменитом примере с курицей, которая на основании ряда опытов прочно связывает появление хозяина с появлением корма и никак не может рассчитать, что однажды хозяин явится не с кормом, а с ножом. Во-вторых, чувственное познание, по мнению Аристотеля, более грубо для души, чем интеллектуальное созерцание. Именно поэтому интеллектуальное созерцание есть единственно достойное познание для «свободных граждан», для которых занятие земледелием или ремеслом уже является недостойным их тонких разумных душ. Таким образом, только в созерцании открывается истина, и только в нем Космос предстает на прочной основе во всей своей полноте.
Наконец, вспомним, что античная теоретико-философская мысль воспринимает Космос как целое, упорядоченное, единое, прекрасное. Да, прекрасное дано и в чувственном опыте. Но в опыте дано и безобразное, и случайное, и хаотичное, причем без какого-либо различения в самом себе. Для такого различения необходимы теоретическая интуиция, умозренческое созерцание, которые обеспечивает в своей практике разум.
До конца понять связь разумности, упорядоченности, красоты и подчинение чувственности разумности при полном сохранении всех основных характеристик первой в теоретической практике второго – невозможно, не рассмотрев еще одну сторону античной познавательной практики. Это вопрос о конечных целях познания. Этот вопрос вполне в духе античных парадоксов не столько завершает нарисованную нами общую картину, сколько возвращает нас вновь в исходную точку рассуждений. В этом нет ничего удивительного, поскольку античное теоретико-философское знание, исходя из гармонии и упорядоченности Космоса, обнаруживая в себе эстетическое восхищение космической красотой и глубоко эту красоту чувствуя, неизбежно выходило на категорию благо, а значит, на проблемы этические.
Очень ярко описанный выше момент проявился в концепции школы стоиков, разработавших тончайшую рациональную картину физического мира, не уступающую по интеллектуальной изощренной полноте аристотелевской (в том числе и в плане формально-логическом). К сожалению, известна эта концепция сегодня лишь фрагментарно, поскольку ни одного законченного произведения на эту тему не сохранилось, а в исторической перспективе ее заслонила могучая парадигма Аристотеля – Птолемея. Однако хорошо известно, что на основе физики стоики выстраивали не менее интересную, проработанную, логичную систему этики, которая фактически определяла внутреннее отношение человека к гармоничному физическому Космосу. Космическая красота и гармония вытекали здесь не столько из построений физической теории, сколько из специфического этического отношения к миру, в основе которого лежал тезис: «Космос прекрасен, что бы ни происходило». Не столько ум представляет нам доказательства этой красоты – скорее, эстетическое чувство дает нам несомненное ощущение ее присутствия, задающее определенную модель поведения человека по отношению к ней как в повседневно-житейском, так и в интеллектуально-познавательном плане.
Общую цель познания в рамках античной традиции можно описать, таким образом, с трех позиций. При этом нужно помнить, что это не три ответа на один и тот же вопрос – это один ответ, выстроенный в разных словесных конструкциях. Итак, во-первых, познание Космоса ведет к внутренней гармонизации человеческой души, упорядочиванию личной и общественной жизни. Душа (умная душа), будучи обращена к постижению порядка, сама внутренне упорядочивается и гармонизируется. Во-вторых, познавший истину может помочь прийти к этой истине тем, кто сам это сделать в силу тех или иных причин не в состоянии. Так платоновский философ становится во главе государства-полиса и организует жизнь в полисе таким образом, что каждый находит в нем свое собственное место для счастья, – а ничего другого истина человеку и не дает. Наконец, в-третьих, постигший космическую истину получает возможность жить в гармонии с Космосом и примириться с судьбой. Ведь переделать совершенный Космос человек все равно не в состоянии – не стоит даже пытаться. Вместо Космоса всегда будет в таком случае хаос.
§ 3. Теория Аристотеля и ее достоинства
Теперь перейдем от общих характеристик научно-философской картины мира Античности к ее конкретно-теоретическому воплощению. То, о чем мы говорили выше, – всего лишь первооснова, фундамент, не всегда явно проговариваемый и обнажаемый самими учеными и философами Античности. Теория же в отличие от общемировоззренческих принципов предполагает большую строгость, определенность и, самое главное, более тесную связь с фактами, которые можно пронаблюдать, предсказать, обнаружить. Таким образом, если рассуждать в общих чертах, от теории требуется, во-первых, целостное и непротиворечивое описание всех сторон окружающей нас действительности, включая, кстати, и нас самих; во-вторых, объяснение известных фактов или их интерпретация. Первая теория такого типа, дошедшая до нас в относительно полном виде, – это теория, созданная в IV в. до н. э. великим античным ученым Аристотелем из Стагиры (Стагиритом).
К сожалению, здесь перед нами в полный рост встает уже обозначенная выше трудность – неполнота и фрагментарность источников. Практически обо всех философах и ученых до Платона и Аристотеля мы имеем либо вторичные сведения (в ссылках того же Аристотеля), либо чудом сохранившиеся разрозненные фрагменты их произведений. Так мы знаем о тех или иных открытиях Фалеса или, например, Пифагора (хотя это фигуры считаются многими исследователями полулегендарными и полумифологическими) в области геометрии, но почти не знаем, как они объясняли, например, движение, развитие, уничтожение, какова была система их взглядов на мир и какое место их конкретные научные открытия в данной системе занимали. Поэтому нельзя утверждать, что до Аристотеля не существовало попыток создать связную теоретическую картину Космоса, как, к сожалению, нельзя утверждать и обратное. Эта ситуация станет еще более печальной, если вспомнить, сколько теоретических разработок было потеряно уже после Аристотеля – вплоть до наших дней; да еще и не просто потеряно, а намеренно уничтожено.
Тем не менее цельность и законченность аристотелевской теории – несомненна, как несомненна и ее универсальная направленность. Если же говорить о влиянии ее на дальнейшее развитие научного знания – вплоть до Коперника и Галилея, то равных ей нет и не предвидится. Система Аристотеля действительно объединила естествознание, философию, обществознание и методологию в одно целое здание-знание универсума, как такового. Конечно, сегодня мы объясняем мир совсем не так, как это делал Аристотель. Более того, объяснения Аристотеля в очень многих случаях прямо противоречат достижениям современной науки. Однако давайте не будем спешить с выводами. Попробуем вообразить себе мир так, как воображал его Аристотель, а после попробуем найти существенные возражения.
Аристотель выступает новатором античного теоретического знания в нескольких отношениях. Во-первых, как мы уже сказали, он создает одно из самых совершенных и законченных теоретических описаний Космоса на всех уровнях его бытия – описание, не имеющее равных по степени влияния на дальнейшее развитие интеллектуальной практики как минимум на тысячелетие вперед. Во-вторых, ему удалось радикально переосмыслить сам процесс познания, развернув теоретическое познание от поиска фундаментальных начал Космоса к познанию окружающего мира, как такового, пусть и не на высочайших степенях совершенства. Аристотель, конечно, не пренебрегает анализом первооснов Космоса, познания гармонии, фундаментальных начал бытия. Работы его на эту тему позднее будут объединены под общим названием «метафизика», что означает «то, что после физики» и в буквальном, и в переносном смысле. Здесь Аристотель отдает дань традиционной философской проблематике; в будущем понятие «метафизика» станет синонимом понятия «философия» и даже в некоторых контекстах сильно потеснит его в научно-теоретическом обиходе. Но наравне с метафизикой существует и «физика» – наука о природе, о мире в его данности нам, о том, что мы можем наблюдать, в том числе и в нашем обыденном опыте.
В чем же здесь заключен радикальный шаг Аристотеля вперед? Дело в том, что античное философско-теоретическое знание очень часто пренебрегало исследованием той природы, которая нас непосредственно окружает, перенося ее на второй план или вовсе вынося за скобки. Главный интерес для философов и ученых представляла первооснова мира (первоначало или субстанция) иерархий бытия или порядка сущего (Божественный Логос, «все есть число», мир «идей»), причем часто эта первооснова бытия и порядка отделялась от чувственного непосредственно воспринимаемого мира и даже, в тех или иных целях, противопоставлялась ему – как, например, в апориях Зенона Элейского или некоторых диалогах Платона. Хотя чувственно воспринимаемый мир и не объявлялся чистой иллюзией (подобно «покрывалу Майя» в индийской философии), тем не менее сам по себе он воспринимался как несамостоятельный, текучий, хаотический, подверженный любым изменениям, в общем, реальностью, где само по себе все относительно и ничто не абсолютно. Абсолютное как раз и обнаруживается ученым-философом как некое «просвечивание» истины в мире, как ее непосредственная обнаруженность, о чем применительно к красоте подробно пишет Платон в диалоге «Пир». Более подробно Вы встречались с этими проблемами и обсуждали их в курсе «Философия», здесь же мы просто обозначаем само их наличие, о котором необходимо помнить.
Аристотель как ученик Платона, с одной стороны, следует строго в русле своей интеллектуальной традиции, он верный сын античной философии и ее величайший систематизатор. Основа его концепции – оригинальная философская (метафизическая) система, сквозь призму которой Космос обретает фундаментальность и, что не менее важно, познаваемость. Подробно Вы рассматривали метафизику Аристотеля и ее критику опять же в курсе «Философия». Здесь же нам понадобятся лишь некоторые самые существенные ее положения, без которых понять аристотелевскую картину мира и ее теоретическую конструкцию либо затруднительно, либо, что чаще, совершенно невозможно.
§ 4. Аристотель об основаниях гармоничной природы и прекрасного Космоса
Аристотель, как известно, в основных чертах продолжил дело Платона (как мы ниже увидим, вся его космология во многом пересекается с платоновской), но известен он и как автор изречения, обозначавшего разрыв с любимым учителем: «Amicus Plato, sed magis amica veritas» (в латинском варианте). Этот разрыв, а точнее, расхождение касалось, с одной стороны, взаимодействия и взаимоопределения материального и идеального, с другой – путей познания и обнаружения истины. Платон, как известно, считал, что материальные вещи представляют собой лишь изменчивые несовершенные копии «вещей» идеальных, следовательно, причина существования материальной вещи лежит не в ней самой, а вне ее. Следовательно, и в процессе познания материальная вещь должна служить лишь напоминанием о подлинно идеальном мире, но не может быть самостоятельным предметом исследования. Точно так же, когда мы чертим на доске прямую, проходящую через две точки, мы имеем в виду не сам по себе чертеж, на котором вообще изображена не прямая, а кривая, но то, что лежит за чертежом, то, к чему чертеж отсылает, то, что доступно только нашему разуму, пусть и прибегающему иногда к такой вот чувственной наглядности.
Ошибка учителя, по мнению Аристотеля, заключена в том, что Платон, с одной стороны, безо всяких оснований оторвал вещи от источников их существования, с другой, очень поверхностно, непоследовательно проанализировал сам процесс становления вещи и обнаружил не все причины ее бытия. Тот факт, что вещи распадаются и уничтожаются, Платоном объясняется хорошо (несовершенная материя не может долго удерживать вид, идею, форму, подобно песочному куличу), но как в рамках его теории объяснить то, что вещи в процессе своего существования совершенствуются или просто меняют свою суть (яйцо – цыпленок – курица, ребенок – взрослый). Аристотель предлагает эту картину дополнить. Каждая вещь имеет не только внутренние, но внешние причины своего собственного конкретного существования. В каждой вещи есть то, что делает вещь самой собой, тождественной себе, то, что философы называют «сущностью». Это – первая причина. Платон назвал это «идеей», Аристотель использует это же понятие, превратившееся в латинском переводе в хорошо известную нам «форму». Зададим себе вопрос – почему эта вещь стол? Потому что в ней есть нечто, делающее ее столом, и нет того, что сделало ее бы стулом или тарелкой. «Стол – это стол» – не просто тавтология, но указание на сущность данной вещи. Но реальный стол ведь можно переделать в стул, можно распилить на доски, можно вообще сжечь. Вещи изменчивы, потенциально они могут быть превращены в другие вещи или вообще быть уничтожены. Таким образом, вещь имеет двойственную природу – она тождественна сама себе и при этом может быть иной. Здесь Аристотель вводит два важнейших понятия, которые в античной науке до него практически не разрабатывались и не использовались: возможность (потенция) и действительность (акт). Всякая вещь содержит в себе множество возможностей, однако число реализуемых возможностей небезгранично: так кусок мрамора может стать прекрасной статуей, но никогда не сможет стать прекрасной девушкой.
Но что же делает эту возможность наличной? Аристотель отвечает: материя или материальная причина. Если форма – источник объяснения самотождественности, самопостоянства вещи, условие ее мыслимости и познаваемости, то материя есть чистое небытие в вещи, возможность вещи быть чем угодно, кроме того, что она есть. Сама по себе материя есть бесконечная возможность, то есть небытие. Все вещи, включающие в себя материю и форму, изменчивы, все они потенциально иные. Материя лишь пространство для воплощения множества форм, то, что дает форме непосредственно явиться. Так ребенок потенциально и поэт, и строитель, и политик, но то, кем он станет, как он реализует себя (реализуется), зависит от множества факторов, в том числе от врожденных способностей, его желания и воли и от социальной среды, в которой человеку предстоит жить и работать.
Мы, таким образом, обнаружили и третью причину существования вещи – причину, переводящую возможность в действительность. Аристотель называет ее движущей причиной или просто движением. Движение есть любая смена одной формы другой. Заметим, что формы сами по себе неизменны, ибо имеют идеальную природу – изменяемы вещи, которым формы придают образ и суть. Форма «стол» всегда останется самой собой сама по себе. Но для того чтобы понять, что есть стол, человеку требуется хоть раз его увидеть и, возможно, использовать по назначению – без этого любое теоретическое знание о столе будет неполным. Существуют и формы, не требующие воплощения в материю, например, числа или фигуры, доступные прямому интеллектуальному созерцанию. Однако большое количество форм становится для нас доступным как интеллектуально, так и чувственно-эмпирически. Таким образом, чувственное познание дополняет познание разума и становится в какой-то мере необходимым для постижения природы, физической стороны Космоса.
Наконец, всякая вещь существует не просто так, а во взаимосвязи с другими вещами, иными словами, всякая вещь есть не «для себя» (точнее, не только для себя), а для иной вещи. Эта связь вещей также может быть случайной (книга существует для моих глаз, но я могу эту книгу и не читать) и необходимой (животное поедает растение, хищник поедает травоядного). Иная вещь, таким образом, определяет существование вещи, замыкает ее на себя, подчиняет себе. Эту причину Аристотель назвал целевой или просто «целью». Космос таким образом, взятый во всей своей полноте, есть цель всех существующих вещей. Но, с другой стороны, цель заключена и внутри самой вещи и определяется некой логикой смены форм, как в уже известном нам примере с яйцом, цыпленком и курицей. Достижение такой цели, как воплощение развертывания все потенциальных форм, Аристотель назвал специально придуманным сложным термином «энтелехиея», чтобы еще раз подчеркнуть его важность.
Теперь вернемся к более важному и существенному для нас понятию «движение». Под движением Аристотель понимает любое изменение в материальном мире (то есть любую смену форм, включая изменение места или простое перемещение вещи в пространстве). Такое изменение может быть вызвано как изнутри самой вещи (превращение цыпленка в курицу, самообразование человека), так и извне, действиями других вещей (бросание рукой камня, удар ногой по мячу). Первый вид движения Аристотель называет естественным, второй – искусственным. К чему же стремится движущееся тело как в первом, так и во втором случае? Если мы немного поразмыслим над этим, то легко обнаружим ответ: конечно же, к цели! Другое дело, в чем эта цель заключается. В первом случае движение стремится к максимальной явленности формы в материи, максимальному развертыванию всего формального ряда в общем контексте Космоса как совокупности форм. Во втором случае – движение быстро или постепенно замедляется и прекращается, когда тело падает на Землю, то есть тело, очевидно, стремится упасть, прекратить движение и занять неподвижное положение, если ему в этом не препятствовать. Более того, чтобы привести такое тело в движение, требуется усилие, часто весьма ощутимое – то есть тело как бы сопротивляется движению и стремится при любой возможности стать неподвижным, то есть занять определенное место. Таким образом, каждая вещь в процессе движения стремится занять «свое место» в Космосе, «наилучшее» место. Как только это «место» занято – движение прекращается, как прекращается оно в случае прекращения действия насильственных внешних причин. Таким образом, всякое движение имеет своей целью покой, всякое становление – достижение максимальной полноты бытия. Покой абсолютен, движение – относительно. Движение здесь становится атрибутом несовершенства, ибо совершенству ни изменяться, ни менять свое месторасположение нет надобности.