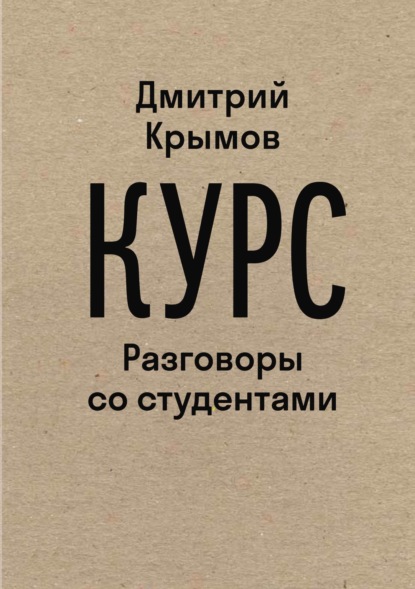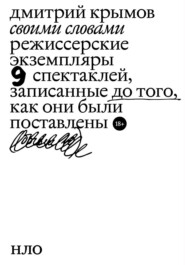По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Курс. Разговоры со студентами
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Маруся. А можно спросить по поводу первого? Как этот лист организует пространство? Будет ли это «работой с пространством»?
Крымов. Я не думал об этом, я не знаю, честно говоря… Я сейчас просто автоматически сделал жест – взял и разорвал. Ты спрашиваешь: «А как же пространство?» Я не знаю… Это надо думать… Надо просто дальше думать. И оно сделается! Оно сделается, если будет потребность закончить работу. Это же удовольствие думать… Думать, рассуждая. Вот ты задаешь простой вопрос: а как тут пространство? Я не знаю, я еще многого не знаю. И это доставляет мне удовольствие, что я не знаю. Значит, я, ложась спать, потушив свет, буду об этом думать. И придумаю в конце концов. Я столько вещей придумываю, и каждый из нас столько вещей придумывает, ну как-нибудь мы придумаем же это! Нет, так посоветуюсь с кем-нибудь. Придумаю как-нибудь. Как-нибудь.
И последнее, про вторую твою часть – харакири. Это вещь довольно скупая, харакири. Они не рвут флаги и не жгут их на улицах. Они запираются у себя дома, отсылают служанок, чистая одежда должна быть и острый нож. Садятся и делают это. И в каком случае они это делают? Когда оскорблена честь и нельзя по-другому смыть позор. Это как бы дуэль с самим собой, вернее, с тем человеком, который это сделал, а ты не можешь ему отомстить, обстоятельства так складываются. Это какое-то благороднейшее, жестокое, чинное действие, которое вызывает священный трепет. Здесь не до разрывания флагов… Это высокое качество события. А разрывание флага – это публичный дебош. В этом смысле это две вещи совершенно противоположные…
Я думаю дальше: вот пустая сцена, я пришел смотреть пьесу, называется «Закат». Выходит человек в кимоно, долго готовится. Если ты знаешь, – я как-то изучал это, читал, мне было интересно, я хотел в одну пьесу вставить, – это же целый ритуал, называется сэппуку. Это же целый ритуал – как встать, как сесть, как на колени, как отослать кого-то, кто тебе помогал. Нужно это делать в одиночестве, нужно лезвие замотать, чтобы не порезаться, провести справа налево, слева направо, по какой части, как провести… И вот я пришел на спектакль «Закат». Не Бабеля, а просто – «Закат», какой-то не известный мне «Закат». Я бы даже сделал, как в «Последнем императоре», недавно показывали по телевизору… Какие-то люди бегают, тазы тащат, одевают кого-то вдалеке, последняя еда, палочки – какой-то ритуал. Затем лезвие в тряпку и медленно-медленно взрезал себе живот. И упал. Закат, закат жизни. Необязательно, чтобы красный круг садился в море. Не в этом же закат. Не только в этом. Закат может быть и старость: старушка на лавочке – это тоже закат. Посмотри на ее фотографию в молодости, когда за ней бегали толпы гусар… Никто из вас пока не сделал закат как какую-то аллегорию жизни вообще… Даже термин такой есть – закат жизни…
Вот эти все рассуждения, которые я сейчас перед вами выбалтываю, к тому, что надо с самим собой разговаривать, когда больше не с кем. Да и вообще это полезно.
Как я сейчас прочитал у древнего мудреца, – не то что я его читаю, я читаю Юрия Олешу, но он его процитировал, – разговор с самим собой – это искусство, а разговор с другим человеком – это игра, это баловство. Вот надо с самим собой разговаривать. Истина, она появится при рассуждении. Я хочу, чтобы вы восприняли эту технологию. Очень советую. Вам же всегда интересно, вы спрашиваете у меня: а как вы придумываете? А вот так! На самом деле я начинаю рассуждать…
Схема, вот она: вы – здесь, а задача – здесь. Не идите сразу туда, не идите прямо, начните ходить, ходить, нюхать воздух, думать… Вот тогда вы придете к решению задачи, обогащенные этим хождением. Когда-то придете, все равно придете, вас это будет манить, вы будете испытывать притяжение, находясь в отдалении, вы не потеряете цель из виду. Вы будете испытывать напряжение, находясь здесь – такое, находясь поблизости – такое… Даже когда вы здесь, рядом, не подходите, отойдите, наоборот, и вас потянет обратно. Понимаете, про что я говорю, да? Это и есть рассуждение, принюхивание, вы придете богатые, когда вы увидите, что вокруг, прочувствуете какие-то варианты, что-то отбросите… Это мой способ, он вам поможет.
Ну ладно, мы так долго говорим… Это вам просто так – для рассуждения. Мое рассуждение – вам на рассуждение. Ну ладно, пока, до завтра.
18 ноября
…Как только вы берете «Гамлета» и начинаете решать сразу все существующие там сложности, – весь ворох вопросов набрасывается на вас, валится на вас, как пыльные балки на старом чердаке. Это все равно что вы без компаса, без снаряжения входите в лес. Вот вы входите в этот лес и там гибнете… Это может быть по глупости, а скорее всего просто от страха. И от того, и от другого можно погибнуть.
Поначалу надо только не пугаться пьесы, вот просто не пугаться. Воспринять Гамлета как закат. Мы ведь делали закат? Мы делали Бога, мы делали ангела… делали нежность… Но ведь в «Гамлете» нет заката, и нет Бога, и нет ангела, нет Библии… Что мы еще делали?.. Там нет… моря. Там есть всего понемножку. И Бог какой-то странный. Библии нет, но вроде тоже где-то витает. Нежность есть, конечно, но какая-то странная нежность, потому что он отказывается от этой нежности, оскорбляет ее… Там все очень странно, там всего понемногу, это больше всего похоже на не очень развитое наше задание, которое почему-то не стало у нас получаться и мы его оставили. Задание было – взять в жизни общую картину и что-то в ней там увидеть. Сфотографировать общим планом улицу или пейзаж… и какое-то решение принять, глядя на эту жизнь, глядя на реальность, принять какое-то решение. В жизни есть все – и длинное, и короткое, и черное, и голубое, а вам нужно принять решение. Потому что без решения это хаос. В чем сложность? Восход есть восход, он на тебя (хлопок) так вот – в лоб. Ангел есть ангел, просто нужно немножко представить себе ангела, твоего ангела. Это же ваш выбор – и все. Злой ангел, летающий, сидящий, пьющий, я не знаю, эфемерный, белый, черный, в полосочку, детский, взрослый, стариковский, ангел рождения и ангел смерти… Какой угодно. А тут уже написано, тут вам уже написали, жизнь написала или Шекспир… Кто-то написал вот эту сложную картину улицы, пейзажа или Гамлета. Вам нужно ее прочитать и принять решение. Это силовое решение. Это усилие воли – видеть так, а не иначе. Надо из множества выбрать одно. Из множества впечатлений, которые дает пьеса, выбрать одно – оно и станет тем чувством, которое вы не сдадите. Не захотите сдать, хоть вас расстреляют! И там уже, хочешь не хочешь, вы должны будете это чувство провести через все сложности своего разума, опыта, умений, разума другого человека, режиссера, директора театра… Вы проведете его через все это. Вы сделаете его в четырех актах или в одном акте, все равно это чувство должно вами руководить. Это самое главное.
Это ты сделала лампочку, Маш? Вот ты этим сказала: я не хочу делать радостный восход, восходы же бывают разные, вот настроение у меня такое, вот это мой восход, когда такое настроение, я не хочу делать ни красный, ни радостный, птицы поют – не хочу, мне не интересно. Я хочу вот такой: опускаю в грязный стакан свой iPhone с зажженной этой мертвенной лампочкой – и все! Восход в Питере! Мой восход. Так же и с пьесой. И не нужно сдаваться, не нужно делать радостный восход, если ты такая и твой восход такой, понимаешь? Пьеса большая: и Полоний прячется за ковром, и море шумит где-то рядом, и Призрак, и много народа. А черт с ними со всеми! Гамлет – это мертвенная лампочка телефона, опущенная в грязный стакан с неотмытыми после живописи белилами. Ты как раз и должна рассказать то, чего никто не знает и не ожидает. Вы думаете, Гамлет такой? Вот вам! Не буду я этого делать, даже смотреть в эту сторону не буду, мне противно… Гамлет другой, вот какой! Все так – опа! Нужно свежее почувствовать. Нужно почувствовать свежее, тогда у тебя будут свежие мысли, ты свежими мыслями проверишь свои свежие чувства, свежо это сформулируешь и свежо сделаешь. Это идет с самого начала. Вначале должно быть чувство противоречия миру, который «знает», что такое Гамлет. Нельзя допустить, что «восход» у нас хороший, а как доходит до «Гамлета», начинаются какие-то кружевные фартуки, какая-то земля, какой-то лысый человек что-то говорит, тут какие-то дочки, думаешь, а пошли они все к такой-то матери со своими королями лирами и гамлетами… Лампочка в грязном стакане! Сначала, может быть, нет, то есть наверняка даже сначала нет. И вдруг – да! Такое радостное да! Это открытие, это разновидность открытия, понимаете? То, чем мы занимаемся, – это есть разновидность научного или художественного открытия. Каждый спектакль должен быть открытием. Не надо говорить то, что люди уже знают. Надо противоречить этому, найти другое в этом и открыть им мир. Они приходят в театр, чтобы узнавать мир с другой стороны. Они приходят даже неосознанно, но именно за этим, особенно в России…
Сделаю паузу в теоретических изысканиях… Это все интересно?
Катя. Пушкин
Катя. У меня дома есть красный трехтомник Пушкина и маленькая книжка, совсем маленькая, «Евгений Онегин». Когда я читала в большом издании, у меня было странное школьное ощущение такое же, как у меня было, когда я готовилась в школе к докладу… Все ассоциации, которые приходили, были настолько клишированные… А вот это маленькое издание 1937 года, оно такое, какое и должно быть. (Показывает на экране работу художника Дмитрия Гутова – вязь букв и слов из гнутой проволоки.) Все мы знаем рисунки Пушкина рядом со стихами, и это очень ассоциируется с тем, как Дмитрий Гутов делал из проволоки буквы, и почему-то именно от этих работ есть какая-то ассоциация с Пушкиным. Потому что это вроде бы так легко сделано, но если вы когда-нибудь из проволоки сгибали что-нибудь, то понимаете, насколько это тяжело. В этом есть сила, это легко, но при этом внушительно…
А еще я хотела рассказать, что когда ты читаешь истории про Пушкина, то постоянно натыкаешься на сверххвалебные «Пушкин – наше все». Да, конечно, Пушкин – наше все, и человек вошел в историю, но при этом ты читаешь очень странные вещи про него. Я нашла интересную историю с императором. Когда Пушкину было два года, как гласит история, он убежал от няни, это было в Зимнем саду…
Крымов. Он картуз не снял, и царь сделал замечание няне…
Катя. Да… И когда я пытаюсь изучить отношения Пушкина и Александра I, то не понимаю: он то пишет про декабристов, а то пишет хвалебные стихи про императора, который, собственно, этих декабристов повесил… Какие-то вечные перепады. Это какой-то вечный поток. Впечатление, что у него не было устоявшихся норм. Он может и там, и там, и так, и так… А еще вот… (Рассказывает о встрече с Державиным в лицее. Потом показывает отрывки из мультфильма Хржановского по мотивам рисунков Пушкина.)
Крымов. Катя, это все прекрасно. А теперь надо выбрать. Что я могу сказать по поводу этой прекрасной манной каши, еще и с фруктами разными, которую ты разлила по столу и пытаешься собрать? Хорошо, что у тебя она есть, и хорошо, что у тебя есть фрукты. Если тебе удобно на столе это все разлить, чтобы посмотреть, что у тебя есть, – ладно, пусть так. Но теперь надо выбрать. Выбрать самые вкусные фрукты. А кашу убрать. И ты это умеешь. Например, твои картинки, с которыми ты поступала, вот эти промышленные зоны Москвы, странные дома, пустыри какие-то… Вот я так представляю: ты на это смотришь, смотришь на то, что я очень хорошо знаю. Я не живу в таком районе, но я знаю, о чем ты говоришь. Эти виды навевают на меня упадническое настроение. Там все разное, но все такое одинаковое. Я вижу в них антиэстетику, я вижу в них катастрофическое подавление всего, что может радовать глаз, какой-то тотальный бетон на тотальной траве, на тотальном асфальте. Все какое-то тотальное… И вот появляется какая-то девочка, которая не выговаривает двадцать пять букв из тридцати трех, симпатичная, которая почему-то принесла огромные листы бумаги. Ей не хватило одного листа большой бумаги, она их соединила, чтобы запечатлеть это «тотальное», – это я тебя описываю – и сделала пастелью огромные, очень красивые картины этих мест, превратив их в какие-то удивительно привлекательные пейзажи, очень нежные, очень атмосферные, очень композиционно построенные, странные… Я думаю: боже мой, я же этого не вижу ничего, она меня убедила… Кто это такая? Честно говоря, я сейчас открою секрет, я так боялся, что ты второй раз не придешь… Ты ушла, а я думаю: а может, она исчезнет с такими картинками? Сейчас не о том, что ты хорошая, я сейчас хочу, чтобы что-то важное осталось в твоей голове, чтобы ты не возила манную кашу по столу. Вот там, в тех листах, о манной каше речи нет. Каким образом тебе это удалось сделать? Ты приняла решение. Там ты почему-то накладываешь на этот ужас Господень, на все эти бетонные сооружения и бредовые заборы какой-то даже оптимизм… Оптимизм красоты. Ты из абсолютно нехудожественной помойки делаешь художественную картину, это твое решение, уж не знаю, сознательное или несознательное.
Конечно, рисовать – это одно. Придумать театр – это другое, это сложнее. Там есть только ты, твоя рука, и она, может быть, сама подсказывает тебе, кто ты есть. А здесь более сложная штука, но, в принципе, то же самое – нужно принять ответственность за какое-то свое решение. И принять самой, не передоверяя руке, даже своей. В театре должно быть сознательное. Художник – сейчас скажу грубую вещь, хотя отчасти правдивую, – может быть неумным, а театральный художник должен быть умным. Что значит умным? Он должен уметь переварить всю огромную и подавляющую подчас информацию и выдать свое решение. Там в картинках… И я не понимаю, как, как ты это делаешь, пастелью еще, которую ветер сдувает… На улице, пастелью, на таком огромном размере, такой ужас сделать так красиво и так нежно… Я не понимаю! Не понимаю и преклоняюсь. Ты решила посмотреть на этот ужас и увидела красоту. Может, и неосознанно, но приняла решение. Так и здесь надо. Только осознанно.
Все темы, которые ты затронула, огромны, ведь Пушкин – это буквально «наше все». Это действительно наше все, за каждой из этих тем стоит огромный пласт того, из чего мы состоим. Как Ахматова сказала, что Пушкин дал пример русским мужчинам, как себя вести с царем, с женщинами, с женой, с картами, с жизнью, с дуэлью, с честью и со смертью.
Вот с царем – никогда и никто, ну, Фонвизин немножко и Радищев сильно, но недолго… Но так долго и так показательно никто из писателей, из дворян, ну как бы из будущей интеллигенции, тогда такого понятия еще не было… Но он, в общем, родоначальник интеллигенции. Он создал русскую литературу, он впервые стал профессиональным писателем. Он начал писать за деньги. Ни Жуковский, ни Карамзин, они никогда за деньги не писали, это была блажь аристократии. Он создал профессию писателя. Он создал гордость писателя. И как он общался с царем, все его перипетии с царем, которые начались, действительно, с того, что он картуз не снял, – это огромнейшая тема.
Это огромная, очень интересная, рискованная тема. Царь ведь действительно повесил его друзей, пятерых человек, они все были его друзья, а потом послал за ним фельдъегеря, имел с ним двухчасовую беседу, и он вышел и написал стихотворение во славу этого царя. Он в общем-то их предал. Потом он написал послание в Сибирь, а потом он написал против поляков, потом еще – за царя, а потом еще – против царя… Где его ухватить? Я читал очень интересную книжку, где он описан как ускользающий, как обмылок, как мокрый кусок мыла в бане – его не схватишь, он ускользает из рук. Только думаешь, что он здесь, а он в другом месте, он прыгучий, и отсутствие, как ты сказала, норм – это признак его прыгучести, одно из отличительных его качеств. Это тема? Тема.
А как он любил свою жену, это потрясающе, какие письма он ей писал… Ведь когда он ухаживал за ней, он писал по-французски… Вообще женщинам он всегда писал по-французски, французский язык был как бы элегантный язык, по-русски никто не писал. Но когда он женился, это был принципиальный его шаг, он стал писать ей по-русски. «Ну ты там что, моя родная, брюхата опять? Ты смотри, не перекинься без меня!» Он – гениальный литератор, он – гениальный художник, для которого французский родной, а с женой надо разговаривать по-русски. Он, я уверен, себя ощущал как великого русского писателя, поэтому с женой надо по-русски разговаривать. Этот русский язык довольно простоватый, специально даже простоватый, но он полон любви, полон. Единственное, он только не пишет ей никогда про творчество. Очевидно, это было ей не дано… Он вечером уходил, целый день проработав, она говорит: «Ты куда идешь?» – «К Хитрово иду, почитаю ей стихи». Она говорит: «Почитай мне». – «Нет, тебе это неинтересно». И уходил, представляешь? Он ей не читал стихи, а по письмам видно, что очень любил. Как это все в одном человеке? Это все ужасно интересно… Ты, Катя, понимаешь, к чему я клоню? Я же в твоей манной каше копаюсь… Но из этого всего набирай, набирай… и выбирай. Выбирай что-то одно.
Ты сказала, у него не было норм… Да, тема. Прыгучесть, работоспособность, видимая абсолютная легкость, отношения с царем… Если ты начнешь больше о нем читать, ты еще удивишься многому и многому. Что столетие его гибели, 1937 год, – когда была издана одна из твоих книжек, та, которая тебе понравилась, – это год начала Большого террора, это тоже какое-то странное совпадение. Потому что действительно они его сдали все, двор его просто сдал, просто сдал, даже друзья сдали, и он задохнулся, потерял юмор.
Пушкин и юмор. Вот картинка, которую ты показала… Пушкин стоит с Онегиным на гранитной набережной, опершись о парапет, около Невы. В этом же мультфильме, который ты показывала, стоят две фигурки, оперся, собственно, один – Пушкин. Он в шляпе боливар, оперся о гранит и стоит. А надпись читала? Не помню две первые строчки, а вторые две строчки такие: «Опершись <…> о гранит, сам Александр Сергеич Пушкин с мосье Онегиным стоит». Он нарисовал себя с Онегиным и сказал прямым русским текстом, чем он оперся об эту набережную. Он не может не пошутить. У него гон какой-то, гон стихов и юмора. Мне кажется, что последние три года он юмор потерял. Его достал и двор, и невозможность поехать в Болдино и писать стихи, у него гон просто такой был – поехать и писать, как у животного. Ему нельзя было – жена, двор, камер-юнкерство, еще этот самый Дантес, идиот в лосинах своих, Вронский скребаный, у которого просто нервы другого порядка, он просто солдафон, красавец, жеребец. И Наталья Николаевна почему-то его не отшивает, очевидно, этот поэт с неустоявшейся репутацией тоже ей как-то… ладно, не будем, не наше дело. Но недаром не сохранилось ни одного письма Натальи Николаевны, ни одного. Есть версия, что она их просто уничтожила. Его все сохранились, а ее – ни одного. Он последние два-три года просто потерял юмор и стал относиться к вещам серьезно, стал злиться, чего раньше никогда не было. И потерял свой волшебный защитный панцирь, который его хранил. И оставлял невредимым в десятках дуэлей. А сейчас он стал серьезный и злой. И пуля прошла.
Хржановский очень здорово поймал этот разговор с царем – вот тот кусочек, который ты показала. Этот могущий быть разговор с царем Николаем I: он бы сказал это, я бы ответил это, и у нас был бы такой разговор, и кончилось бы по-моему – ну, иди, Пушкин, ладно, иди отсюда, не морочь мне голову… Он начал то, что мы сейчас знаем, – длинную вереницу разговоров поэта с царем, с царями: разговор Сталина по телефону с Булгаковым, разговор Сталина по телефону с Пастернаком… Это магическая сила власти, под которую подпадали все русские писатели, которых эта власть не убила, а как бы на крючок подцепляла… Булгаков при всем своем уме всю жизнь ждал повторного звонка, которого так и не было. Это все, понимаешь, темы. Почему я про твои картинки начал говорить? Потому что ты там приняла решение: я вижу этот ужас вот так. Для меня это решение абсолютно сильного человека. Я не говорю, как ты умеешь пастелью хорошо красить и как ты композицию на листе железно строишь, я сейчас не об этом говорю. Я говорю, что ты приняла решение: я самые паскудные места в Москве вижу так, как будто я рисую голландские пруды в окрестностях королевского дворца. Будто это пригородный Версаль, такие нежные тона, такие штрихи, такой размер в конце концов. Я вижу за этим противостояние ужасу, в обстановке которого люди вынуждены жить, в этих безумных хрущевках или в каких-то белых многоэтажных домах, которые видишь, подлетая к Москве… Это принятое решение.
А карты? Когда я знаю, что Пушкин не помню какую, пятую, по-моему, главу проиграл в карты, ему нечем было платить на какой-то станции, он вынул рукопись и проиграл. А потом он всю жизнь хотел ее выкупить обратно, не удалось. Он ее проиграл. Карты и рукопись. Вот карты, страсть и вот эта рукопись черновая как бы вместе – Пушкин!
Это тот человек, которого игроки в карты брали с собой… Вот «Путешествие в Арзрум». Как он оказался в Арзруме? Он был невыездной, ему нельзя было из Петербурга выезжать, его игроки в карты взяли с собой: к ним не пойдут играть в гостинице, а к нему пойдут, он поэт, с ним сядут. С ними – нет, а с ним сядут. Он был подсадной уткой в этом путешествии. Он был по полицейскому ведомству известен не как криминальный антиправительственный поэт, а как знакомый притонов и игрок в карты, он был в этом списке не по политической линии, до того, как его Александр не отослал за оду «Вольность». Он жил абсолютно жизнью золотой молодежи. Онегин – это просто целомудренная девушка из благородного пансиона по сравнению с ним. Он жил как бы – не поворачивается язык – грязной жизнью. Как он это сумел совместить… Вот как Чехов – выдавил из себя раба. Как он, одновременно пиша вот такие грандиозные, но юношеские стихи про ножки-ручки, как он написал «Годунова», «Маленькие трагедии», «Руслана и Людмилу», «Медного всадника»?.. Как это все? Это человек-загадка. Как Пушкин стал Пушкиным? Тема! Все его последние стихи – про горечь старения, про горечь потери друзей, про предательство, про свою роль в истории. Вот как он вырулил? Его по инерции все считали шалопаем. Когда он умер и Жуковский разбирал его архивы, Вяземский, его ближайший друг, ближе не было, нашел там «Памятник», Пушкин же его не публиковал при жизни. Вяземский написал друзьям: «Подумать только, наш Пушкин – философ! Кто бы мог подумать!» До слез. Когда ближайшие друзья его считали просто «пшик», ну хороший, очень хороший писатель, но «пшик» как бы, вертихвост… Вот как это все сочетается?
Представляешь, какая отчаянная смелость, безрассудство при этом… Как царь его спросил: «Где бы вы были 25 декабря?» – «Я был бы с теми, кого вы повесили, Ваше Величество…» Твою мать! Где это видано, где это слыхано!
Катя, тебе нужно выбрать, так же, как ты выбрала взгляд на свой дурацкий район – ты его возвеличила, понимаешь? Ты его оставила в искусстве. Изволь здесь отнестись с не меньшим уважением, и с не меньшей тщательностью, и с не меньшей ответственностью, и с не меньшей игрой, не меньшим пофигизмом, со всей дурью своей… Что-то, что тебя пронзает…
Может, ты сделаешь десять спектаклей про Пушкина и десять пространств? Тоже возможно, понимаешь? «Вы просите меня сделать пространство Пушкина? Дмитрий Анатольевич, это дурацкое задание, смею вам сказать. Могу сделать десять заданий, в одном он не умещается». И я подумаю: «Девочка понимает. Недаром она из своего района… Понимаю, не умещается в одном. Действительно, не умещается». Это тоже ход, слышишь меня?
Знаешь, у Боровского была декорация к «Товарищ, верь…» про Пушкина. Там было пять Пушкиных, и все читали… Две кибитки: одна, черная, летала, она была на таких, как корабль, лошадиных стропах привязана и летала, как занавес. И все пять Пушкиных на ней стояли и висели, как матросы на мачтах. А вторая – золотая, царская – стояла на месте. Только они были, как два корабля, они и были игровые площадки. Это он сделал на отношении поэта и царя. Так как Таганка была такой политический театр, накрученный, то вот – поэт и царь. И пять Пушкиных в белых рубашках на этой черной кибитке, которая летает по сцене, – вот был образ, который они сделали. Пушкин? Пушкин. Чего-то там нет? Безусловно, нет. Все есть только в докторской диссертации, но это не театр. Театр – это что-то одно. В моем спектакле «Сережа» по «Анне Карениной» нет девяноста пяти процентов романа. И не надо. Я на пяти процентах сделал спектакль. Я сейчас в Америке с режиссерами занимался, я им давал те же предметы, что и вам. Только я условие поставил: надо удивиться чему-то, и удивиться чему-то одному.
Возьмите себе за правило удивиться чему-то одному, но очень сильно и возвеличить это сильное удивление в театральное представление, в театральный маленький этюд, в образ. Одно, не берите два… Пушкин кажется: ой, елки, как же я буду, я такой маленький, а он такой большой, и как же я буду… И Толстой большой, все они большие такие! Даже меньший из этого списка все равно очень большой по сравнению с нами. Ну и фиг с ним. Возьмите одну ногу Пушкина, достаточно…
Скажите честно, что-то вам понятно? Я вас очень прошу, я очень страдаю от этого компьютера, когда я вас не чувствую. Самое дорогое между нами было, когда мы молчим, а здесь надо все время говорить. Когда это закончится, надо вернуться, чтобы ничего не поломалось и продолжалось дальше…
10 сентября. Вторая часть. После перерыва
Слушай, когда мы живем в такое время, когда между мужчиной и женщиной иногда уже нет разницы, какая разница между образом и метафорой? Все идет, понимаешь, по очень хрупкому пути. Только наше чувство подсказывает, это в лоб или не в лоб? А единственный способ узнать это – встать на место зрителя. Осмелиться встать на место зрителя своего произведения. Собственно, что делает художник, отходя от картины? Он должен в этот момент не просто смотреть, как желтое с синим он соединил, а он должен представить, как это будет смотреться рядом с Браком, Пикассо, Модильяни… «Да вроде ничего»… – и пошел вперед опять, понимаешь? Вот это оптика и есть. Чтобы видеть истину, нужно все время менять оптику… Бинокль – так-так, так-так… Ты будешь задаваться вопросом, с кем рядом ты будешь висеть. Не с сокурсниками же, а с музейными художниками. С кем? И чего там не хватает у тебя, чтобы висеть рядом с ними и не сгореть со стыда? Чтобы веревка от стыда не оборвалась, понимаешь? Чего там не хватает? Что у него более серьезно, чем у тебя?.. Это школа, это школа, которую можно проходить и без учителей. Важны критерии…
Вот я сейчас ставлю «Бориса Годунова». Там есть сцена, когда он говорит последний монолог свой, как нужно царствовать. Говорит своему сыну… Гениальная сцена просто: он умирает и говорит десять правил, как нужно управлять государством. Открывает собственно секрет, секрет, выстраданный мучительными годами на троне. Говорит семилетнему мальчику, который не понимает, конечно, того, что слышит, но сказать больше некому… Все остальные – холуи и мерзавцы… Эта сцена, как я ее решаю, состоит в том, что он Богу, который все время торопит, говорит: «Сейчас, подожди минуточку, сейчас я к тебе иду, но мне нужно…» Это на стихи ложится удивительно, просто я их не помню сейчас… Мне сын «дороже душевного спасения», понимаешь? И сыну: «Я сейчас умираю, я тебе скажу, как править государством…» И тут же: «Но он же молодой парень, как же он может что-то понять… Ты же поможешь ему?» – говорит он Богу. Дальше он делает так. Десять заповедей, там подсчет идет на пальцах рук этого мальчика, чтобы тот лучше запомнил – как считалочка… Этот мальчик сидит, семилетний мальчик… Отец говорит: «Значит, так. Среди бояр выбери самого главного, хоть Шуйского, военным дай Басманова, презри боярский ропот, казни отмени… на время… тебя благословят, а потом ты зажмешь… К иностранцам будь ласков…» И так он дает десять заповедей. Зажал одну руку – запомнил? Вторую руку взял, посчитал… Он успел ему дать ключ, как управлять государством. После чего оборачивается куда-то вверх: «Ну все, я готов…» Успел! Десять позиций – ключ. Он ключ ему дал, вот что. Это не просто монолог – он ему дает ключ, причем в момент, когда умирает. Понимаешь? Ключ. Это – ключ. Все, можно самому работать. На самом деле все остальное – это просто… Как я буду показывать сюда – все ясно (показывает на стену, где висит шкала). На самом деле это же вы сказали, я только записал – теперь все так и надо делать. Вы же хотите, чтобы это было так? (Хлопок.) Удар? Чтобы человек остановился? Да? Просто остановился для начала в своем беге? Тогда это – первое. Потом хотите, чтобы остановившийся человек не разочаровался в том, что он остановился? И не сказал бы «Фу, какая чушь!» и не пошел дальше, правда? А оставшись, получил вторые, третьи и четвертые смыслы? Да? Вот вам второе, третье и четвертое. И конечно, хотите, чтобы после этого наступил момент тишины и прозрения, собственно, то, ради чего все и делается, да? И чтобы это… это ваше изделие… было гармонично? И индивидуально? Чтобы ваши отпечаточки пальцев там остались?.. Вы хотите, чтобы человек, который остановился, подумал: «Господи, это же про меня…» Вы хотите, чтобы это было волшебно и ново и человек сказал бы: «Я не знаю, как это сделано, господи, я не знаю, как это сделано…» Вот вам пятое, шестое и седьмое. Вот и все. Вот на самом деле и все. Семь пунктов. Даже меньше, чем у Годунова… Я не помню, что ты у меня спросила?..
А метафора – это просто составная часть образа. Образ – это формула. Она очень простая: Е = mc
. Чего проще, ее легко запомнить. Но на этом мир стоит. А метафора – это составная часть образа. Метафорическое мышление – это когда вы смотрите на человека и видите: вот это у тебя пучок такой, на что-то это похоже… У меня сразу должно работать, я не могу смотреть на что-то, не думая, на что это похоже, с чем это сравнивать, потому что это поиски рифмы в жизни. Просто рифмы. Поэзия может быть хорошая, плохая, но она должна быть рифмованная. Мы сейчас исключаем белые стихи, да? Но она должна быть рифмованная. Художник должен научиться искать рифмы. Они скрепляют жизнь, не дают ей развалиться…
Желтое такси похоже на лимон. Правда, это неправильно, строго говоря, потому что такси, оно не похоже на лимон. Желтое такси другого цвета, это кадмий желтый средний, а не лимонный желтый, другой цвет, понимаешь? Но вообще, если сделать допуск, представь себе стихотворную строчку: «и она села в такси, похожее на лимон». Значит, он остался, она села, а у него остался вкус этого лимона. Ну, можешь себе представить это расставание? Вот тебе и метафора. Ты ищешь рифмы, поиски рифмы в жизни. Поиски аналогов… Это похоже на это, а это похоже на то, когда я смотрю на это, я думаю про то… Вы как бы сшиваете расползающуюся жизнь. Она без вас расползется, превратится в хлам. Это то, чем вы должны заниматься в тех вещах, которые я вам сейчас даю. Зачем вам родственники очечника? Я совершенно случайно нашел у себя десять старых очечников, не выкидывал почему-то… Затем, что вы смотрите на случайный, старый, потрепанный очечник, достойный помойки, и ищете ему рифму… То есть встраиваете его в мир, продлеваете ему жизнь, вынимаете из небытия. Мне неважно, кто этот очечник сделал, мне не прямые родственники нужны… Жизнь продлевается не родственниками, а образами… Вот когда ты, Валя, стала сдирать с него кожу под звук голоса Арсения Тарковского, читающего свои стихи, а очечник под черной оболочкой оказался такого беззащитного, серебристого цвета, вот тогда ты сделала его предметом, необходимым для понимания жизни, сделала его предметом искусства, то есть выполнила свою задачу. Или когда ты принесла, скажем, «родителей» вот этой золотой улитки, маленького сувенира, который я купил когда-то в Таиланде за три копейки. Она валялась, бедная, где-то за книгами, и «отец» ее оказался… Фараон! Вот это – метафора! Хотя Фараон же не родил улитку? Окстись! Но он ее отец, потому что золото рождает золото… И это более важно. Золото к золоту, понимаешь? Бедная родственница через века… Такси, увозящее ее от него, цвета лимона…
Знаешь, вот Саша Дыхне потрясающую историю сделала несколько лет назад. Здесь, на Поварской. Просто убийственную. Мы тоже поэзией занимались. У нее был Бродский, надо было выразить Бродского. Через образ. Мне говорят: «Вот сейчас, через две минуты надо спуститься вниз…» Ну мамочки… Сейчас спускаться… С шестого этажа… Спустился. Был вечер, стоит машина, и она рядом, Саша Дыхне. Она открывает дверь, говорит: «Садитесь». Я говорю: «Ты уверена?» – «Да, да». Я говорю: «Ну пока». Сел. Он поехал, я его не знаю. Это была одна из таких, загадочных историй… Вечер, огни, я куда-то еду, не знаю куда. Я только что простился с Сашей Дыхне. Я думаю: «Бродский… Интересно… Это вот прощание и езда в никуда…» Я его спрашиваю: «А вы не знаете, что должно дальше происходить?» Он говорит: «Я не знаю, там что-то около вас лежит». Я нащупал рядом что-то в газете, какой-то сверток, начал разворачивать – бутерброд с сыром, причем такой, из моего детства, это когда сыр к сыру, вот так плотно, как будто его в портфеле несли, такой школьный завтрак какой-то. Я съел бутерброд с сыром в машине. Огни… По-моему, даже дождь пошел… Он сделал круг по городу и вернулся к противоположному концу дома. Она меня там ждала… Знаешь, я вылез и со слезами к ней кинулся, говорю: «Саша, ты меня просто… размазала… Просто замечательно!» Бродский. Образ. Потому что понимаешь, что Бродский – это расставание и в неведомое… С женщиной – в город, со страной – на самолете… Вообще Бродский из многих частей состоит, но одна из основных его частей – это расставание и смирение перед неведомым. Это же известная его фраза, когда он приехал туда, он ходил по улицам и говорил: «Джозеф, только без этой моветошки, где моя Родина, что я потерял…» Но он-таки потерял… И в чужой стране. Вот что такое метафора. То, что я о такси рассказал, – это не метафора, потому что это сложносочиненная формула, это какая-то формула, состоящая… Она длительная еще, она театрально-длительная, и она работает как образ. Там ни одного слова про Бродского не было. Вообще. Ничего. Там не было Бродского, а было чувство Бродского. Потому что это один из немногих поэтов, который всю свою поэзию положил на расставание… Понимаешь, да?
Вот у Ани Гребенниковой был Пушкин. Вот этот стол, представьте себе скатерть до пола. Она говорит: «Дмитрий Анатольевич, надо залезть туда, под стол». И я полез. Маруся, я охренел: она напичкала туда еловых веток свежих, и там так пахло… И я залез туда, в темноту, и пахнет, и колется, все в ветках… Я оказался в лесу, в елках… Пушкин! Во-первых, под столом что-то детское, а во-вторых, пахнет Новым годом, праздником. Пушкин как праздник. Такой, знаешь, удар, укол… А второе, третье, четвертое – с Пушкиным она обошлась как Марина Цветаева: ба-бах, ба-бах, полезай под стол и увидишь Пушкина! Увидел! Кроме того, детские анекдоты матерные, первые мои, про Пушкина под столом тоже сюда пришлись… И вообще, то, что под столом, – это что-то детское. Пушкин как ребенок, я не знаю, ну прелесть… Точность и краткость этого. И все? Все тома Пушкина вот в этом? Залезай под стол и увидишь Пушкина? В этом какая-то провокация есть… Пушкин как провокация? – Бумс, я получил!
Или она, скажем, сделала еще «Каштанку» Чехова. По черной лестнице нужно было спуститься. Мы спускаемся, там на какой-то площадке между этажами стоит стул и еще стул, и на втором стуле стоит что-то накрытое одеялом. Вот нужно сесть, открыть одеяло, я открыл: там кастрюлька, нужно открыть крышку – и это вареная картошка в мундире. «Каштанка»! Так просто! Во-первых, это пахнет картошкой, то есть собакой. Это такой запах, собачий запах. Такой яркий, такой домашний запах, как пахнет мокрая собака… Потом кожура этой картошки, она абсолютно… ну она коричневая, не знаю, как такса… Это очень похоже было. Во-вторых, бездонность этих мыслей, которые наскочили, в-третьих, бездомность на черной лестнице… Где-то стоит какой-то неприютный стул с теплейшей, вкуснейшей картошкой. Это про Каштанку. Оба никому не нужны. Образ? Образ.
Крымов. Я не думал об этом, я не знаю, честно говоря… Я сейчас просто автоматически сделал жест – взял и разорвал. Ты спрашиваешь: «А как же пространство?» Я не знаю… Это надо думать… Надо просто дальше думать. И оно сделается! Оно сделается, если будет потребность закончить работу. Это же удовольствие думать… Думать, рассуждая. Вот ты задаешь простой вопрос: а как тут пространство? Я не знаю, я еще многого не знаю. И это доставляет мне удовольствие, что я не знаю. Значит, я, ложась спать, потушив свет, буду об этом думать. И придумаю в конце концов. Я столько вещей придумываю, и каждый из нас столько вещей придумывает, ну как-нибудь мы придумаем же это! Нет, так посоветуюсь с кем-нибудь. Придумаю как-нибудь. Как-нибудь.
И последнее, про вторую твою часть – харакири. Это вещь довольно скупая, харакири. Они не рвут флаги и не жгут их на улицах. Они запираются у себя дома, отсылают служанок, чистая одежда должна быть и острый нож. Садятся и делают это. И в каком случае они это делают? Когда оскорблена честь и нельзя по-другому смыть позор. Это как бы дуэль с самим собой, вернее, с тем человеком, который это сделал, а ты не можешь ему отомстить, обстоятельства так складываются. Это какое-то благороднейшее, жестокое, чинное действие, которое вызывает священный трепет. Здесь не до разрывания флагов… Это высокое качество события. А разрывание флага – это публичный дебош. В этом смысле это две вещи совершенно противоположные…
Я думаю дальше: вот пустая сцена, я пришел смотреть пьесу, называется «Закат». Выходит человек в кимоно, долго готовится. Если ты знаешь, – я как-то изучал это, читал, мне было интересно, я хотел в одну пьесу вставить, – это же целый ритуал, называется сэппуку. Это же целый ритуал – как встать, как сесть, как на колени, как отослать кого-то, кто тебе помогал. Нужно это делать в одиночестве, нужно лезвие замотать, чтобы не порезаться, провести справа налево, слева направо, по какой части, как провести… И вот я пришел на спектакль «Закат». Не Бабеля, а просто – «Закат», какой-то не известный мне «Закат». Я бы даже сделал, как в «Последнем императоре», недавно показывали по телевизору… Какие-то люди бегают, тазы тащат, одевают кого-то вдалеке, последняя еда, палочки – какой-то ритуал. Затем лезвие в тряпку и медленно-медленно взрезал себе живот. И упал. Закат, закат жизни. Необязательно, чтобы красный круг садился в море. Не в этом же закат. Не только в этом. Закат может быть и старость: старушка на лавочке – это тоже закат. Посмотри на ее фотографию в молодости, когда за ней бегали толпы гусар… Никто из вас пока не сделал закат как какую-то аллегорию жизни вообще… Даже термин такой есть – закат жизни…
Вот эти все рассуждения, которые я сейчас перед вами выбалтываю, к тому, что надо с самим собой разговаривать, когда больше не с кем. Да и вообще это полезно.
Как я сейчас прочитал у древнего мудреца, – не то что я его читаю, я читаю Юрия Олешу, но он его процитировал, – разговор с самим собой – это искусство, а разговор с другим человеком – это игра, это баловство. Вот надо с самим собой разговаривать. Истина, она появится при рассуждении. Я хочу, чтобы вы восприняли эту технологию. Очень советую. Вам же всегда интересно, вы спрашиваете у меня: а как вы придумываете? А вот так! На самом деле я начинаю рассуждать…
Схема, вот она: вы – здесь, а задача – здесь. Не идите сразу туда, не идите прямо, начните ходить, ходить, нюхать воздух, думать… Вот тогда вы придете к решению задачи, обогащенные этим хождением. Когда-то придете, все равно придете, вас это будет манить, вы будете испытывать притяжение, находясь в отдалении, вы не потеряете цель из виду. Вы будете испытывать напряжение, находясь здесь – такое, находясь поблизости – такое… Даже когда вы здесь, рядом, не подходите, отойдите, наоборот, и вас потянет обратно. Понимаете, про что я говорю, да? Это и есть рассуждение, принюхивание, вы придете богатые, когда вы увидите, что вокруг, прочувствуете какие-то варианты, что-то отбросите… Это мой способ, он вам поможет.
Ну ладно, мы так долго говорим… Это вам просто так – для рассуждения. Мое рассуждение – вам на рассуждение. Ну ладно, пока, до завтра.
18 ноября
…Как только вы берете «Гамлета» и начинаете решать сразу все существующие там сложности, – весь ворох вопросов набрасывается на вас, валится на вас, как пыльные балки на старом чердаке. Это все равно что вы без компаса, без снаряжения входите в лес. Вот вы входите в этот лес и там гибнете… Это может быть по глупости, а скорее всего просто от страха. И от того, и от другого можно погибнуть.
Поначалу надо только не пугаться пьесы, вот просто не пугаться. Воспринять Гамлета как закат. Мы ведь делали закат? Мы делали Бога, мы делали ангела… делали нежность… Но ведь в «Гамлете» нет заката, и нет Бога, и нет ангела, нет Библии… Что мы еще делали?.. Там нет… моря. Там есть всего понемножку. И Бог какой-то странный. Библии нет, но вроде тоже где-то витает. Нежность есть, конечно, но какая-то странная нежность, потому что он отказывается от этой нежности, оскорбляет ее… Там все очень странно, там всего понемногу, это больше всего похоже на не очень развитое наше задание, которое почему-то не стало у нас получаться и мы его оставили. Задание было – взять в жизни общую картину и что-то в ней там увидеть. Сфотографировать общим планом улицу или пейзаж… и какое-то решение принять, глядя на эту жизнь, глядя на реальность, принять какое-то решение. В жизни есть все – и длинное, и короткое, и черное, и голубое, а вам нужно принять решение. Потому что без решения это хаос. В чем сложность? Восход есть восход, он на тебя (хлопок) так вот – в лоб. Ангел есть ангел, просто нужно немножко представить себе ангела, твоего ангела. Это же ваш выбор – и все. Злой ангел, летающий, сидящий, пьющий, я не знаю, эфемерный, белый, черный, в полосочку, детский, взрослый, стариковский, ангел рождения и ангел смерти… Какой угодно. А тут уже написано, тут вам уже написали, жизнь написала или Шекспир… Кто-то написал вот эту сложную картину улицы, пейзажа или Гамлета. Вам нужно ее прочитать и принять решение. Это силовое решение. Это усилие воли – видеть так, а не иначе. Надо из множества выбрать одно. Из множества впечатлений, которые дает пьеса, выбрать одно – оно и станет тем чувством, которое вы не сдадите. Не захотите сдать, хоть вас расстреляют! И там уже, хочешь не хочешь, вы должны будете это чувство провести через все сложности своего разума, опыта, умений, разума другого человека, режиссера, директора театра… Вы проведете его через все это. Вы сделаете его в четырех актах или в одном акте, все равно это чувство должно вами руководить. Это самое главное.
Это ты сделала лампочку, Маш? Вот ты этим сказала: я не хочу делать радостный восход, восходы же бывают разные, вот настроение у меня такое, вот это мой восход, когда такое настроение, я не хочу делать ни красный, ни радостный, птицы поют – не хочу, мне не интересно. Я хочу вот такой: опускаю в грязный стакан свой iPhone с зажженной этой мертвенной лампочкой – и все! Восход в Питере! Мой восход. Так же и с пьесой. И не нужно сдаваться, не нужно делать радостный восход, если ты такая и твой восход такой, понимаешь? Пьеса большая: и Полоний прячется за ковром, и море шумит где-то рядом, и Призрак, и много народа. А черт с ними со всеми! Гамлет – это мертвенная лампочка телефона, опущенная в грязный стакан с неотмытыми после живописи белилами. Ты как раз и должна рассказать то, чего никто не знает и не ожидает. Вы думаете, Гамлет такой? Вот вам! Не буду я этого делать, даже смотреть в эту сторону не буду, мне противно… Гамлет другой, вот какой! Все так – опа! Нужно свежее почувствовать. Нужно почувствовать свежее, тогда у тебя будут свежие мысли, ты свежими мыслями проверишь свои свежие чувства, свежо это сформулируешь и свежо сделаешь. Это идет с самого начала. Вначале должно быть чувство противоречия миру, который «знает», что такое Гамлет. Нельзя допустить, что «восход» у нас хороший, а как доходит до «Гамлета», начинаются какие-то кружевные фартуки, какая-то земля, какой-то лысый человек что-то говорит, тут какие-то дочки, думаешь, а пошли они все к такой-то матери со своими королями лирами и гамлетами… Лампочка в грязном стакане! Сначала, может быть, нет, то есть наверняка даже сначала нет. И вдруг – да! Такое радостное да! Это открытие, это разновидность открытия, понимаете? То, чем мы занимаемся, – это есть разновидность научного или художественного открытия. Каждый спектакль должен быть открытием. Не надо говорить то, что люди уже знают. Надо противоречить этому, найти другое в этом и открыть им мир. Они приходят в театр, чтобы узнавать мир с другой стороны. Они приходят даже неосознанно, но именно за этим, особенно в России…
Сделаю паузу в теоретических изысканиях… Это все интересно?
Катя. Пушкин
Катя. У меня дома есть красный трехтомник Пушкина и маленькая книжка, совсем маленькая, «Евгений Онегин». Когда я читала в большом издании, у меня было странное школьное ощущение такое же, как у меня было, когда я готовилась в школе к докладу… Все ассоциации, которые приходили, были настолько клишированные… А вот это маленькое издание 1937 года, оно такое, какое и должно быть. (Показывает на экране работу художника Дмитрия Гутова – вязь букв и слов из гнутой проволоки.) Все мы знаем рисунки Пушкина рядом со стихами, и это очень ассоциируется с тем, как Дмитрий Гутов делал из проволоки буквы, и почему-то именно от этих работ есть какая-то ассоциация с Пушкиным. Потому что это вроде бы так легко сделано, но если вы когда-нибудь из проволоки сгибали что-нибудь, то понимаете, насколько это тяжело. В этом есть сила, это легко, но при этом внушительно…
А еще я хотела рассказать, что когда ты читаешь истории про Пушкина, то постоянно натыкаешься на сверххвалебные «Пушкин – наше все». Да, конечно, Пушкин – наше все, и человек вошел в историю, но при этом ты читаешь очень странные вещи про него. Я нашла интересную историю с императором. Когда Пушкину было два года, как гласит история, он убежал от няни, это было в Зимнем саду…
Крымов. Он картуз не снял, и царь сделал замечание няне…
Катя. Да… И когда я пытаюсь изучить отношения Пушкина и Александра I, то не понимаю: он то пишет про декабристов, а то пишет хвалебные стихи про императора, который, собственно, этих декабристов повесил… Какие-то вечные перепады. Это какой-то вечный поток. Впечатление, что у него не было устоявшихся норм. Он может и там, и там, и так, и так… А еще вот… (Рассказывает о встрече с Державиным в лицее. Потом показывает отрывки из мультфильма Хржановского по мотивам рисунков Пушкина.)
Крымов. Катя, это все прекрасно. А теперь надо выбрать. Что я могу сказать по поводу этой прекрасной манной каши, еще и с фруктами разными, которую ты разлила по столу и пытаешься собрать? Хорошо, что у тебя она есть, и хорошо, что у тебя есть фрукты. Если тебе удобно на столе это все разлить, чтобы посмотреть, что у тебя есть, – ладно, пусть так. Но теперь надо выбрать. Выбрать самые вкусные фрукты. А кашу убрать. И ты это умеешь. Например, твои картинки, с которыми ты поступала, вот эти промышленные зоны Москвы, странные дома, пустыри какие-то… Вот я так представляю: ты на это смотришь, смотришь на то, что я очень хорошо знаю. Я не живу в таком районе, но я знаю, о чем ты говоришь. Эти виды навевают на меня упадническое настроение. Там все разное, но все такое одинаковое. Я вижу в них антиэстетику, я вижу в них катастрофическое подавление всего, что может радовать глаз, какой-то тотальный бетон на тотальной траве, на тотальном асфальте. Все какое-то тотальное… И вот появляется какая-то девочка, которая не выговаривает двадцать пять букв из тридцати трех, симпатичная, которая почему-то принесла огромные листы бумаги. Ей не хватило одного листа большой бумаги, она их соединила, чтобы запечатлеть это «тотальное», – это я тебя описываю – и сделала пастелью огромные, очень красивые картины этих мест, превратив их в какие-то удивительно привлекательные пейзажи, очень нежные, очень атмосферные, очень композиционно построенные, странные… Я думаю: боже мой, я же этого не вижу ничего, она меня убедила… Кто это такая? Честно говоря, я сейчас открою секрет, я так боялся, что ты второй раз не придешь… Ты ушла, а я думаю: а может, она исчезнет с такими картинками? Сейчас не о том, что ты хорошая, я сейчас хочу, чтобы что-то важное осталось в твоей голове, чтобы ты не возила манную кашу по столу. Вот там, в тех листах, о манной каше речи нет. Каким образом тебе это удалось сделать? Ты приняла решение. Там ты почему-то накладываешь на этот ужас Господень, на все эти бетонные сооружения и бредовые заборы какой-то даже оптимизм… Оптимизм красоты. Ты из абсолютно нехудожественной помойки делаешь художественную картину, это твое решение, уж не знаю, сознательное или несознательное.
Конечно, рисовать – это одно. Придумать театр – это другое, это сложнее. Там есть только ты, твоя рука, и она, может быть, сама подсказывает тебе, кто ты есть. А здесь более сложная штука, но, в принципе, то же самое – нужно принять ответственность за какое-то свое решение. И принять самой, не передоверяя руке, даже своей. В театре должно быть сознательное. Художник – сейчас скажу грубую вещь, хотя отчасти правдивую, – может быть неумным, а театральный художник должен быть умным. Что значит умным? Он должен уметь переварить всю огромную и подавляющую подчас информацию и выдать свое решение. Там в картинках… И я не понимаю, как, как ты это делаешь, пастелью еще, которую ветер сдувает… На улице, пастелью, на таком огромном размере, такой ужас сделать так красиво и так нежно… Я не понимаю! Не понимаю и преклоняюсь. Ты решила посмотреть на этот ужас и увидела красоту. Может, и неосознанно, но приняла решение. Так и здесь надо. Только осознанно.
Все темы, которые ты затронула, огромны, ведь Пушкин – это буквально «наше все». Это действительно наше все, за каждой из этих тем стоит огромный пласт того, из чего мы состоим. Как Ахматова сказала, что Пушкин дал пример русским мужчинам, как себя вести с царем, с женщинами, с женой, с картами, с жизнью, с дуэлью, с честью и со смертью.
Вот с царем – никогда и никто, ну, Фонвизин немножко и Радищев сильно, но недолго… Но так долго и так показательно никто из писателей, из дворян, ну как бы из будущей интеллигенции, тогда такого понятия еще не было… Но он, в общем, родоначальник интеллигенции. Он создал русскую литературу, он впервые стал профессиональным писателем. Он начал писать за деньги. Ни Жуковский, ни Карамзин, они никогда за деньги не писали, это была блажь аристократии. Он создал профессию писателя. Он создал гордость писателя. И как он общался с царем, все его перипетии с царем, которые начались, действительно, с того, что он картуз не снял, – это огромнейшая тема.
Это огромная, очень интересная, рискованная тема. Царь ведь действительно повесил его друзей, пятерых человек, они все были его друзья, а потом послал за ним фельдъегеря, имел с ним двухчасовую беседу, и он вышел и написал стихотворение во славу этого царя. Он в общем-то их предал. Потом он написал послание в Сибирь, а потом он написал против поляков, потом еще – за царя, а потом еще – против царя… Где его ухватить? Я читал очень интересную книжку, где он описан как ускользающий, как обмылок, как мокрый кусок мыла в бане – его не схватишь, он ускользает из рук. Только думаешь, что он здесь, а он в другом месте, он прыгучий, и отсутствие, как ты сказала, норм – это признак его прыгучести, одно из отличительных его качеств. Это тема? Тема.
А как он любил свою жену, это потрясающе, какие письма он ей писал… Ведь когда он ухаживал за ней, он писал по-французски… Вообще женщинам он всегда писал по-французски, французский язык был как бы элегантный язык, по-русски никто не писал. Но когда он женился, это был принципиальный его шаг, он стал писать ей по-русски. «Ну ты там что, моя родная, брюхата опять? Ты смотри, не перекинься без меня!» Он – гениальный литератор, он – гениальный художник, для которого французский родной, а с женой надо разговаривать по-русски. Он, я уверен, себя ощущал как великого русского писателя, поэтому с женой надо по-русски разговаривать. Этот русский язык довольно простоватый, специально даже простоватый, но он полон любви, полон. Единственное, он только не пишет ей никогда про творчество. Очевидно, это было ей не дано… Он вечером уходил, целый день проработав, она говорит: «Ты куда идешь?» – «К Хитрово иду, почитаю ей стихи». Она говорит: «Почитай мне». – «Нет, тебе это неинтересно». И уходил, представляешь? Он ей не читал стихи, а по письмам видно, что очень любил. Как это все в одном человеке? Это все ужасно интересно… Ты, Катя, понимаешь, к чему я клоню? Я же в твоей манной каше копаюсь… Но из этого всего набирай, набирай… и выбирай. Выбирай что-то одно.
Ты сказала, у него не было норм… Да, тема. Прыгучесть, работоспособность, видимая абсолютная легкость, отношения с царем… Если ты начнешь больше о нем читать, ты еще удивишься многому и многому. Что столетие его гибели, 1937 год, – когда была издана одна из твоих книжек, та, которая тебе понравилась, – это год начала Большого террора, это тоже какое-то странное совпадение. Потому что действительно они его сдали все, двор его просто сдал, просто сдал, даже друзья сдали, и он задохнулся, потерял юмор.
Пушкин и юмор. Вот картинка, которую ты показала… Пушкин стоит с Онегиным на гранитной набережной, опершись о парапет, около Невы. В этом же мультфильме, который ты показывала, стоят две фигурки, оперся, собственно, один – Пушкин. Он в шляпе боливар, оперся о гранит и стоит. А надпись читала? Не помню две первые строчки, а вторые две строчки такие: «Опершись <…> о гранит, сам Александр Сергеич Пушкин с мосье Онегиным стоит». Он нарисовал себя с Онегиным и сказал прямым русским текстом, чем он оперся об эту набережную. Он не может не пошутить. У него гон какой-то, гон стихов и юмора. Мне кажется, что последние три года он юмор потерял. Его достал и двор, и невозможность поехать в Болдино и писать стихи, у него гон просто такой был – поехать и писать, как у животного. Ему нельзя было – жена, двор, камер-юнкерство, еще этот самый Дантес, идиот в лосинах своих, Вронский скребаный, у которого просто нервы другого порядка, он просто солдафон, красавец, жеребец. И Наталья Николаевна почему-то его не отшивает, очевидно, этот поэт с неустоявшейся репутацией тоже ей как-то… ладно, не будем, не наше дело. Но недаром не сохранилось ни одного письма Натальи Николаевны, ни одного. Есть версия, что она их просто уничтожила. Его все сохранились, а ее – ни одного. Он последние два-три года просто потерял юмор и стал относиться к вещам серьезно, стал злиться, чего раньше никогда не было. И потерял свой волшебный защитный панцирь, который его хранил. И оставлял невредимым в десятках дуэлей. А сейчас он стал серьезный и злой. И пуля прошла.
Хржановский очень здорово поймал этот разговор с царем – вот тот кусочек, который ты показала. Этот могущий быть разговор с царем Николаем I: он бы сказал это, я бы ответил это, и у нас был бы такой разговор, и кончилось бы по-моему – ну, иди, Пушкин, ладно, иди отсюда, не морочь мне голову… Он начал то, что мы сейчас знаем, – длинную вереницу разговоров поэта с царем, с царями: разговор Сталина по телефону с Булгаковым, разговор Сталина по телефону с Пастернаком… Это магическая сила власти, под которую подпадали все русские писатели, которых эта власть не убила, а как бы на крючок подцепляла… Булгаков при всем своем уме всю жизнь ждал повторного звонка, которого так и не было. Это все, понимаешь, темы. Почему я про твои картинки начал говорить? Потому что ты там приняла решение: я вижу этот ужас вот так. Для меня это решение абсолютно сильного человека. Я не говорю, как ты умеешь пастелью хорошо красить и как ты композицию на листе железно строишь, я сейчас не об этом говорю. Я говорю, что ты приняла решение: я самые паскудные места в Москве вижу так, как будто я рисую голландские пруды в окрестностях королевского дворца. Будто это пригородный Версаль, такие нежные тона, такие штрихи, такой размер в конце концов. Я вижу за этим противостояние ужасу, в обстановке которого люди вынуждены жить, в этих безумных хрущевках или в каких-то белых многоэтажных домах, которые видишь, подлетая к Москве… Это принятое решение.
А карты? Когда я знаю, что Пушкин не помню какую, пятую, по-моему, главу проиграл в карты, ему нечем было платить на какой-то станции, он вынул рукопись и проиграл. А потом он всю жизнь хотел ее выкупить обратно, не удалось. Он ее проиграл. Карты и рукопись. Вот карты, страсть и вот эта рукопись черновая как бы вместе – Пушкин!
Это тот человек, которого игроки в карты брали с собой… Вот «Путешествие в Арзрум». Как он оказался в Арзруме? Он был невыездной, ему нельзя было из Петербурга выезжать, его игроки в карты взяли с собой: к ним не пойдут играть в гостинице, а к нему пойдут, он поэт, с ним сядут. С ними – нет, а с ним сядут. Он был подсадной уткой в этом путешествии. Он был по полицейскому ведомству известен не как криминальный антиправительственный поэт, а как знакомый притонов и игрок в карты, он был в этом списке не по политической линии, до того, как его Александр не отослал за оду «Вольность». Он жил абсолютно жизнью золотой молодежи. Онегин – это просто целомудренная девушка из благородного пансиона по сравнению с ним. Он жил как бы – не поворачивается язык – грязной жизнью. Как он это сумел совместить… Вот как Чехов – выдавил из себя раба. Как он, одновременно пиша вот такие грандиозные, но юношеские стихи про ножки-ручки, как он написал «Годунова», «Маленькие трагедии», «Руслана и Людмилу», «Медного всадника»?.. Как это все? Это человек-загадка. Как Пушкин стал Пушкиным? Тема! Все его последние стихи – про горечь старения, про горечь потери друзей, про предательство, про свою роль в истории. Вот как он вырулил? Его по инерции все считали шалопаем. Когда он умер и Жуковский разбирал его архивы, Вяземский, его ближайший друг, ближе не было, нашел там «Памятник», Пушкин же его не публиковал при жизни. Вяземский написал друзьям: «Подумать только, наш Пушкин – философ! Кто бы мог подумать!» До слез. Когда ближайшие друзья его считали просто «пшик», ну хороший, очень хороший писатель, но «пшик» как бы, вертихвост… Вот как это все сочетается?
Представляешь, какая отчаянная смелость, безрассудство при этом… Как царь его спросил: «Где бы вы были 25 декабря?» – «Я был бы с теми, кого вы повесили, Ваше Величество…» Твою мать! Где это видано, где это слыхано!
Катя, тебе нужно выбрать, так же, как ты выбрала взгляд на свой дурацкий район – ты его возвеличила, понимаешь? Ты его оставила в искусстве. Изволь здесь отнестись с не меньшим уважением, и с не меньшей тщательностью, и с не меньшей ответственностью, и с не меньшей игрой, не меньшим пофигизмом, со всей дурью своей… Что-то, что тебя пронзает…
Может, ты сделаешь десять спектаклей про Пушкина и десять пространств? Тоже возможно, понимаешь? «Вы просите меня сделать пространство Пушкина? Дмитрий Анатольевич, это дурацкое задание, смею вам сказать. Могу сделать десять заданий, в одном он не умещается». И я подумаю: «Девочка понимает. Недаром она из своего района… Понимаю, не умещается в одном. Действительно, не умещается». Это тоже ход, слышишь меня?
Знаешь, у Боровского была декорация к «Товарищ, верь…» про Пушкина. Там было пять Пушкиных, и все читали… Две кибитки: одна, черная, летала, она была на таких, как корабль, лошадиных стропах привязана и летала, как занавес. И все пять Пушкиных на ней стояли и висели, как матросы на мачтах. А вторая – золотая, царская – стояла на месте. Только они были, как два корабля, они и были игровые площадки. Это он сделал на отношении поэта и царя. Так как Таганка была такой политический театр, накрученный, то вот – поэт и царь. И пять Пушкиных в белых рубашках на этой черной кибитке, которая летает по сцене, – вот был образ, который они сделали. Пушкин? Пушкин. Чего-то там нет? Безусловно, нет. Все есть только в докторской диссертации, но это не театр. Театр – это что-то одно. В моем спектакле «Сережа» по «Анне Карениной» нет девяноста пяти процентов романа. И не надо. Я на пяти процентах сделал спектакль. Я сейчас в Америке с режиссерами занимался, я им давал те же предметы, что и вам. Только я условие поставил: надо удивиться чему-то, и удивиться чему-то одному.
Возьмите себе за правило удивиться чему-то одному, но очень сильно и возвеличить это сильное удивление в театральное представление, в театральный маленький этюд, в образ. Одно, не берите два… Пушкин кажется: ой, елки, как же я буду, я такой маленький, а он такой большой, и как же я буду… И Толстой большой, все они большие такие! Даже меньший из этого списка все равно очень большой по сравнению с нами. Ну и фиг с ним. Возьмите одну ногу Пушкина, достаточно…
Скажите честно, что-то вам понятно? Я вас очень прошу, я очень страдаю от этого компьютера, когда я вас не чувствую. Самое дорогое между нами было, когда мы молчим, а здесь надо все время говорить. Когда это закончится, надо вернуться, чтобы ничего не поломалось и продолжалось дальше…
10 сентября. Вторая часть. После перерыва
Слушай, когда мы живем в такое время, когда между мужчиной и женщиной иногда уже нет разницы, какая разница между образом и метафорой? Все идет, понимаешь, по очень хрупкому пути. Только наше чувство подсказывает, это в лоб или не в лоб? А единственный способ узнать это – встать на место зрителя. Осмелиться встать на место зрителя своего произведения. Собственно, что делает художник, отходя от картины? Он должен в этот момент не просто смотреть, как желтое с синим он соединил, а он должен представить, как это будет смотреться рядом с Браком, Пикассо, Модильяни… «Да вроде ничего»… – и пошел вперед опять, понимаешь? Вот это оптика и есть. Чтобы видеть истину, нужно все время менять оптику… Бинокль – так-так, так-так… Ты будешь задаваться вопросом, с кем рядом ты будешь висеть. Не с сокурсниками же, а с музейными художниками. С кем? И чего там не хватает у тебя, чтобы висеть рядом с ними и не сгореть со стыда? Чтобы веревка от стыда не оборвалась, понимаешь? Чего там не хватает? Что у него более серьезно, чем у тебя?.. Это школа, это школа, которую можно проходить и без учителей. Важны критерии…
Вот я сейчас ставлю «Бориса Годунова». Там есть сцена, когда он говорит последний монолог свой, как нужно царствовать. Говорит своему сыну… Гениальная сцена просто: он умирает и говорит десять правил, как нужно управлять государством. Открывает собственно секрет, секрет, выстраданный мучительными годами на троне. Говорит семилетнему мальчику, который не понимает, конечно, того, что слышит, но сказать больше некому… Все остальные – холуи и мерзавцы… Эта сцена, как я ее решаю, состоит в том, что он Богу, который все время торопит, говорит: «Сейчас, подожди минуточку, сейчас я к тебе иду, но мне нужно…» Это на стихи ложится удивительно, просто я их не помню сейчас… Мне сын «дороже душевного спасения», понимаешь? И сыну: «Я сейчас умираю, я тебе скажу, как править государством…» И тут же: «Но он же молодой парень, как же он может что-то понять… Ты же поможешь ему?» – говорит он Богу. Дальше он делает так. Десять заповедей, там подсчет идет на пальцах рук этого мальчика, чтобы тот лучше запомнил – как считалочка… Этот мальчик сидит, семилетний мальчик… Отец говорит: «Значит, так. Среди бояр выбери самого главного, хоть Шуйского, военным дай Басманова, презри боярский ропот, казни отмени… на время… тебя благословят, а потом ты зажмешь… К иностранцам будь ласков…» И так он дает десять заповедей. Зажал одну руку – запомнил? Вторую руку взял, посчитал… Он успел ему дать ключ, как управлять государством. После чего оборачивается куда-то вверх: «Ну все, я готов…» Успел! Десять позиций – ключ. Он ключ ему дал, вот что. Это не просто монолог – он ему дает ключ, причем в момент, когда умирает. Понимаешь? Ключ. Это – ключ. Все, можно самому работать. На самом деле все остальное – это просто… Как я буду показывать сюда – все ясно (показывает на стену, где висит шкала). На самом деле это же вы сказали, я только записал – теперь все так и надо делать. Вы же хотите, чтобы это было так? (Хлопок.) Удар? Чтобы человек остановился? Да? Просто остановился для начала в своем беге? Тогда это – первое. Потом хотите, чтобы остановившийся человек не разочаровался в том, что он остановился? И не сказал бы «Фу, какая чушь!» и не пошел дальше, правда? А оставшись, получил вторые, третьи и четвертые смыслы? Да? Вот вам второе, третье и четвертое. И конечно, хотите, чтобы после этого наступил момент тишины и прозрения, собственно, то, ради чего все и делается, да? И чтобы это… это ваше изделие… было гармонично? И индивидуально? Чтобы ваши отпечаточки пальцев там остались?.. Вы хотите, чтобы человек, который остановился, подумал: «Господи, это же про меня…» Вы хотите, чтобы это было волшебно и ново и человек сказал бы: «Я не знаю, как это сделано, господи, я не знаю, как это сделано…» Вот вам пятое, шестое и седьмое. Вот и все. Вот на самом деле и все. Семь пунктов. Даже меньше, чем у Годунова… Я не помню, что ты у меня спросила?..
А метафора – это просто составная часть образа. Образ – это формула. Она очень простая: Е = mc
. Чего проще, ее легко запомнить. Но на этом мир стоит. А метафора – это составная часть образа. Метафорическое мышление – это когда вы смотрите на человека и видите: вот это у тебя пучок такой, на что-то это похоже… У меня сразу должно работать, я не могу смотреть на что-то, не думая, на что это похоже, с чем это сравнивать, потому что это поиски рифмы в жизни. Просто рифмы. Поэзия может быть хорошая, плохая, но она должна быть рифмованная. Мы сейчас исключаем белые стихи, да? Но она должна быть рифмованная. Художник должен научиться искать рифмы. Они скрепляют жизнь, не дают ей развалиться…
Желтое такси похоже на лимон. Правда, это неправильно, строго говоря, потому что такси, оно не похоже на лимон. Желтое такси другого цвета, это кадмий желтый средний, а не лимонный желтый, другой цвет, понимаешь? Но вообще, если сделать допуск, представь себе стихотворную строчку: «и она села в такси, похожее на лимон». Значит, он остался, она села, а у него остался вкус этого лимона. Ну, можешь себе представить это расставание? Вот тебе и метафора. Ты ищешь рифмы, поиски рифмы в жизни. Поиски аналогов… Это похоже на это, а это похоже на то, когда я смотрю на это, я думаю про то… Вы как бы сшиваете расползающуюся жизнь. Она без вас расползется, превратится в хлам. Это то, чем вы должны заниматься в тех вещах, которые я вам сейчас даю. Зачем вам родственники очечника? Я совершенно случайно нашел у себя десять старых очечников, не выкидывал почему-то… Затем, что вы смотрите на случайный, старый, потрепанный очечник, достойный помойки, и ищете ему рифму… То есть встраиваете его в мир, продлеваете ему жизнь, вынимаете из небытия. Мне неважно, кто этот очечник сделал, мне не прямые родственники нужны… Жизнь продлевается не родственниками, а образами… Вот когда ты, Валя, стала сдирать с него кожу под звук голоса Арсения Тарковского, читающего свои стихи, а очечник под черной оболочкой оказался такого беззащитного, серебристого цвета, вот тогда ты сделала его предметом, необходимым для понимания жизни, сделала его предметом искусства, то есть выполнила свою задачу. Или когда ты принесла, скажем, «родителей» вот этой золотой улитки, маленького сувенира, который я купил когда-то в Таиланде за три копейки. Она валялась, бедная, где-то за книгами, и «отец» ее оказался… Фараон! Вот это – метафора! Хотя Фараон же не родил улитку? Окстись! Но он ее отец, потому что золото рождает золото… И это более важно. Золото к золоту, понимаешь? Бедная родственница через века… Такси, увозящее ее от него, цвета лимона…
Знаешь, вот Саша Дыхне потрясающую историю сделала несколько лет назад. Здесь, на Поварской. Просто убийственную. Мы тоже поэзией занимались. У нее был Бродский, надо было выразить Бродского. Через образ. Мне говорят: «Вот сейчас, через две минуты надо спуститься вниз…» Ну мамочки… Сейчас спускаться… С шестого этажа… Спустился. Был вечер, стоит машина, и она рядом, Саша Дыхне. Она открывает дверь, говорит: «Садитесь». Я говорю: «Ты уверена?» – «Да, да». Я говорю: «Ну пока». Сел. Он поехал, я его не знаю. Это была одна из таких, загадочных историй… Вечер, огни, я куда-то еду, не знаю куда. Я только что простился с Сашей Дыхне. Я думаю: «Бродский… Интересно… Это вот прощание и езда в никуда…» Я его спрашиваю: «А вы не знаете, что должно дальше происходить?» Он говорит: «Я не знаю, там что-то около вас лежит». Я нащупал рядом что-то в газете, какой-то сверток, начал разворачивать – бутерброд с сыром, причем такой, из моего детства, это когда сыр к сыру, вот так плотно, как будто его в портфеле несли, такой школьный завтрак какой-то. Я съел бутерброд с сыром в машине. Огни… По-моему, даже дождь пошел… Он сделал круг по городу и вернулся к противоположному концу дома. Она меня там ждала… Знаешь, я вылез и со слезами к ней кинулся, говорю: «Саша, ты меня просто… размазала… Просто замечательно!» Бродский. Образ. Потому что понимаешь, что Бродский – это расставание и в неведомое… С женщиной – в город, со страной – на самолете… Вообще Бродский из многих частей состоит, но одна из основных его частей – это расставание и смирение перед неведомым. Это же известная его фраза, когда он приехал туда, он ходил по улицам и говорил: «Джозеф, только без этой моветошки, где моя Родина, что я потерял…» Но он-таки потерял… И в чужой стране. Вот что такое метафора. То, что я о такси рассказал, – это не метафора, потому что это сложносочиненная формула, это какая-то формула, состоящая… Она длительная еще, она театрально-длительная, и она работает как образ. Там ни одного слова про Бродского не было. Вообще. Ничего. Там не было Бродского, а было чувство Бродского. Потому что это один из немногих поэтов, который всю свою поэзию положил на расставание… Понимаешь, да?
Вот у Ани Гребенниковой был Пушкин. Вот этот стол, представьте себе скатерть до пола. Она говорит: «Дмитрий Анатольевич, надо залезть туда, под стол». И я полез. Маруся, я охренел: она напичкала туда еловых веток свежих, и там так пахло… И я залез туда, в темноту, и пахнет, и колется, все в ветках… Я оказался в лесу, в елках… Пушкин! Во-первых, под столом что-то детское, а во-вторых, пахнет Новым годом, праздником. Пушкин как праздник. Такой, знаешь, удар, укол… А второе, третье, четвертое – с Пушкиным она обошлась как Марина Цветаева: ба-бах, ба-бах, полезай под стол и увидишь Пушкина! Увидел! Кроме того, детские анекдоты матерные, первые мои, про Пушкина под столом тоже сюда пришлись… И вообще, то, что под столом, – это что-то детское. Пушкин как ребенок, я не знаю, ну прелесть… Точность и краткость этого. И все? Все тома Пушкина вот в этом? Залезай под стол и увидишь Пушкина? В этом какая-то провокация есть… Пушкин как провокация? – Бумс, я получил!
Или она, скажем, сделала еще «Каштанку» Чехова. По черной лестнице нужно было спуститься. Мы спускаемся, там на какой-то площадке между этажами стоит стул и еще стул, и на втором стуле стоит что-то накрытое одеялом. Вот нужно сесть, открыть одеяло, я открыл: там кастрюлька, нужно открыть крышку – и это вареная картошка в мундире. «Каштанка»! Так просто! Во-первых, это пахнет картошкой, то есть собакой. Это такой запах, собачий запах. Такой яркий, такой домашний запах, как пахнет мокрая собака… Потом кожура этой картошки, она абсолютно… ну она коричневая, не знаю, как такса… Это очень похоже было. Во-вторых, бездонность этих мыслей, которые наскочили, в-третьих, бездомность на черной лестнице… Где-то стоит какой-то неприютный стул с теплейшей, вкуснейшей картошкой. Это про Каштанку. Оба никому не нужны. Образ? Образ.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: