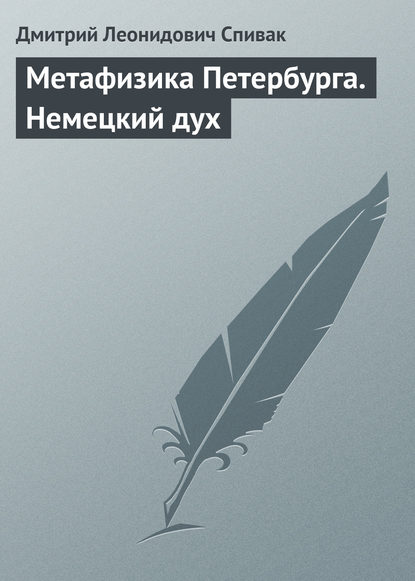По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Метафизика Петербурга. Немецкий дух
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Переговоры о мире велись в Москве, в самой неблагоприятной для ливонцев атмосфере. Впрочем, может ли корректная фразеология наших дней вполне передать колорит той далекой эпохи? Обратившись к Статейному списку посольских сношений, мы находим в своем роде замечательное описание, мимо которого грех было бы пройти стороной. Подробно описывая ход одного из парадных обедов 1503 года при дворе Ивана III, наш официальный хроникер отметил, что царь посылал потчивать посла венгерского, посла польского, а с ними посла литовского, и был с ними приветлив. Что же касалось "немецкого посла", то его "князь великий потчивати не посылал, не потчивал его никто"[98 - Цит. по кн.: Казакова Н.А. Русско-ливонские и русско-ганзейские отношения. Конец XIV – начало XVI в. М.-Л., 1975, с.236.]…
Последняя фраза особенно выразительна. Можно представить себе душно натопленные палаты московского государя, столы, заставленные всяческой снедью, виночерпиев, порхающих по зале, иронически улыбающиеся губы послов сопредельных держав и "открытые, пьяные лица" русских бояр, откровенно глумящихся над бледным ливонским послом, едва не падающим в обморок от оскорбления, весьма болезненного по тем временам, а впрочем, по нормам и современной дипломатической практики. Еще бы – посла сопредельной державы подвергают демонстративному унижению на приеме высшего уровня, при всем, как говорится честном народе и на глазах международной общественности, … Боже, какой позор. Такое запоминается надолго.
Мир все-таки был заключен в 1503 году. Согласно одной из его статей, Орден обязался выплачивать Великому князю Московскому ежегодную дань. Такой договор означал существенное ослабление положения Ливонии, и первый шаг на пути утраты ею своей независимости. Ну, а государи соседних держав обратили внимание на то, что в Восточной Прибалтике появился "больной человек", и стали внимательно следить за ходом его агонии, в надежде не упустить своей доли наследства.
Гербы "Великого герцога Московии"
"Есть ли на свете что-либо более устойчивое, чем семиотические архетипы", – таким вопросом задались мы несколько выше, и привели аргументы в пользу отрицательного ответа. К таким весьма сильным структурам и образам всегда относились, как писали у нас в старину, "с?мволы и емвлемата", в первую очередь государственные. Только на первый взгляд они отбираются волею герольдмейстера и утверждаются государем или урядником[99 - Мы здесь цитируем выражение из известного послания Василия III славному Бабуру, ставшему основателем династии Великих Моголов на территории современной Индии. Император Бабур предложил московскому князю установить дипломатические отношения. На это Василий отписал, что надобно еще выяснить, государь ли Бабур, либо же "государству своему урядник".]. Принятое этими лицами решение обычно лишь начинает работу, основная часть которой приходится на долю "народного духа", принимающего эмблему или отвергающего ее.
Отечественный читатель имел возможность следить за движением этого скрытого механизма в продолжение последнего десятилетия. Как отмечают многие наблюдатели, на настоящий момент остается не вполне ясным, приняло ли массовое сознание россиян государственные флаг и гимн, и в особенности его текст в последней редакции. Что же касается государственного герба, то здесь споры, кажется, улеглись. Да и что можно возразить против двуглавого орла, принятого у нас после женитьбы Ивана III на византийской царевне Софии-Зое в 1472 году, и ознаменовавшего преемственность власти Великого князя Московского по отношению к Византийской империи?
Двуглавый, или, как писали у нас в старину, "пластаный орел с опущенными крильями и двема коронами над главами", был действительно принят у нас во времена Ивана III в качестве государственной эмблемы набиравшей силу молодой державы московской. Первая из государственных печатей, на которых она появилась в этом качестве, была приложена к грамоте 1497 года. На ее лицевой стороне в красном воске был четко оттиснут старинный герб московских князей, сиречь святой Егорий на коне, колющий поверженного дракона. На оборотной же стороне мы и видим "пластаного орла" о двух головах, с лапами, еще свободными от держания государственных регалий.
Этой эмблеме было суждено славное будущее на российской земле, принята же она была под решающим воздействием государственной геральдики Священной Римской империи германской нации… "Ну вот", – скажет читатель, дочитав до этого места, – "Приехали! Если, ведя рассказ о "греческой" метафизике Петербурга, автор списывал все, что можно, на счет византийских влияний – то теперь, занимаясь разбором немецких влияний, он готов отдать Германии и древнюю нашу византийско-российскую эмблему!"
Нет, так прямолинейно ставить вопрос не имеет смысла. Что же касалось выбора российского герба, то его история была все же более сложной, чем это нам сейчас представляется. Исторически всадник, топчущий дракона конем, или, чаще, поражающий его копьем, был давнишней, известной тодашнему миру, эмблемой московских князей. В этом качестве, а именно, как "герб Великого герцога Московии" (arma Magni Ducis Moschoviae), он включался в западноевропейские гербовники XVI столетия, изображался и на портретных изображениях московских князей в европейских книгах.
Напомним, что культ святого Георгия пришел к нам из Византии, во времена еще Киевской Руси. Что же касалось изображения скачущего всадника, то он в ту эпоху ассоциировался с Восточной Европой, поскольку в различных вариантах служил эмблемой литовских князей, встречался на польских печатях, служил и гербом магистра Ливонского ордена. Принимая во внимание все эти обстоятельства, было бы естественным перенести старый московский герб на печати формировавшегося Московского царства.
Этому помешали сведения о Германской империи, и, в особенности, посольство 1489 года, о котором мы вкратце уже говорили выше. Московские князья ведь ценили лишь древнюю наследственную власть. До того времени, они знали лишь двух великих в полном значении этого слова царей, а именно, византийского василевса и хана монгольского, считая себя единственными законными преемниками обоих. При таком мировосприятии, шведские короли виделись худородными. Что же касалось магистра ливонского, так то была еле заметная мелюзга.
Кстати, отсюда происходит одна удивлявшая некоторое время историков закономерность. Вступая в официальные отношения с королем шведским, и заключая венчавшие их, в общем, важные для Руси договоры, русские цари поручали подписывать их … своему новгородскому наместнику. Так было в 1524, 1535, 1537 годах, случалось и позже. Формально цари имели на то право, поскольку заключенные договоры продолжали традицию более старых новгородско-шведских договоров. На самом же деле, эта формальная зацепка позволяла унизить шведского короля, указав ему место на уровне наместника одной из провинций Московского царства. Совершенно аналогично, и договоры с Ливонией продолжал подписывать новгородский наместник[100 - Подробнее см.: Хорошкевич А.Л. Русское государство в системе международных отношений конца XV – начала XVI века. М., 1980, с. 167–168.].
Две империи
Теперь, наконец, перед ликом московского князя предстал посланец равного ему по величию государя, главы Священной Римской империи, помазанника Божия, возводившего свою власть и достоинство к римским кесарям. На место "однополярного мира" с православной Московией в центре, наследующей все величие, какое было накоплено на земле, встала идея о "двуполярном мире", в западной части которого доминирует германский император, в восточной же – русский царь. В подтверждение высказанного предположения приведем два коротких примера.
Первый пример касается приватной аудиенции, которую Николай Поппель испросил у Иоанна Васильевича во время своего первого официального визита в Москву в качестве официального посла Священной Римской империи в 1489 году. Получив эту аудиенцию, посол предложил московскому государю от имени своего императора титул короля. При этом он добавил, что переговоры об этом нужно вести тайно.
Ведь, после коронования, новый король Московии станет в глазах Европы на равную ногу с королем Польши, а это в свою очередь даст ему полное право претендовать на древние русские земли, удерживавшиеся до того времени поляками. Интересно, что Иоанн Васильевич без колебаний отказался от такого коронования, поручив своим приближенным (скорее всего, дипломату – а кроме того, любителю "тайных наук" – Ф.В.Курицыну) передать послу, что он-де унаследовал свою державу от предков, а поставление на престол получил-де прямо от Бога – и другого поставления "как есмя наперед сего не хотели ни от кого, так и ныне не хотим"[101 - Цит. по: Лурье Я.С. Русские современники Возрождения. Л., 1988, с.125.].
Иными словами, германский император предложил московскому князю войти в сферу влияния Священной Римской империи, намекнув на возможность если не раздела Польши, то усиления России за ее счет. На это Иоанн III ответил, что он не планирует в будущем стать на равную ногу с королем польским, но является в настоящее время ровней, и не то, что ему, но самому императору. Первая точка зрения представляет однополярное видение христианского мира, вторая – двуполярного.
Второй наш пример связан с миром, завершившим русско-ливонскую войну 1501–1503 года. Мир этот, естественно, был заключен между Россией и Ливонией, однако в Москве его рассматривали на правах договора со Священной Римской империей в целом. Иными словами, в Москве предпочитали общаться не с вассалом, но с сюзереном – и были готовы отказаться от плана завоевания Ливонии, если это помогло бы установлению союзных отношений с германским императором.
В свою очередь, Максимилиан I замкнул свой слух для жалоб ливонского магистра по поводу обременительных условий договора 1503 года и нарастающей агрессивности московита. В ответ он сухо благодарил Орден за то, что тот уладил свои дела собственными силами, и рекомендовал в дальнейшем в меру возможности не обременять Империю своими трудностями. Как видим, и московский государь, и император германский выказали принципиальную готовность принести ливонские интересы в жертву более широким геополитическим планам.
"Имперский" двуглавый орел
Надо ли говорить, с каким вниманием в Москве разбирали титулатуру императоров Священной Римской империи германской нации и фразеологию их грамот, с каким интересом рассматривали форму булл (привесных печатей) и даже фасон платья посла. Не составляла исключения и эмблема власти германского императора, а ею служил двуглавый орел.
В ответ на вопросы русских бояр, немцы ответили, что принята она была не так давно, всего около полувека назад, то есть вскоре после восхождения на имперский трон династии Габсбургов. Что же касалось ее происхождения, то здесь основную роль сыграла не традиция, а, так сказать, логика. Дело состояло в том, что эмблемой королевской власти во многих землях Германии издревле служил одноглавый орел. Соответственно, власти императора – "короля королей" – естественно было поставить в соответствие орла о двух головах, и это было сделано[102 - К этому можно добавить и композиционные соображения. Орлы на гербах германских королевств смотрели одни в правую сторону, другие же в левую. При их совмещении воедино, в рамках одного поля, очертания крыльев или лап примерно совпадали, но голову приходилось раздваивать.].
Выслушав эти соображения, москвичи задумались, и пришли к весьма плодотворной идее. Конечно, двуглавый орел никогда не использовался в качестве эмблемы византийских императоров. Зато это изображение было широко известно у византийцев – и, что было самым важным, использовалось в гербе морейских деспотов, последний их коих, по имени Фома, и был отцом принцессы Софии, будущей супруги великого князя Иоанна III.
Таким образом, русский царь имел неоспоримое право на изображение двуглавого орла в своем гербе. С одной стороны, это согласовывалось с общей линией на преемственность его власти по отношению к Византийской империи. С другой стороны, та же эмблема прямо соотносилась с двуглавым орлом германского императора, что наглядно передавало идею равночестности царской власти на Руси, и императорской – в Западной Европе[103 - Подробнее см.: Соболева Н.А. Старинные гербы российских городов. М., 1985, с. 16–22; Хорошкевич А.Л. Европейские традиции в оформлении русской государственной символики XV–XVII вв. \\ Древняя Русь и Запад. М., 1996, с. 127–129.]. Последнее сопоставление укреплялось тем, что обе эмблемы были приняты по меркам того времени практически одновременно, так что никто не чувствовал себя ущемленным – равно как и тем, что оба монарха возводили свое родословное древо к императорам Древнего Рима.
Итак, мы имеем основание заключить, что начальный импульс к принятию эмблемы двуглавого орла был немецким, точнее – имперско-германским. Ну, а далее началось длительное, вполне уже самостоятельное развитие на Руси его иконографии – помещения на орлиной груди изображения св. Георгия, на крыльях – эмблем русских земель и княжеств, вложения в лапы скипетра и державы, и так далее, вплоть до освобождения орла от всех символов, включая короны, на монетах Временного правительства, и его отмены властью восставших масс.
В геральдике наших дней двуглавый орел получил новую жизнь. Практически утратив смысловую связь со старой Российской империей, его изображение, однако восстановило исторически первичную – и в этом качестве связанную с имперско-германским прообразом – ассоциацию с "великодержавной идеей". На очереди ее преобразование в "новую евразийскую идею" и сплочение на этой основе людей определенного психологического типа, чаще всего называющих себя в настоящее время "государственниками". Какой же символ сможет выразить фундаментальное для нее положение о двуединой природе евразийской цивилизации лучше, чем двуглавый орел?
Ну, а для петербуржца существенным будет и то, что эмблема, принятая в качестве государственной царями Московской Руси, нашла свое место и на гербе столицы Российской империи. Как мы помним, со времен графа Санти в центре герба Санкт-Петербурга, поверх двух серебряных якорей, помещен золотой скипетр, увенчанный нашим традиционным "государственным двуглавым орлом".
Психологический тип новгородского купца
Новгород до последней возможности оберегал привилегии Ганзы. Переходя, под страхом оккупации московскими войсками, под руку короля польского, бояре древней северной республики настояли на включении в договор особой статьи, читавшейся так: "Двор немецкий тебе не подвластен: не можешь затворить его" (цитируем в карамзинской версии). С угасанием новгородской вольности, неизбежной стала и отмена ганзейских привилегий.
Насельники подворья св. Петра пережили оба московских похода на Новгород с величайшим волнением и дурными предчувствиями. Несмотря на это, поначалу ничего страшного с ними не произошло. Приехав принимать капитуляцию Новгорода зимой 1478 года, Иоанн III нашел время принять представителей Ганзы и успокоил бледных от страха купцов, выдав им грамоту, где подтверждал большинство их старинных привилегий. В 1487 году, был заключен первый полномасштабный русско-ганзейский договор. Внимание московской политической элиты тогда было направлено на литовские и татарские дела. Что делать с Ганзой, в Москве еще окончательно не решили. Вот почему и этот трактат сохранил основные черты "режима наибольшего благоприятствования" по отношению к ганзейской торговле.
Сама атмосфера переговоров изменилась довольно сильно. Историки уже обратили внимание, что это отразилось даже во вводной формуле к тексту соглашения. К примеру, старые договоры начинались примерно так: "Приехали немецкие послы в Великий Новгород … и руку взяли у посадника новгородского". Теперь же преамбула звучала совсем по-другому: "Приехали немецкие послы … и били челом"[104 - Казакова Н.А. Русско-ливонские и русско-ганзейские отношения. Конец XIV – начало XVI в. М.-Л., 1975, с.193.]. Первое указывало на равноправные отношения, в последней проведено верховенство московской стороны. Разница была, и более чем существенная.
Во время работы над условиями договора, Москва еще нуждалась в опыте и советах новгородских экспертов. После его заключения, их услуги стали совершенно излишними. Сразу же вслед за подписанием договора, в Москве было принято решение о выселении из Новгорода всех мало-мальски известных купцов. В течение одного 1487 года, город вынуждено было навсегда оставить около полусотни наиболее именитых купеческих семей, за ними последовали менее важные. А ведь они поколениями налаживали отношения с ганзейцами, изучали балтийский рынок. На место несчастных прибыли московские купцы, обосновались и быстро взялись за дело. Вот тут-то ганзейцы и познали на собственном опыте всю разницу между новгородскими и московскими купцами, как по психологическому типу, так и приемам ведения дел.
Новгородцы были ориентированы на немецкий рынок, раз навсегда согласились с торговой монополией Ганзы и были вполне удовлетворены собственной ролью ее факторов на обширных пространствах северных волостей Новгорода. Если добавить к этому присущее полноправному гражданину вечевой демократии умение постоянно искать компромиссы и находить их, сызмала выработанное у него уважение к органам власти своего государства и доверие к ним, то доминанты культурно-психологического облика новгородского купца станут нам в общих чертах ясны.
Что касается метафизической составляющей этого облика, то она может быть легко прослежена хотя бы по тексту былины о Садко. Разные ее варианты рассказывают об оборотистом, энергичном человеке, не сомневавшемся, что надо делать, получив в руки шальные деньги:
"А й записался Садке в купци да в новгородскии …
А й как стал ездить Садке торговать
да по всем местам,
А й по прочим городам да он по дальниим
А й как стал получать барыши да он великие".
В поисках своего счастия купцу довелось попадать в опасные положения. Тогда он не обиновался обращаться за помощью к потусторонним силам – причем, прибегая к терминам современной этнологии, к божествам как верхнего, так и нижнего мира. К примеру, в одной ситуации Садко обратился к царю Морскому (а это – чисто языческий персонаж), в другой попросил о помощи святого Николу Можайского (христианского покровителя мореплавателей) – и оба ему помогли, хотя и не без оговорок (сводившихся в каждом случае к "искупительной жертве").
Оговоримся, что сложение опорных структур мифа о Садко ученые относят к достаточно раннему времени, а именно к XII столетию. Прослеживается в нем и более древний пласт, типологически соотносящийся со средиземноморскими мифами о схождении героя в преисподнюю и возвращении оттуда – от античного певца Орфея до библейского пророка Ионы. И все же, приняв во внимание все эти обстоятельства, мы не должны забывать, что былина о Садко стала излюбленной у сказителей новгородского средневековья, превратившись, по выражению В.Г.Белинского, в подлинную "поэтическую апофеозу Новгорода".
Прдолжали ее сказывать и позднее, едва ли не до нашего времени (выше была процитирована сумозерская запись А.Ф.Гильфердинга 1871 года). Ну, а такая популярность могла быть в свою очередь порождена лишь глубоким соответствием предания о Садко мировосприятию купцов, а в большой степени – и всех обитателей средневекового Новгорода.
Психологический тип московского купца
Московские купцы исторически и психологически принадлежали к совсем другому миру. Выйдя в начале XIV столетия под покровительством монгольских властей на рынки Крыма, северной Персии, Поволжья, они пропитались духом Востока до мозга костей, усвоили его привычки и обычаи. Не случайно такие базовые для средневекового торгового лексикона слова, как "деньги", "товар", "пай", "базар" были заимствованы нами с Востока, чаще всего из тюркских языков, или при их посредстве.
"Деловая психология русского купца сохраняла глубокий левантийский отпечаток. Здесь мы находим мало капиталистической этики с ее упором на честность, предприимчивость и бережливость. На покупателя и на продавца смотрят как на соперников, озабоченных тем, как бы перехитрить другого; всякая сделка – это отдельное состязание, в котором каждая сторона рвется взять верх и забрать себе все призы"[105 - Пайпс Р. Россия при старом режиме \ Пер. с англ. М., 1993, с.271.].
Нужно оговориться, что гарвардский советолог сильно сгустил краски в приведенной цитате. Стремление перехитрить партнера, как мы в этом убедились выше, было присуще немецким купцам ничуть не в меньшей степени, чем их персидским собратьям. Что же до честности, то твердое слово порядочного человека ценилось в те времена – как, впрочем, и в наши дни – на Востоке ничуть не менее, чем на Западе. Однако в том, что московские купцы принадлежали совершенно определенному, в основе своей ближне – и средневосточному культурно-психологическому типу, не приходится сомневаться.
Одной из доминант татаро-монгольской цивилизации была крепкая государственность, причем весьма своеобразного типа. С одной стороны, власть обеспечивала примерный порядок на рынках и постоялых дворах, на городских улицах и торговых путях. Всюду стояли гарнизоны, сновали конные разъезды. В принципе все улусы были охвачены курьерской службой. Достаточно рано на ее основе была организована регулярная перевозка людей и товаров, приобретшая в русской истории известность под именем "ямской гоньбы"[106 - Отметим, что "ям", в значении "почтовая станция" (или "почтовые лошади") – также тюркское слово, отсюда и наше "ямщик". От этой "ямской гоньбы" произошла по прямой линии и наша позднейшая "ямская служба", связывавшая воедино российские губернии еще во времена Пушкина. Вообще, фактически все важнейшие ордынские институции без больших изменений перешли от монгольских ханов – к московским царям.]. Неукоснительно взимались налоги, включая торговую пошлину[107 - Факт ее уплаты подтверждался особой печатью, носившей у татаро-монголов наименование "тамга". Отсюда и современное русское слово "таможня", а кроме того, скорее всего и "деньги" (хотя этимология последнего слова отнюдь не так прозрачна, как может показаться на первый взгляд).].
С другой стороны, власть неуклонно стемилась ободрать тяглое население как липку, и ей была решительно чужда даже тень заботы о благосостоянии общества в целом. Вопрос об этом в принципе не мог быть поднят, поскольку любая попытка диалога между обществом и властью, не говоря уже об отдельном человеке, пресекалась незамедлительно и с примерной жестокостью, да никому не могла и прийти в голову.
Вот почему московский купец научился бить челом любой власти и выказывать ей все мыслимые знаки покорности – с тем, чтобы в другое время обходить начальство за три версты, пряча от его очей свои накопления пуще, чем от разбойников, не ожидая от него особой помощи, да и не надеясь на нее. Надо ли говорить и о том, что, вдоволь натерпевшись от власть предержащих, тот же купец совсем не прочь был упереть руки в боки, встретившись с более слабым партнером, и отыграться на нем за все свои обиды и унижения. Если же мы добавим к сказанному, что московские купцы впитали весь этот суровый, но вполне жизнеспособный строй общественной жизни с молоком матери, прикипели к нему душами, не знали, да и не хотели знать никакого другого, то доминирующие черты их культурно-психологического облика приобретут для нас известную определенность.
Первоначальное понятие о метафизической стороне этого облика мы можем составить по путевым запискам тверского купца Афанасия Никитина, совершившего свое знаменитое путешествие в 70-х годах XV столетия. Следует сразу оговориться, что Тверская земля была формально присоединена к Москве лишь в 1485 году. Однако тверское купечество вошло в орбиту московского мира значительно раньше указанной даты. Как явствует из текста Хожения за три моря, часть своего пути наш герой прошел с караваном московского посла – и тосковал на чужбине по земле, которую называл уже просто Русской. На основании наблюдений такого рода, в литературоведении прошлого сложилась даже тенденция взгляда на Афанасия как на "торгового разведчика" Иоанна III, которая, впрочем, в современной науке не получила поддержки.
Чистота православия "рабища Божия Афанасия", как он сам себя называл, довольно сомнительна. Судя по тексту Хожения, суть "правой веры" сводилась для купца к исповеданию одного, единого для всех Бога, а также к чистоте помыслов. Такая вероисповедная установка весьма облегчала контакты с неверными – в первую очередь, мусульманами, придерживающимися, как известно, единобожия, но далеко выходила за рамки того, о чем учила православная – а впрочем, любая христианская церковь той эпохи.
Надо думать, что собратья тверского купца были все же более тверды в вере. Впрочем, нельзя забывать и о том, что так называемая "ересь жидовствующих" была тогда уже при дверях, а ставший ее приверженцем посольский дьяк Федор Курицын пользовался величайшим доверием своего господина, Великого князя Московского Ивана III Васильевича. Как мы помним, вероучение еретиков сводилось в первую очередь к отходу от ортодоксального учения о св. Троице в сторону строгого монотеизма ветхозаветного типа.