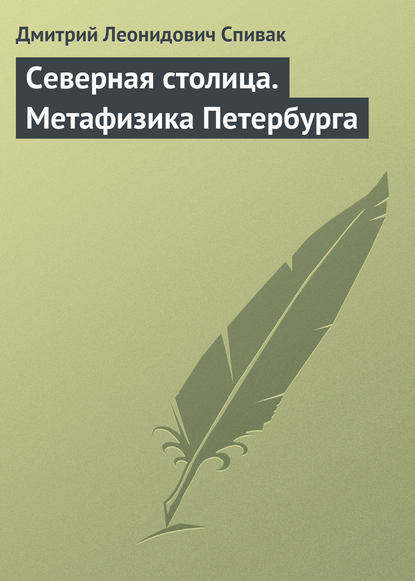По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Северная столица. Метафизика Петербурга
Год написания книги
1998
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Но наше основное внимание привлекают, конечно, образы рыб, и в первую очередь щуки. Гладкое течение «Калевалы» не раз вспенивается ее мощным хвостом, и каждый раз создатели древнего эпоса находят для щуки самые почтительные выражения. В одном случае она именуется «водяной собакой», в другом – «проворным и жирным пловцом», а в руне 19 щука становится вообще каким-то чудовищем: челюсть у нее – «с рукоятку грабель», а спина – «шириной с семь лодок». Это неудивительно – известно, что щука была священным животным финно-угорских народов.
Однако даже на этом фоне миф о похищении огня поражает своей причудливостью. Трудно представить себе что-либо более замысловатое, чем спрятать огонь в глубине вод. Посредником между этими враждебными друг другу стихиями, и хранителем огня становится священная рыба, точнее – цепочка таковых, проглотивших друг друга. Ученые давно предполагают здесь влияние еще более архаичной мифологии какого-то неизвестного древнего народа. Таким образом, составленный П.Аристэ список слов отнюдь не так прост, и говорит в пользу обмена сакральными ценностями между древнейшими обитателями нашего края.
К этому можно добавить и то, что русский народ со стародавних времен считал щуку за нечто вроде тотема Ладоги, а сига тем же манером связывал с Новгородом. В новое время это отразилось в так называемых «присловьях» – дразнилках жителей соответствующих мест. «Ладожане щуку с яиц согнали», – такое присловье иногда доводится слышать и в наши дни от поселян Ленинградской области. Что касается новгородцев, то кто же в старину не знал, что они «сига в Волхов столкнули» (Забылин 1990:578–579)… На том отступление можно прекратить, и вернуться в основное русло рассказа.
Мы оставили Новгород во времена его могущества и славы – в XIV столетии по рождестве Христовом. Дальше был еще не упадок, но признаки кризиса обнаруживались все явственнее. «Ужели Волхов твой не Волхов прежних лет?» – вопрошал М.Ю.Лермонтов гения-покровителя древнего города. Увы, не тот! Яжелбицкий договор 1456 года поставил на новгородских вольностях жирный знак вопроса, а последовавшие за тем походы полчищ Ивана III решительно перечеркнули их. Новгородские земли были присоединены к Москве.
Причины возвышения великого князя московского были не вполне ясны даже современникам. У позднейших историков тут тоже осталось много вопросов. Как бы то ни было, в русских землях возник новый мощный центр, и располагался он уже на северо-востоке, в междуречьи Оки и верхней Волги. Посмотрев на карту XV века, мы увидим, что исходно московские земли были очень невелики, а направления их расширения были перекрыты с севера владениями Новгорода, с запада – великим княжеством Литовским (было время, когда его граница проходила между Вязьмой и Можайском), а с востока и юга – воинственными поволжскими народностями финно-угорского корня, вроде мордвы и черемисы (марийцев), и конечно, татарами. Рассматривая положение Москвы, историки рисуют как бы образ туго завязанного мешка, в котором более слабый народ просто задохнулся бы. «Масса русского населения, скучившись в центральном междуречьи, долго не имела выхода отсюда», – подытожил В.О.Ключевский (цит. по: Замятин, Замятин 1993:38).
Опечаток этого (и более раннего) положения сохранился на наших картах по сей день. Многие географические названия центральной России имеют нерусское происхождение. В особенности это касается рек и озер. Так вот, к северу от Москвы преобладают западно-финские названия, к востоку – восточно-финские (точнее, берущие начало из языков волжской и пермской групп), к западу – балтийские и балто-славянские. Стройность картины нарушается многочисленными вкраплениями. К примеру, ученые спорят о загадочном «палехско-лухском языке», оставившем немало названий в окрестностях теперешнего Палеха. О нем накоплено немало любопытных предположений, которым, к сожалению, здесь не место. Для нас гораздо важнее то, что Москва была расположена на окраине древнего финно-угорского мира, и на свой лад продолжала некоторые его интуиции и практики.
Пальму первенства здесь следует отдать племенам так называемой дьяковской культуры, пришедшим в волго-окское междуречье на доброе тысячелетие раньше славян, и заселившим едва ли не все удобные мысы на Москва-реке. Было у них поселение, а скорее всего – укрепленный пункт и на месте будущего Кремля, примерно в районе позднейшей Соборной площади. Оценив удобство, предоставляемое для обороны холма двумя оврагами, глубоко врезавшимися в его основание, дьяковцы углубили связывавшую их промоину.
Другим местом, с которым можно связать их деятельность, было так называемое Старое поле – обширное пространство близ устья реки Неглинной, захватывавшее начальную часть теперешней Тверской улицы. По-видимому, здесь устраивались межплеменные сходки, связанные с отправлением правосудия, а может быть, и обменом (Посохин 1982:24–25,261). Пришедшие сюда племена вятичей переняли эти особо обустроенные, а возможно, и сакральные места, включив их в топографию позднейшей Москвы.
Словесность дьяковцев до нас не дошла, но большинство ученых склоняются к мысли об их финно-угорском происхождении. По-видимому, они дали начало таким хорошо известным древнерусскому летописанию народам, как меря и весь. Не следует забывать и о вероятности достаточно раннего присутствия в Подмосковьи, возможно – на территории будущей Москвы племен восточно-финского, прежде всего пра-мордовского типа, таких, как мещера. Ассимиляция их пришедшими сюда славянскими племенами вятичей была достаточно мирной, а в таких случаях передача сакральных ценностей имеет обыкновение проходить без особых препятствий.
Все это так; но сравнивать напрямую финское участие в устроении Москвы и скажем, Новгорода, было бы все же недопустимым. Дело в том, что славянских переселенцев пришло на берега Москва-реки сразу много, расположились они уверенно, и ассимилировали аборигенов по историческим меркам почти моментально. К тому же крупного центра у финских племен здесь все-таки не было; меря тянула к своему Ростову, весь – к Белоозеру, мурома – к Мурому…
Поэтому культурный облик Москвы сразу определился как однородный в этническом отношении. «Если в старой, западной или юго-западной Руси племенное деление имеет мало исторического значения, то в новой, северо-восточной Руси о племенах нет и помину. Летопись до прихода варяго-русских князей указывает здесь финские племена; но в половине XII века мы имеем здесь дело уже с славяно-русским народонаселением». Так писал в прошлом веке замечательный историк С.М.Соловьев (1989:221). Пересматривать этот тезис нашего замечательного историка нет никакой необходимости.
Не приходится спорить и с тем, что интересы политиков и фортификаторов московского периода все чаще оканчивались на берегах Оки и Волги, а потом и Оби (войска московского государя достигли ее устья к началу XVI века). Берега Невы и Наровы все более становились далекой западной провинцией. И тем не менее, в их освоении был сделан еще один решительный шаг. В 1492 году, в царствование великого князя Ивана Васильевича, на самой русско-ливонской границе, прямо против сумрачного нарвского замка Германа, была основана крепость Ивангород, или как ее сразу метко окрестили ливонцы, «контр-Нарва».
Новой крепости не суждено было стать ни столицей, ни даже крупным городом, но в ее истории бывали моменты, удивительно напоминавшие то, что потом происходило в Петербурге. Ивангород был поставлен на берегу большой реки, овеянной почтением местного чудского населения, по преимуществу эстонцев и води. Он был построен по приказу московского государя всего за один сезон, и с чрезвычайным напряжением сил (имеем в виду первоначальный квадрат на вершине Девичьего холма). По мнению историков архитектуры, Ивангород был первой в России строго регулярной крепостью. При построении его применялись западноевропейские новинки (Кирпичников 1983:82). И наконец, в названии города увековечено имя его державного основателя – Ивана III.
Пытаясь разглядеть, что происходит внутри русской крепости, ливонцы надстроили знаменитый «Длинный Герман» – высотную башню своего замка. В ответ московиты подняли еще выше стену своей крепости, мешавшую подглядывать снаружи. Тогда ливонцы снова надстроили свою башню. Вся эта история повторилась еще несколько раз… Однако Ивангород не был поставлен для проверки крепости нервов ливонских соседей, и даже не только ради обороны границы. Крепость была тут возведена в надежде закрепить и расширить выход России к Финскому заливу и Балтике. Как было со многими предприятиями Ивана III, решительный шаг в их проведении в жизнь был сделан его внуком – Иваном IV.
Течение ливонской кампании общеизвестно. На начальном, благоприятном ее этапе были взяты Нарва, Дерпт и целый ряд городов и крепостей Прибалтики. Ливонский орден был разгромлен и прекратил свое существование в 1561 году. Северные его земли, включавшие большую часть современой Эстонии, орден уступил Швеции, южные – великому княжеству Литовскому. В итоге на прибалтийской границе России встают еще более сильные соседи, сумевшие остановить ее продвижение к Балтике, а затем и захватить – пока на время – Ивангород, Ям и Копорье. Эта ситуация принципиально не изменилась на протяжении всего московского периода отечественной истории, и была оставлена им в наследство петербургскому периоду (а в некотором смысле оживилась и в наши дни, вместе с угрозой приближения НАТО к российским границам).
Прямое решение «балтийского вопроса» на берегах Невы и Наровы было весьма желательным, но им дело не ограничивалось. Московское правительство держало в своем кругозоре и окольный путь в Западную Европу – через Северную Двину, Белое море и дальше вокруг Норвегии. В царствование Иоанна Васильевича предприимчивые английские купцы (они так и звали себя – «merchant adventurers») разведали этот путь. В 1553 году их первый корабль бросил якорь в устьи Северной Двины. Была основана специальная компания, завязались регулярные торговые отношения. Все это придало вес русскому Северу. Выдвинулись на первый план такие города как Вологда. Известно, что Иван Грозный живал там, приглядывался, и даже подумывал о перенесении туда своей резиденции. Впрочем, расскажем обо всем по порядку.
Вологда искони принадлежала новгородцам. Они оценили удобство ее расположения на стыке бассейнов Белого моря, Волги, а по большому счету – и Балтики, и держались за нее вплоть до утраты независимости. Московские князья были рады такому приобретению. Иван III разместил здесь часть своей «государевой казны». С этой казной связан, кстати, забавный эпизод из семейной жизни самого государя. Как известно, вторым браком он был женат на византийской царевне Софии Палеолог, что оказало неизгладимое влияние на российскую историософию; был и наследник Васенька. По ряду причин супруга попала в немилость, а государь задумал сделать наследником другого (а именно Дмитрия, своего внука от первого брака). Вокруг Софии составился заговор, был добыт яд. Отравив царя, заговорщики планировали бежать на север, в Вологду, захватить там казну и действовать по обстоятельствам.
Заговор был раскрыт. Иван Васильевич отобрал яд у жены, после чего имел с нею крупный разговор, переоценил свое отношение к ней, и, как деликатно заметил один современник, стал жить от нее «в береженьи» (Лурье 1988:127). Оно и немудрено; любой муж на его месте озаботился бы мерами безопасности. Впрочем, шапка Мономаха не миновала сына Софии Палеолог: в свое время он взошел на московский трон под именем Василия III.
Василий Иванович княжил без малого тридцать лет. В 1528 году он приехал в Вологду на богомолье со своей второй женой, славной Еленой Глинской, «давал милостыню велию и потешение по монастырям и по град попом, а велел молиться о чадородии, чтоб дал Бог – отрод у него был» (Лукомский 1914:24). Бог был милостив, и в 1530 году на свет появился наследник – будущий Иван Грозный. Как видим, у него были все основания, чтобы предполагать свою духовную связь с Вологдой и ее чудотворцами.
Мы имеем в виду в первую очередь, конечно, насельников знаменитого Прилуцкого монастыря, приобретшего в свое время едва ли не общерусское значение. Башни монастыря еще стоят. Недавно он был возобновлен с большой пышностью, приезжал из первопрестольной и сам Патриарх. Поднявшись в перерыве между молебствиями на монастырскую стену, любитель истории мог охватить взглядом величественную излучину реки Вологды, давшую название монастырю, и дивные луга, немногим изменившиеся со времен Ивана IV; а он любил эти места всей душой.
Иван Грозный не раз наезжал в Вологду. Наиболее продолжительным было пребывание между 1566 и 1571 годами. Справившись с хронологическими таблицами, мы заметим, что этот период пришелся на самый разгар опричнины. Посмотрев на карту, мы видим, что Вологда была в самом центре земель, отписанных в опричнину (исключая периферийные наделы вроде «вотчины Строгановых»).
Как известно, опричнина была выделена из общего состава русских земель, получивших название «земщины». На территории, взятой в опричнину, практиковались массовые чистки, отрабатывались принципы будущего управления страной, формировались кадры новой администрации – «государевых служилых людей», шедших на смену боярству. Эти «новые русские» составляли своего рода орден с собственными представлениями о морали и особым, до конца пока неясным, типом мистицизма. Источником первостепенной важности остаются тексты, написанные Иваном IV для церковной службы в этой среде, в особенности канон Ангелу Грозному. Психологический аналог этой системе могли бы составить занимавшие германских стратегов XX века планы организации образцового эсэсовского государства в Бургундии. Но это сравнение, пожалуй, слишком смело.
Вводя новую систему, Иван IV думал о переносе своей резиденции на новое место, в своего рода «опричную столицу». Первенство в этом отношении принадлежало, разумеется, знаменитой Александровской слободе, расположенной между Москвой и Ростовом, но рассматривались и другие варианты – в первую голову Вологда. И не только рассматривались – под 1566 годом летопись отмечает: «Лета 7074, на Вологде при себе Великий царь и Великий князь Иван Васильевич повелел заложить град каменной. И его великого Государя повелением заложен град месяца апреля в 28 день на память святых апостолов Ассона (Иасона) и Сосипатра; от неких же и иные упоминается, якобы и наречен бысть град во имя святого апостола Ассона» (Лукомский 1914:26).
Постройка продвигалась быстро и споро. Если бы она продлилась хотя бы несколько десятилетий, то новооснованный град Ассон (или, как говорили в народе, Насон) мог оказать влияние и на судьбу будущего Петербурга. Как знать – ведь эта ветвь развития истории усохла в самом начале. Историки видят на то немало политических причин. Народ же связал дело с несчастным случаем на строительной площадке. С уже выложенного свода кафедрального собора будущей столицы сорвалась плинфа, и как будто задела царя, прохаживающегося внизу. Строительство было остановлено. Иван IV в гневе и смятении покинул собор, а вскоре и сам город, оставив Вологду ее провинциальной судьбе.
Под впечатлением этого события народ сложил песни, рассказывавшие о проклятии, наложенном Иваном IV на Вологду. Одна из них приводится у уже цитированого нами Г.К.Лукомского (1914:29). Любопытно, что царь рассматривается в ней как своего рода «властелин вод», насылающий их на город:
«От того проклятья царскова / Мать-сыра земля тряхнулася,
И в Насоне-граде гористоем / Стали блаты быть топучия;
Река-быстра славна Вологда / Стала быть водой стоячею».
Тут виден довольно архаический взгляд на стихии; сопоставление с мифологией наводнений «невской столицы» вряд ли будет вполне неуместным. Кстати, сама мысль устройства «запасной столицы» в Вологде содержала в себе неявную отсылку к смутному, но прочно укоренившемуся в народной памяти представлению о том, что в этих краях в старину был один из центров Руси. Историки знают, что с поведением Ивана Грозного нередко так дело и обстояло: там, где на поверхности просматривается лишь трезвый расчет с нередким привкусом злой игры, внимательный взгляд различает отблеск гораздо более глубоких мотивов.
Как сообщала летопись под 862 годом, придя на Русь, Рюрик сел в Новгороде, братьев же с родами и дружинами посадил: одного, Трувора, в Изборск, а второго, Синеуса, в Белоозеро. Расположенные почти на прямой линии, эти три города составили костяк рюриковой державы, и должны были рассматриваться в качестве трех центров Верхней Руси. Во времена Ивана Грозного с этой легендой был безусловно знаком любой образованный человек. Что же касается Вологды, то она лежала в непосредственной близости от Белоозера. Оттуда во времена Ивана IV в Москву ездили трактом, первой большой остановкой на котором и была Вологда. В свою очередь у вологодцев укоренился обычай ездить в Белозерье, на богомолье в знаменитый Кириллов монастырь (так сделал и Василий III, когда, как мы помним, приезжал в Вологду молиться о чадородии).
Значительно менее определенны сведения об Арсе. Как известно, о ней писали средневековые арабские географы, считавшие ее одним из трех центров Руси IX века. Два других центра уже давно опознаны историками как Новгород и Киев. Что же касается Арсы, то наиболее правдоподобным представляется ее расположение где-то между Ростовом и Белоозером. В пользу этого говорят замечания о климате и природных богатствах Арсы, переданные любознательными арабами. Впрочем, торговыми функциями они наделяли преимуществено Киев, военными – Новгород, подчеркивая жреческий, сакральный характер Арсы.
Написанные арабской вязью сочинения сохранили темные предания о недоступном северном городе, о некой черной горе, окруженной целебными водами, и об идоле старца с жезлом в руках, которым он приводил в движение мертвые кости. Как показали специальные исследования, эти рассказы не вполне фантастичны: в них могли быть сохранены крупицы свидетельств об отправлении культа таких славянских божеств как Чернобог или Триглав. Существенное затруднение состоит в другом: в IX веке окрестности Белоозера были для русских далекой, совсем неосвоенной окраиной. Предполагать здесь наличие крупного поселения, тем более – одного из центров Руси – никак не возможно (Петрухин 1982:144).
На это следует заметить, что если славянского сакрального центра тут быть не могло, то финно-угорский центр был вполне возможен. В подтверждение этого можно указать на такой крупный межплеменной центр как Великая Биармия, располагавшийся в VIII–X веках в этих местах или немного севернее, к устью Северной Двины. Русское летописание Биармиии почти не знало. Исключение составляла так называемая Иоакимова летопись, которой располагал В.Н.Татищев. Она рассказывала о князе Буривое, завоевавшем Биармию вплоть до реки Кумен (надо думать, позднейшей Кюмени на юго-востоке Финляндии) и похороненном на острове поблизости от города Биармы (Кирпичников, Дубов, Лебедев 1986:202). Это предание особенно любопытно, если принять во внимание, что летопись полагает Буривоя дедом Рюрика. С точки зрения этого источника, начало Руси связано таким образом с Биармией.
Скандинавские сведения о Биармии более определенны. Норвежцы довольно живо торговали с ней. Одно время существовало даже подобие основанной специально для этого торговой компании, во главе которой стоял король Олаф Святой. Этническую основу Биармии составляли скорее всего народности, жившие к востоку от карелов, такие, как чудь заволочская, весь, северная меря. Схожесть названий «пермь» и «Биармия» также представляет, по-видимому, нечто большее чем простое созвучие (Киркинен 1981).
Культ, отправлявшийся в Биармии, по имени главного божества (Йомала) и общему характеру, скорее всего был финно-угорским. Нельзя исключить, что он произвел впечатление на соседей – как норвежцев, так и карелов. Во всяком случае, такой знаток предмета, как Э.Леннрот, полагал, что в основу образа Похъелы, со злыми волшебниками которой боролись герои Калевалы, легли предания о Биармии. Вовлечение пришлого славянского населения в культы Биармии и могло дать стимул появлению легенды об Арсе. В таком случае представление о наличии крупного центра поблизости от позднейшей Вологды следует считать не только древним, но и обязанным славяно-финскому магическому контакту.
Наш обзор был бы неполон без хотя бы беглого упоминания о движении нестяжателей, духовный центр которого в XV–XVI столетиях располагался в том же Заволжье. Так у нас в старину называли обширные пространства севера, в первую очередь Белозерье и Вологодчину, лежащие «за (средней) Волгой» (говорящий мыслился смотревшим из Москвы). Движение было основано «великим старцем» Нилом Сорским, принявшим постриг в Кирилло-Белозерском монастыре, совершившим странствие на святую гору Афон и наконец, задумавшим создать в заволжских чащах и болотах своего рода «северный Афон».
Получив на то благословение, старец обосновался в пятнадцати верстах от Кириллова, на реке Соре (или Сорке), по которой и получил свое прозвище. Учение нестяжателей было сильно своим резко выраженным религиозно-мистическим мировоззрением, но обладало и очень значительным потенциалом социального переустройства – не на путях хозяйственно-административного строительства, но через воспитание иного, преображенного человека. Возможность воплощения этой программы в жизнь не скита, но общества осталась по существу невыясненной. Поколебавшись некоторое время, русские князья склонились к учению противников нестяжательства, получивших известность под именем иосифлян. Под их определяющим влиянием была воплощена в жизнь концепция «третьего Рима» со всеми ее последствиями, вплоть до духовности «петербургского периода». Взгляды же, намеченные на берегах реки Сорки, сохранили свою притягательность для многих и по сей день.
В XVII веке православная церковь была потрясена расколом. Массы старообрядцев покинули центральные районы страны, отправляясь в Заволжье, и далее – в Карелию, на Белое море, и в места более отдаленные. Унося с собой мечту о безгрешной жизни на «чистой земле», они пытались воплотить ее в жизнь и молитвенное делание в своих основанных на новом месте скитах, общежительствах и «всепустынных собраниях». Так на русском Севере стали складываться религиозно-культурные центры еще одного толка. Считать их герметически закрытыми было бы упрощением. Как отмечают с некоторым удивлением историки фольклора, в рамках одного из строгих и авторитетных центров старообрядчества, так называемого «Поморского согласия», знание «Калевалы» было вполне распространено. Сказывать ее руны за грех не считалось; отмечены и обратные влияния (Лавонен 1989:44–45). Как видим, и в этом отношении старообрядцы следовали весьма давней традиции.
Политический и духовный кризис начала XVII века имел и более прямые последствия для будущего Петербурга. Войскам шведского короля удалось оккупировать значительные территории на северо-западе России, полностью отрезав ее от Финского залива и Балтики. Это положение было закреплено в 1617 году Столбовским миром. Ну, а немного позже при слиянии вод Невы и Охты были основаны крепость Ниеншанц и город Ниен.
В предвидении прихода шведской администрации а также и после более близкого знакомства с ее обычаями, многие подданые московского царя почли за благо собрать свой скарб и уйти вместе с русскими войсками. В число их вошла и большая часть карел, живших на Карельском прешейке. Нужно сказать, что переселение было по преимуществу добровольным. По условиям Столбовского мира московское правительство обязалось оставить крестьянское население Ингерманландии под властью шведской короны. Обнаружив все же на Карельском перешейке опустевшие деревни, шведы приняли меры к их заселению, в основном за счет финнов, переселявшихся из отдаленных районов Финляндии. Так обновилось население Токсова, Кавголова и прочих деревень и поселков, названия которых мелькают перед взором пассажира Октябрьской железной дороги до сего дня (Ежов 1986:35).
Среди новых жителей приневского края сразу выделились переселенцы из близлежащих районов, преимущественно с северной части Карельского перешейка. Они перебрались сюда раньше прочих финнов, и долго держались от них в стороне, подчеркивая свою основательность, домовитость, приверженность древним традициям и обрядам. Жителям Петербурга они были известны под именем «эурямейсет» или «эвремейсет» (по-фински «ayramoiset», от Эуряпяя – названия одного из приходов на их старом месте проживания). Эвремейсет предпочитали селиться подальше от большого города – на востоке Карельского перешейка, по побережью Финского залива за Стрельной, а также на южной окраине губернии, поблизости от Вырицы и Тосно.
Другая группа переселенцев пришла позже, со стороны расположенной к западу от Карелии земли Саво, и приняла по ней имя «савакот». Эти финны считались более оборотистыми и быстрыми на подъем. Соответственно, савакот расположились ближе к Петербургу, прежде всего в западной части Карельского перешейка и по обоим берегам реки Невы. Жили они и в других местах, к примеру на территории так называемых «потемкинских поместий» южной части Карельского перейка, вроде Токсова (тут они выделялись особой задиристостью, с форсом именуя себя «настоящие государственные», и конечно, не допуская к своим девушкам женихов-эвремейсет).
В старину различия между этими группами были очень существенны. Так, эвремейсет считали себя более твердыми в вере, а савакот обвиняли в недопустимой переимчивости. Как ни странно, это мнение было недалеко от истины: когда в конце XIX века в приневском крае появились сектанты, в особенности «прыгуны», их странные обычаи и приемы молитвы имели особенный успех именно в среде савакот (Шлыгина 1996а:78–79). Значит, религиозно-психологический тип действительно различался, а «трансперсональное преобразование» происходило не только в петербургской культуре, но одновременно и в среде «пригородных финнов».
Впрочем, о Петербурге речь еще впереди. Что же касалось Ниена, то финский дух в этом небольшом шведском городе «Ореховецкого лена» (то есть провинции) был довольно силен. На улицах слышалась финская речь, был в городе и финский лютеранский приход (православная служба «на финском языке», то есть скорее всего на водском или ижорском, не одобрялась, а то и преследовалась шведскими чиновниками от религии). Бытовали религиозные книги на финском языке, в том числе напечатанные кириллицей. Однако самый существенный вклад в метафизику будущего Петербурга внесло именно масштабное переселение XVII века. В результате него, финны сильно приблизились к городу, в то время как карельское присутствие резко ослабло.
Именно поэтому румяные смешливые молочницы, кряжистые лесорубы, привозившие в город елки на рождество, молчаливые извозчики-«вейки», заполнявшие его улицы на масленицу, и многие другие городские типы, привычные взгляду петербуржца и милые его сердцу, были не карелами, а чаще всего финнами. «По справедливости можно сказать», – заметил бытописатель прошлого века А.А.Бахтиаров (1994:169), – «что обыватели столицы в своей повседневной жизни едва ли не больше имеют дело с чухнами, нежели с русскими крестьянами, так что коренной петербуржец, собственно говоря, даже и не имеет ясного представления о русском крестьянстве, ибо представление об этом последнем он получает, так сказать, издали».
Своеобразие этнической ситуации схвачено здесь довольно верно, хотя и с изрядной долей преувеличения. На то были свои причины. Их перечислила в своем превосходном труде по этнографии старого Петербурга Н.В.Юхнева (1984:170). К примеру, пригородные финны были значительно менее ассимилированы, чем скажем, немцы, и потому их присутствие бросалось в глаза. Или же было немало финнов, которые приезжали в город на рассвете, толклись на улицах днем, а к ночи, продав свой творог или заработав каким-либо иным образом, спешили отправиться к себе восвояси, в какое-нибудь Лупполово, Молосковицы или Карабсельки. Статистика постоянного населения их как бы не видела, но сами жители Петербурга этих колоритных соседей, конечно, замечали, были нередко осведомлены и о различиях между ними.
Вряд ли предки и родичи этих финских крестьян, населявших город Ниен и его окрестности, могли вполне оценить все значение перемен, развернувшихся здесь с приходом войска Петра I. Наряду с этим, некое смутное предчувствие перемен, пожалуй, все-таки было. Оно отразилось в местном предании о чудесном свете, издревле игравшем в ночную пору над островами невской дельты. Как многозначительно говорили финны, этот свет необычайно усилился в год начала Северной войны. Сказание было подхвачено русскими, переосмыслено и включено в складывавшуюся метафизику Петербурга, добавив и свой лучик к блеску молодой северной столицы. Пора и нам обратиться к истории его нарастания и помрачения.
На берегах Невы и Финского залива
«На берегу пустынных волн / Стоял он, дум великих полн…» Так начал свою «петербургскую повесть» Пушкин. Для современного русского читателя не составит труда продолжить эти строки, равно как и предположить, что привлечет наше особое внимание. Всего через несколько строк взору поэта представится «приют убогого чухонца» и избы, черневшие здесь и там «по мшистым, топким берегам». Канва для нашего повествования появляется, но много ли она ему дает? Смысл пушкинского сравнения сводится не к преемственности, но к противопоставлению первоначальной дикости и последующей культуры.
Не вызывает сомнения, что здесь А.С.Пушкин примыкал к тому, что думали и говорили сам основатель города и его ближайшие сподвижники. Напомним известный анекдот из собрания А.К.Нартова: «Его величество, идучи от строения Санкт-Петербургской крепости и садясь в шлюпку, взглянул на первый свой домик и говорил: „От малой хижины возрастает город. Где прежде жили рыбаки, тут сооружается столица Петра. Всему время при помощи Божией“» (цитируем по изданию 1993:295). Таким образом, рыбацкие хижины были на месте города до его заложения, но вырос он из домика Петра Великого. Разница есть, и весьма существенная.
Домик Петра или, говоря на старинный лад, «первоначальный дворец» сохранился до наших лет, разве что немного врос в землю, покосился, да невские волны плещутся теперь гораздо дальше от его стен, чем три века назад. Открыв любой путеводитель, мы прочтем, что он был срублен солдатами-плотниками из сосновых тесаных бревен всего за три дня, скорее всего с 24 по 26 мая 1703 года, и представляет собой таким образом старейшее гражданское сооружение города. Так говорит история, но миф с нею расходится. По старому петербургскому преданию домик Петра представляет собой переустренную чухонскую хижину.