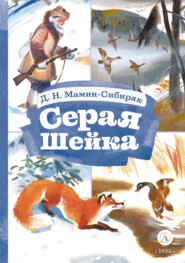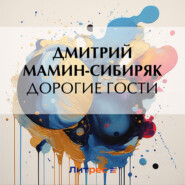По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Горное гнездо
Год написания книги
1884
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Я, Раиса Павловна, не печалюсь: двух смертей не бывать…
– То-то и есть. Гусей по осени считают, и хорошо только то, что хорошо кончается… Так?
Восемь дней, оставшиеся до приезда Лаптева, промелькнули незаметно в общей, теперь уже бесцельной суматохе, какая овладевает людьми в таких исключительных случаях. Наконец наступил и роковой восьмой день. С раннего утра весь завод был на ногах. По улицам бродили праздные кучки любопытных, а на площади, перед зданием заводоуправления и особенно около господского дома, народ стоял стена стеной, несмотря на отчаянные усилия станового и нескольких полицейских водворить порядок в этом галдевшем живом море. Мастеровые в новых зипунах и армяках, старики с палками, бабы в пестрых платках, босоногие ребятишки – все слилось в одну массу, которая приготовилась простоять здесь до самого вечера, чтобы хотя одним глазком взглянуть на барина. Загорелые, обожженные в огненной работе лица заводских рабочих выглядели сегодня празднично, с тем довольным выражением, с каким смотрит отдыхающий человек. Бабы трещали, как сороки, пощелкивая кедровые орехи; ребятишки совались меж ног, толкали всех и, как воробьи, рассыпались в мгновение ока при первом грозном слове какого-нибудь сердитого старика, с благоговением глядевшего в окна барского дома. Общее настроение толпы было самое торжественное. Ведь барин являлся чем-то вроде стихийной силы, которая слепо осыпает своими милостями и невзгодами; барин служил олицетворением возможного на земле могущества. Мужицкая фантазия терялась в перечислении всех необходимых атрибутов такого барина, каким был Лаптев. Он все может сделать, что захочет; казне нет счету, земле – конца-краю, и т. д.
Для человека нового эта пятитысячная толпа представлялась такой же однообразной массой, как трава в лесу, но опытный взгляд сразу определял видовые группы, на какие она распадалась естественным образом.
Основание составляли собственно фабричные рабочие, которых легко было отличить от других по запеченным, неестественно красным лицам, вытянутым, сутуловатым фигурам и той заводской саже, которой вся кожа пропитывается, кажется, навеки. Тут были простые поденщики, черноделы и рабочая аристократия. Все эти люди, изо дня в день тянувшие каторжную заводскую работу, которую бойкий заводский человек недаром окрестил огненной, теперь слились в одно общее желание взглянуть на барина, для которого они жарились у горнов, ворочали клещами раскаленные двенадцатипудовые крицы, вымогались над такой работой, от которой пестрядевые рубахи, посла двух смен, вставали от потовой соли коробом. Фабрика рядом поколений выработала совершенно особенный тип заводского фабричного, который в состоянии вынести нечеловеческий труд. Эти жилистые, могучие руки, эти красные затылки, согнутые спины и крепкая, уверенная поступь были точно созданы для заводской работы. Каждая фигура была сколочена из одних костей и мускулов и дышала чисто заводской силой. На первый раз могло поразить то, что самые здоровые субъекты отличались худобой, но это и есть признак мускульной, ничем не сокрушимой силы. Как рядовой солдатик-пехотинец, так и заводский мастеровой страдают жировым перерождением только в исключительных случаях. Красные рубахи, накинутые на плечи чекмени и лихо надвинутые на одно ухо войлочные шляпы придавали фабричным рабочим вид записных щеголей, которые умеют поставить последнюю копейку ребром.
Полным контрастом с заводскими мастеровыми являлись желтые рудниковые рабочие, которые «робили в горе». Изнуренные лица, вялые движения и общий убитый вид сразу выделял их из общей массы, точно они сейчас только были откопаны откуда-то из-под земли и не успели еще отмыть прильнувшей к телу и платью желтой вязкой глины. Работа «в горе», на глубине восьмидесяти сажен, по всей справедливости может назваться каторжной, чем она и была в крепостное время, превратившись после эмансипации в «вольный крестьянский труд». Конечно, «в гору» толкала этих желтых, выцветших людей самая горькая нужда, потому что там платили дороже, чем на других работах. Стоило только раз попасть рабочему в медный рудник, чтобы на веки вечные обречь следующие поколения на эту же работу. Это объясняется очень просто: молодых, здоровых рабочих толкает «в гору» возможность больших заработков, но самый сильный человек «израбливается» под землей в десять – двенадцать лет, так что поступает на содержание к своим детям в тридцать пять лет. Таким образом, детям рудниковых рабочих приходится слишком рано содержать не только самих себя и свои семьи, но и семью отца, а такой заработок может дать только одна «гора». Получается роковой круг, из которого вырваться могут только счастливцы: рудниковый рабочий органически связан со своей «горой», как устрица со своей раковиной. Вообще трудно сказать, что труднее – работать «в горе» или в огненной работе, но и те и другие рабочие являются настоящими гномами нашего «века огня и железа».
Между этими основными группами толкались черномазые углежоги, приехавшие поглядеть барина из дальних лесных деревень, «транспортные», прозванные за свою отчаянность «соловьями», и всякий другой рабочий люд, не имевший определенной специальности или менявший ее с каждым годом. Сюда же прибрели самые древние старики, вытянувшиеся еще на крепостном праве. Достаточно было взглянуть на эти согнутые в дугу спины, подгибавшиеся колени и дрожавшие корявые руки, чтобы сразу узнать бывших огненных и рудниковых рабочих. Они чинно держались в стороне от молодых рабочих, большинство было с длинными черемуховыми палками. Около них вертелись босоногие ребятишки, особенно те, которые еще не успели отведать заводской работы. И слабые детские руки тоже принимали участие в гигантской заводской работе, с десяти лет помогая семьям своим гривенником поденщины.
– Одначе долго-таки барин не едет! – говорил какой-то седой старик, поглядывая в окна господского дома. – Пора бы! с какого времени дожидаем…
– Уехали, слышь, встречать на Половинку: Платон Васильич с управителями, Родивон Антоныч, Николай Карлыч… На пяти тройках угнали, а лесообъездчики – на вершных. Так запалили, что страсть…
Когда вдали, по Студеной улице, по которой должен был проехать барин, показывалась какая-нибудь черная точка, толпа глухо начинала волноваться и везде слышались возгласы: «Барин едет!.. Барин едет… Вот он!..» Бывалые старики, которые еще помнили, как наезжал старый барин, только посмеивались в седые бороды и приговаривали:
– Он и есть, барин! Как есть, дураки! Разве барин так тебе и поехал! Перво-наперво пригонят загонщики, потом в колокола ударят по церквам, а уж потом и барин, с фалетуром, на пятерке. А то: барин! Только вот Тетюева не стало, некому принять барина по-настоящему. Нынче уж что! только будто название, что главный управляющий!
– Ноне народ вольный, дедушка, – заметил кто-то из толпы мастеровых. – Это допрежь того боялись барина пуще огня, а ноне что нам барин: поглядим – и вся тут. Управитель да надзиратель нашему брату куда хуже барина!
– Сравнял… Эх, вы-ы!.. Мало вас драли, вот и брешете. Кабы жив был старик Тетюев, да…
– Это ты верно говоришь, дедушка, – вступился какой-то прасол. – Все барином кормимся, все у него за спиной сидим, как тараканы за печкой. Стоит ему сказать единое слово – и кончено: все по миру пойдем… Уж это верно! Вот взять хошь нас! живем своей торговой частью, барин для нас тьфу, кажется, а разобрать, так… одно слово: барин!.. И пословица такая говорится: из барина пух – из мужика дух.
– Уж это что говорить, знамо дело, что все барином дышим! – согласился за всех кто-то в толпе.
Во двор господского дома пускались только избранные: депутации от всех волостей, заслуженные мастеровые в дареных господских кафтанах, обшитых позументом, служащие, рыженький священник с причтом и т. д. В передней с раннего утра топталась степенная группа стариков. Это были коноводы той партии общественников, которые тягались с Родионом Антонычем из-за уставной грамоты. Теперь они пришли в господский дом с новой надеждой, что с приездом барина наконец уладится и их дело. В уверенном выражении этих серьезных лиц сказывалась непоколебимая вера в правоту своего дела и твердое желание послужить миру до последнего. Ведь барин сейчас приедет, все увидит, все разберет и все устроит.
– Что, старички? жалобу принесли барину? – спрашивала Раиса Павловна, проходя по передней.
– А уж что бог даст, Раиса Павловна. Мы ведь из вашей господской воли не выходим, только нам наше бы добыть.
– Напрасно вы с своими пустяками Евгения Константиныча хотите беспокоить, старички!
– Уж это как господь ему на душу положит.
В приемных комнатах господского дома в выжидательном молчании сидели старшие служащие. В громадной зале был сервирован стол для обеда, а на хорах гудела разноязычная толпа приезжих музыкантов, приготовившихся встретить гостей торжественным тушем.
Среди общего молчания раздавались только шаги Анниньки и m-lle Эммы: девицы, обнявшись, уныло бродили из комнаты в комнату, нервно оправляя на своих парадных шелковых платьях бантики и ленточки. Раиса Павловна сама устраивала им костюмы и, как всегда, осталась очень недовольна m-lle Эммой. Аннинька была хороша – и своей стройной фигуркой, и интересной бледностью, и лихорадочно горевшими глазами, и чайной розой, небрежно заколотой в темных, гладко зачесанных волосах.
XI
На фабрике часы пробили двенадцать, час, два, а барин все не ехал. Толпы все прибывали, заполнив морем голов всю площадь перед зданием заводоуправления и вытянувшись в длинный шевелившийся хвост мимо господского дома вдоль всей Студеной улицы. Чтобы как-нибудь не прозевать барина, большинство поступилось даже обедом. В господском доме выжидательное настроение давно уже отразилось в усталом выражении всех глаз, в побледневших лицах и в том особенном нервном состоянии, от которого у всех пересохло во рту. Раиса Павловна не знала, как ей убить мучительно тянувшееся время. Она нервно переходила из одной комнаты в другую, осматривала в сотый раз, все ли готово, и с тупым выражением лица останавливалась у окна, стараясь не глядеть в дальний конец Студеной улицы.
– Этот Платон Васильич больше, чем идиот, – говорила она Анниньке. – Ну что ему стоило послать из Половинки какого-нибудь лесообъездчика?.. Наконец Родион Антоныч чего смотрит! Это можно с ума сойти!
– Раиса Павловна! – перебила эту горячую реплику появившаяся в дверях m-lle Эмма, – там… пришел Виталий Кузьмич…
– Ох, боже мой! Этого только еще недоставало! и, конечно, пьян?
– Да… сильно пошатывается.
– Что ему нужно? Скажи кому-нибудь, чтобы его прибрали подальше от глаз…
В этот момент толпа на улице глухо загудела, точно по живой человеческой ниве гулкой волной прокатилась волна. «Едет!.. Едет!..» – поднялось в воздухе, и Студеная улица зашевелилась от начала до конца, пропуская двух верховых, скакавших к господскому дому на взмыленных лошадях во весь опор. Это и были давно ожидаемые всеми загонщики, молодые крестьянские парни в красных кумачных рубахах.
– Сейчас выезжает с Половинки… – кричали они, спешиваясь у крыльца господского дома.
Не успели загонщики «отлепортовать» по порядку слушавшему их служащему, как дальний конец Студеной улицы точно дрогнул, и в воздухе рассеянной звуковой волной поднялось тысячеголосое «ура». Но это был еще не барин, а только вихрем катилась кибитка Родиона Антоныча, который, без шляпы, потный и покрытый пылью, отчаянно махал обеими руками, выкрикивая охрипшим голосом:
– Тише!.. Ах, б-божже мой!.. Чертоломы вы этакие! чего напрасно глотку дерете?! Чему обрадовались?
– Ну? – спрашивала Раиса Павловна, выбегая навстречу к Сахарову.
– Ох, беда! Сорок лошадей загнали на восьми станциях… Семнадцать троек бежит… Видел самого и к ручке приложился! – высыпал Родион Антоныч привезенные новости.
– Да что вы так долго там, на Половинке, сидели?
– Чай пили…
– Отчего же вы меня не известили? Мы тут голову совсем потеряли, а они там чай распивают.
– Не мы, а сам чай пил.
– Так бы и послали сказать. А ту видели?
Родион Антоныч только махнул рукой и побежал в переднюю, где сейчас же накинулся на депутацию с хлебом-солью:
– В церковь ступайте… все в церковь!.. Да чтобы звонили, во вся звонили, как только покажется пыль на дороге.
Точно в ответ на эти слова на пяти заводских церквах загудели все колокола, и Родион Антоныч торопливо начал креститься. Через минуту он уже подымался на паперть главной церкви, которая стояла посреди базарной площади. Там уже ждало духовенство во всем облачении, и народ набожно снял шапки. Выстроив депутацию с хлебом-солью у паперти, Родион Антоныч, заслонив рукой глаза от солнца, впился в дальний конец Студеной улицы, по которой теперь, заливаясь колокольчиками, вихрем мчалась исправничья тройка с двумя казаками назади. За ней во весь карьер летел открытый дорожный дормез, заложенный пятеркой. В воздухе катилась целая буря отчаянных звуков, нараставших и увеличивавшихся с каждым шагом вперед, как катившийся под гору снежный ком. Когда дормез подъезжал к церкви, вся Студеная улица и площадь представляли собой настоящее море, которое кипело и бурлило каждым своим атомом. Гул колоколов и дружный крик тысяч людей слились в один протяжный стон. Общее внимание было приковано к катившемуся дормезу, в котором сидели трое в белых летних костюмах. Один из них время от времени снимал какую-то пеструю шапочку без козырька и раскланивался на обе стороны.
– Вотан, барин-от… Уррра-а-а-а!.. – неистово орал какой-то мастеровой, в порыве энтузиазма хватаясь за колесо останавливавшегося экипажа.
– Голубчик ты наш! родименький! – подвывали в толпе бабы, вытягиваясь на носочки.
Дормез остановился перед церковью, и к нему торопливо подбежал молодцеватый становой с несколькими казаками, в пылу усердия делая под козырек. С заднего сиденья нерешительно поднялся полный, среднего роста молодой человек, в пестром шотландском костюме. На вид ему было лет тридцать; большие серые глаза, с полузакрытыми веками, смотрели усталым, неподвижным взглядом. Его правильное лицо с орлиным носом и белокурыми кудрявыми волосами много теряло от какой-то обрюзгшей полноты.
– И к чему вся эта дурацкая церемония, генерал? – лениво по-французски протянул молодой человек, оглядываясь с подножки экипажа на седого старика с строгим лицом.
– Нельзя, Евгений Константиныч, такой обычай! – по-французски ответил старик, поднимаясь с места.
Шотландский костюм барина сначала немного смутил восторженную публику, но потом все решили, что, вероятно, так нужно, потому барин – значит, закон ему не писан. Баб ужасно заинтересовала клетчатая пестрая юбочка, а мужиков – отсутствие штанов. Пестрый плед, пестрая шапочка, с длинными лентами на затылке, и чулки на ногах тоже были, конечно, подвергнуты самой строгой критике и тоже получили свое объяснение: барин. Только голые колени барина немного смутили самых смелых, потому что решительно не находилось для них никакого подходящего извиняющего мотива. Зато генерал своей внушительной высокой фигурой и сердитыми седыми усами произвел на окружающих самое хорошее впечатление: настоящий генерал, хотя и штатский. Его длинное лицо, с резкими, точно обрубленными линиями, отдавало солдатской выправкой; только небольшие темные глаза смотрели добрым и открытым взглядом. Дорожный простой костюм старика и мягкая пуховая шляпа представляли рядом с пестротой шотландского костюма приятный контраст.
– Что же мне теперь делать? – с капризными нотками в голосе спрашивал Лаптев, когда генерал вышел из экипажа.