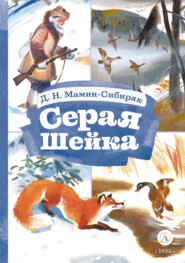По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Новичок
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– А помнишь Аятское село? Отличное место… Огуречники-то, с которыми ты ехал, тоже из духовного звания…
Мне казалось, что Постников в эти моменты опять был среди родных полей и видел свое Аятское село, как обетованную землю, – это была последняя дань родине. Никакая бурса не в состоянии уничтожить этого тяготения к родному гнезду.
В течение первого же дня определился состав нашего класса, распадавшийся на две неравных половины. Меньшую составляла бурса, а большую – квартирные ученики. Всех квартир, кажется, было пять, и наша оказалась самой скромной. Все заняли одну парту, и только для меня не осталось места.
– Иди сюда, – предложил мне высокий рыжеватый малый с какими-то остановившимися, как у ястреба, глазами. – Я знал твоего брата…
Не дожидаясь моего согласия, он потащил меня за руку на одну из задних парт, где помещалась «Камчатка». Моим соседом оказался маленький ученик с рябым лицом, серыми, мигавшими глазами, кудрявыми, походившими на пух, белокурыми волосами и удивительно подвижным носом. Это оказался самый отчаянный забияка во всем классе, Сельмяков, а на училищном языке – Патрон. Он презрительно осмотрел меня с головы до ног и только фукнул носом. Очевидно, я в его глазах не выдержал экзамена.
– Моя фамилия – Хлызов, – рекомендовался товарищ моего брата.
Первый урок был катехизис, и все замерли, когда в коридоре послышались тяжелые инспекторские шаги. Когда мы встали для молитвы, Патрон кольнул меня иголкой в ногу и, улыбаясь, шепнул:
– Ступай, жалуйся!..
Я хотел отодвинуться, но Хлызов, глядя в глаза инспектору, незаметно ни для кого принялся колоть меня в бок спрятанным в горсти перочинным ножом. Было больно, но я укрепился и выстоял молитву неподвижно, что и спасло меня от дальнейших испытаний. Закончилось это знакомство тем, что, когда я достал свой перочинный ножичек, Хлызов выхватил его и проговорил:
– Это мой ножичек… Твой брат взял его у меня на подержанье. Одним словом, калю…
Право сильного царило в этих стенах в своем полном объеме.
VI
…Из безличной, на первый взгляд, толпы бурсаков первым номером выделился добродушный верзила, по прозвищу Масталыга. Ему было лет двадцать, и он казался среди нас настоящим великаном. В качестве бурсака он считал своею обязанностью задирать квартирных и с первого же раза «нарвался» на отчаянного Патрона. Произошла самая комическая драка. Патрон вскочил на парту, отчаянно размахивая перочинным ножом, кричал:
– Не подходи, – убью!..
– Ну, убивай, – добродушно говорил Масталыга, размахивая длинными руками, как ветряная мельница.
Это было настоящее единоборство воробья с журавлем, закончившееся тем, что Патрон действительно победил Масталыгу, то есть ранил его ножом в ногу. Квартирные торжествовали свою победу…
– Я ему, Патрону, оборву ноги, как таракану, – говорил в нос Масталыга.
Великан нисколько не сердился, потому что сражался только за честь своей родной бурсы.
Это событие произошло в первую перемену, а после второго урока в качестве героя выступил наш Ермилыч. Он скромно сидел за своей партой и не принимал никакого участия в буйных шалостях. Я видел, как несколько раз к нему подходил Тетеря и «задирал». Ермилыч крепился, и Тетеря отошел ни с чем. Его место занял бурсак Атрахман, сгорбленный, худой, с каким-то неприятным лицом и злыми кошачьими глазами. Он сразу нанес Ермилычу кровную обиду, то есть сделал из своих пальцев заячьи уши. Ермилыч побелел от злости и вылетел из-за своей парты одним прыжком. В следующий момент на Атрахмана посыпался целый град ударов, так что он даже и не защищался, а самым позорным образом отступал в угол, напрасно стараясь защитить лицо рунами. Ермилыч поступал по приему всех великих героев, то есть не дал опомниться врагу. Кончив расправу, он преспокойно сел за свою парту. На него было просто страшно смотреть, – бледный, задыхающийся, с остановившимися глазами и судорожной улыбкой на своих бескровных губах.
– Будешь помнить заячьи уши… – хрипло шептал он.
Атрахман был посрамлен. Бурее сегодня вообще не везло, хотя она и выставила своих первых бойцов. В резерве оставался главный силач Демьяныч, во он не желал принимать никакого участия в задиранье квартирных. Как все настоящие силачи, Демьяныч отличался самым мирным характером и только улыбался какой-то больной улыбкой. Бурса умела ценить героев, и в течение двухлетнего курса я не помню, чтобы кто-нибудь задирал Демьяныча.
После нанесенного Ермилычем поражения Атрахману бурса решилась выместить все на нашем старшем Илье Введенском. Травля шла настойчиво, и бурса проявляла сплоченность действия, тогда как квартирные действовали только врассыпную. Проявлявший у себя дома просвещенный деспотизм, Введенский оказался в классе самым жалким трусом. К нему подошел единственный толстый бурсак Галуппи, посмотрел несколько мгновений в упор и без всяких слов ударил его. Этот военный прием Галуппи вызвал бурное одобрение.
– Валяй, Галуппи, Просвирню по уху!..
– Братцы, смотрите, как у Просвирни обе щеки трясутся… Ай да Галуппи, молодец!..
Галуппи, поощренный общим одобрением, действовал медленно и наносил удар за ударом не спеша, с самым серьезным лицом, точно он исполнял какую-то очень важную обязанность. Припоминая, как Введенский истязал Пашу и Ваню, я нисколько не пожалел его, а даже думал про себя: «Так его и надо…» Всего интереснее было то, что Александр Иваныч, сидевший рядом с Введенским, не пошевелил пальцем, чтобы заступиться за него, а только хохотал…
Вообще первый училищный день прошел в усиленных драках, напоминавших бои молодых петухов. Нужно заметить, что большинство этих драк происходило точно по обязанности… Известное молодечество, удаль и молодой задор требовали выхода, и бурса его находила.
…Главным неудобством в личном составе нашего класса являлось то, что между учениками была слишком большая разница в летах – тринадцатилетние мальчики, с одной стороны, и двадцатилетние парни с другой. Из этого неравенства и естественного перевеса физических сил возникал особый вид школьного рабства.
VII
Училищное начальство состояло из ректора, очень почтенного священника отца Петра, и инспектора училища отца Константина. Ректор иногда посещал классы, а в общем мы его редко видели. Он пользовался общим уважением, и его боялись, потому что ему принадлежала карающая власть. Главной карой было увольнение из училища, а затем – субботние расчеты, когда училищный сторож Палька сек за леность, табакокурение и другие провинности. Нужно сказать, что сечение производилось не каждую субботу, и я в течение двухлетнего пребывания в училище только раз слышал издали отчаянные вопли наказуемых… Самому мне ни разу не пришлось познакомиться с искусством Пальки, типичного отставного солдата из поляков, с крючковатым носом и всегда сонными глазами. Ректор обыкновенно являлся в наш класс в один из субботних уроков с роковым списочком в руках. Он никогда не сердился и не волновался, а только по своему списочку вызывал провинившихся, которые покорно и отправлялись за ним. Ученики относились к ректору тоже без злобы, как к человеку, который только исполнял свой долг.
В общем, наказания у нас, повторяю, применялись редко и то по каким-нибудь особенным случаям.
Совершенно иные отношения существовали с инспектором, особенно у бурсы, которая не любила его. На чем основывалась эта нелюбовь, я не могу понять до сих пор. Инспектор ничем особенным не выделялся, кроме того, что из года в год вел самую отчаянную борьбу с бурсой. Кажется, не было такой пакости, которую бурса не устроила бы неприятному инспектору. Все средства считались дозволенными. В свою очередь, инспектор, может быть, иногда злоупотреблял стереотипной фразой:
– А тебя, Словцов, ве-ли-ко-леп-но высекут.
Может быть, эта нелюбовь к инспектору происходила от той простой причины, что с ним приходилось иметь дело в самые неприятные моменты и по самым неприятным поводам. Он преподавал катехизис и латинский язык, и его классы представляли величайшую грозу, – за полученную у инспектора двойку расчет производился у Пальки.
…Светских учителей, то есть ходивших в сюртуках, было всего трое: учитель русского языка, Григорий Алексеевич, очень милый и конфузливый молодой человек, которому не готовили уроков; учитель арифметики и географии Константин Михайлович, чахоточный, унылый мужчина, который, кажется, ни на что не обращал внимания, и учитель греческого языка, Николай Александрович. Последний являлся общим любимцем, и его класс всегда был лучшим. Это был красивый, подвижной молодой человек, державший класс в ежовых рукавицах и все-таки пользовавшийся общей любовью. Он умел держать весь класс в напряженном состоянии и видел каждого. Чуть кто не слушает, сейчас вопрос:
– А как перевести эту фразу?
Николай Александрович и задавал много, и требовал много, и в классе не позволял лениться. Для меня лично это был первый настоящий учитель, который умел оживить даже такой сухой предмет, как греческий язык. По моему мнению, каждый истинный педагог должен быть артистом, и таким именно артистом был Николай Александрович.
В общем, за исключением Николая Александровича, наша педагогия стояла очень невысоко, и вся наука сводилась на самое отчаянное зубрение, в силу установившихся взглядов, что умнее книги не скажешь. Мы просто не умели учить своих уроков и брали их на память. Здесь проявлялась старая бурсацкая закваска, которой были пропитаны самые стены заведения, как пропитываются миазмами стены госпиталей, лазаретов и больниц. Но не все можно было взять зубрежкой, и нужно было видеть те отчаянные усилия, которые затрачивались на арифметику. Были просто мученики, как наш Александр Иваныч. Кто-нибудь из товарищей решал задачу, а он ее выучивал уже по готовому. Александр Иваныч вообще не отличался блестящими способностями, но все-таки был человек смышленый и толковый, и просто было жаль смотреть, как он убивался над противной «мачимачихой». Он был отличный зубрила и учил урок, сидя на своем сундуке и раскачиваясь из стороны в сторону, как делают некоторые звери, которые слишком долго сидят в клетке и впадают в тихое, ритмическое помешательство.
…Из всех предметов училищного курса мне не давался один «Устав церковной службы», как я его ни зубрил. Происходило это оттого, что я, вероятно, по настоящему не умел зубрить, а главное – не понимал мудреного языка, каким он был написан. В самом деле, ведь нужно осилить такие слова, как «препразднство» и «попразднство».
VIII
Один день походил на другой, как у нас на квартире, так и в бурсе.
Я уже рассказывал, как у нас устанавливался на нашей квартире порядок и как Введенский изображал из себя начальство. Дальше власть начальства перешла уже в настоящий деспотизм. Действуя под прикрытием такой силы, как наш Александр Иваныч, Введенский потерял всякое чувство меры и развернулся во всю ширь. Постоянно заушая, он, с одной стороны, точно выдавал то, что получал сам в течение первых четырех лет своей училищной жизни, а получившие все это точно копили материал для будущего возмездия. И так велось из поколения в поколение; из поколения в поколение накоплялось то озлобление, которое сливало всю бурсу в какого-то тысячеголового полипа, где отдельные лица теряли всякое значение. Это – с одной стороны, а с другой – наша квартира являлась образцом какого-то особенного деспотизма, где царил безграничный произвол какого-нибудь временщика. Именно таким временщиком и был наш Введенский, неистовствовавший с каждым днем все больше. Ему доставляло наслаждение мучить маленьких человечков. Увлекшись собственным деспотизмом, Введенский переступил все границы возможного и наткнулся на Ермилыча, который наказал его беспощадно. Очевидно, Введенский рассчитывал на защиту Александра Иваныча, но тот изменил, как только умеют изменять люди подобного рода, и выдал Введенского с годовой.
– Ну-ка, Ермилыч, хорошенько утешь Просвирню, – поощрял он, заливаясь неудержимым смехом. – Валяй, но чтобы синяков не было…
И Ермилыч «утешал» Просвирню на глазах у всех. Как все деспоты, Введенский совершенно растерялся и даже заплакал, что уже совсем не полагалось.
Но все, что делалось у нас в квартире, являлось только цветочками по сравнению с жизнью бурсы, где все принимало грандиозные размеры. Вечным пугалом бурсы и мотивом для всевозможных жестокостей являлась мысль об ябеднике. Этот ябедник разыскивался всеми путями и средствами, причем бурса проявляла иезуитскую изворотливость. Стоило инспектору наедине поговорить с каким-нибудь из учеников или оказать ему внимание не в пример другим, – и человек пропал. Бурса в этом случае действовала чисто по-иезуитски. Она сразу не набрасывалась на заподозренного, а только устраивала самый строгий надзор за ним и выдвигала самые удобные поводы для ябедничества… Как теперь, вижу одного несчастного бурсака, который пришел к нам на квартиру, убитый, уничтоженный, близкий к помешательству. Это был скромный мальчик, которого инспектор отличил среди других, но это его погубило.
– Тебя били, Алферов? – спрашивал я под секретом, с глазу на глаз.
Он осмотрелся кругом и проговорил упавшим голосом:
– Меня уж давно бьют…
– Очень бьют?
– Нет, хуже, чем бьют.
Оказалось, что бурса применяла к нему всевозможные способы истязания. Расправа производилась обыкновенно по ночам. Находились отчаянные головы, которые по целым часам сторожили, когда жертва заснет. Мучения производились настойчиво, причем виновных не оказывалось. Бедный Алферов особенно не мог вспомнить без содрогания подушек. Дело в том, что, когда он засыпал, бурсаки накидывались на него всей оравой и принимались колотить подушками. Сам по себе один или несколько ударов подушкой – вещь совершенно невинная, но когда на несчастного сыпался целый град таких ударов, получались тяжелые последствия… Если бы он и пошел даже жаловаться, то никакой медицинский осмотр не нашел бы ни малейших признаков побоев.
Мне казалось, что Постников в эти моменты опять был среди родных полей и видел свое Аятское село, как обетованную землю, – это была последняя дань родине. Никакая бурса не в состоянии уничтожить этого тяготения к родному гнезду.
В течение первого же дня определился состав нашего класса, распадавшийся на две неравных половины. Меньшую составляла бурса, а большую – квартирные ученики. Всех квартир, кажется, было пять, и наша оказалась самой скромной. Все заняли одну парту, и только для меня не осталось места.
– Иди сюда, – предложил мне высокий рыжеватый малый с какими-то остановившимися, как у ястреба, глазами. – Я знал твоего брата…
Не дожидаясь моего согласия, он потащил меня за руку на одну из задних парт, где помещалась «Камчатка». Моим соседом оказался маленький ученик с рябым лицом, серыми, мигавшими глазами, кудрявыми, походившими на пух, белокурыми волосами и удивительно подвижным носом. Это оказался самый отчаянный забияка во всем классе, Сельмяков, а на училищном языке – Патрон. Он презрительно осмотрел меня с головы до ног и только фукнул носом. Очевидно, я в его глазах не выдержал экзамена.
– Моя фамилия – Хлызов, – рекомендовался товарищ моего брата.
Первый урок был катехизис, и все замерли, когда в коридоре послышались тяжелые инспекторские шаги. Когда мы встали для молитвы, Патрон кольнул меня иголкой в ногу и, улыбаясь, шепнул:
– Ступай, жалуйся!..
Я хотел отодвинуться, но Хлызов, глядя в глаза инспектору, незаметно ни для кого принялся колоть меня в бок спрятанным в горсти перочинным ножом. Было больно, но я укрепился и выстоял молитву неподвижно, что и спасло меня от дальнейших испытаний. Закончилось это знакомство тем, что, когда я достал свой перочинный ножичек, Хлызов выхватил его и проговорил:
– Это мой ножичек… Твой брат взял его у меня на подержанье. Одним словом, калю…
Право сильного царило в этих стенах в своем полном объеме.
VI
…Из безличной, на первый взгляд, толпы бурсаков первым номером выделился добродушный верзила, по прозвищу Масталыга. Ему было лет двадцать, и он казался среди нас настоящим великаном. В качестве бурсака он считал своею обязанностью задирать квартирных и с первого же раза «нарвался» на отчаянного Патрона. Произошла самая комическая драка. Патрон вскочил на парту, отчаянно размахивая перочинным ножом, кричал:
– Не подходи, – убью!..
– Ну, убивай, – добродушно говорил Масталыга, размахивая длинными руками, как ветряная мельница.
Это было настоящее единоборство воробья с журавлем, закончившееся тем, что Патрон действительно победил Масталыгу, то есть ранил его ножом в ногу. Квартирные торжествовали свою победу…
– Я ему, Патрону, оборву ноги, как таракану, – говорил в нос Масталыга.
Великан нисколько не сердился, потому что сражался только за честь своей родной бурсы.
Это событие произошло в первую перемену, а после второго урока в качестве героя выступил наш Ермилыч. Он скромно сидел за своей партой и не принимал никакого участия в буйных шалостях. Я видел, как несколько раз к нему подходил Тетеря и «задирал». Ермилыч крепился, и Тетеря отошел ни с чем. Его место занял бурсак Атрахман, сгорбленный, худой, с каким-то неприятным лицом и злыми кошачьими глазами. Он сразу нанес Ермилычу кровную обиду, то есть сделал из своих пальцев заячьи уши. Ермилыч побелел от злости и вылетел из-за своей парты одним прыжком. В следующий момент на Атрахмана посыпался целый град ударов, так что он даже и не защищался, а самым позорным образом отступал в угол, напрасно стараясь защитить лицо рунами. Ермилыч поступал по приему всех великих героев, то есть не дал опомниться врагу. Кончив расправу, он преспокойно сел за свою парту. На него было просто страшно смотреть, – бледный, задыхающийся, с остановившимися глазами и судорожной улыбкой на своих бескровных губах.
– Будешь помнить заячьи уши… – хрипло шептал он.
Атрахман был посрамлен. Бурее сегодня вообще не везло, хотя она и выставила своих первых бойцов. В резерве оставался главный силач Демьяныч, во он не желал принимать никакого участия в задиранье квартирных. Как все настоящие силачи, Демьяныч отличался самым мирным характером и только улыбался какой-то больной улыбкой. Бурса умела ценить героев, и в течение двухлетнего курса я не помню, чтобы кто-нибудь задирал Демьяныча.
После нанесенного Ермилычем поражения Атрахману бурса решилась выместить все на нашем старшем Илье Введенском. Травля шла настойчиво, и бурса проявляла сплоченность действия, тогда как квартирные действовали только врассыпную. Проявлявший у себя дома просвещенный деспотизм, Введенский оказался в классе самым жалким трусом. К нему подошел единственный толстый бурсак Галуппи, посмотрел несколько мгновений в упор и без всяких слов ударил его. Этот военный прием Галуппи вызвал бурное одобрение.
– Валяй, Галуппи, Просвирню по уху!..
– Братцы, смотрите, как у Просвирни обе щеки трясутся… Ай да Галуппи, молодец!..
Галуппи, поощренный общим одобрением, действовал медленно и наносил удар за ударом не спеша, с самым серьезным лицом, точно он исполнял какую-то очень важную обязанность. Припоминая, как Введенский истязал Пашу и Ваню, я нисколько не пожалел его, а даже думал про себя: «Так его и надо…» Всего интереснее было то, что Александр Иваныч, сидевший рядом с Введенским, не пошевелил пальцем, чтобы заступиться за него, а только хохотал…
Вообще первый училищный день прошел в усиленных драках, напоминавших бои молодых петухов. Нужно заметить, что большинство этих драк происходило точно по обязанности… Известное молодечество, удаль и молодой задор требовали выхода, и бурса его находила.
…Главным неудобством в личном составе нашего класса являлось то, что между учениками была слишком большая разница в летах – тринадцатилетние мальчики, с одной стороны, и двадцатилетние парни с другой. Из этого неравенства и естественного перевеса физических сил возникал особый вид школьного рабства.
VII
Училищное начальство состояло из ректора, очень почтенного священника отца Петра, и инспектора училища отца Константина. Ректор иногда посещал классы, а в общем мы его редко видели. Он пользовался общим уважением, и его боялись, потому что ему принадлежала карающая власть. Главной карой было увольнение из училища, а затем – субботние расчеты, когда училищный сторож Палька сек за леность, табакокурение и другие провинности. Нужно сказать, что сечение производилось не каждую субботу, и я в течение двухлетнего пребывания в училище только раз слышал издали отчаянные вопли наказуемых… Самому мне ни разу не пришлось познакомиться с искусством Пальки, типичного отставного солдата из поляков, с крючковатым носом и всегда сонными глазами. Ректор обыкновенно являлся в наш класс в один из субботних уроков с роковым списочком в руках. Он никогда не сердился и не волновался, а только по своему списочку вызывал провинившихся, которые покорно и отправлялись за ним. Ученики относились к ректору тоже без злобы, как к человеку, который только исполнял свой долг.
В общем, наказания у нас, повторяю, применялись редко и то по каким-нибудь особенным случаям.
Совершенно иные отношения существовали с инспектором, особенно у бурсы, которая не любила его. На чем основывалась эта нелюбовь, я не могу понять до сих пор. Инспектор ничем особенным не выделялся, кроме того, что из года в год вел самую отчаянную борьбу с бурсой. Кажется, не было такой пакости, которую бурса не устроила бы неприятному инспектору. Все средства считались дозволенными. В свою очередь, инспектор, может быть, иногда злоупотреблял стереотипной фразой:
– А тебя, Словцов, ве-ли-ко-леп-но высекут.
Может быть, эта нелюбовь к инспектору происходила от той простой причины, что с ним приходилось иметь дело в самые неприятные моменты и по самым неприятным поводам. Он преподавал катехизис и латинский язык, и его классы представляли величайшую грозу, – за полученную у инспектора двойку расчет производился у Пальки.
…Светских учителей, то есть ходивших в сюртуках, было всего трое: учитель русского языка, Григорий Алексеевич, очень милый и конфузливый молодой человек, которому не готовили уроков; учитель арифметики и географии Константин Михайлович, чахоточный, унылый мужчина, который, кажется, ни на что не обращал внимания, и учитель греческого языка, Николай Александрович. Последний являлся общим любимцем, и его класс всегда был лучшим. Это был красивый, подвижной молодой человек, державший класс в ежовых рукавицах и все-таки пользовавшийся общей любовью. Он умел держать весь класс в напряженном состоянии и видел каждого. Чуть кто не слушает, сейчас вопрос:
– А как перевести эту фразу?
Николай Александрович и задавал много, и требовал много, и в классе не позволял лениться. Для меня лично это был первый настоящий учитель, который умел оживить даже такой сухой предмет, как греческий язык. По моему мнению, каждый истинный педагог должен быть артистом, и таким именно артистом был Николай Александрович.
В общем, за исключением Николая Александровича, наша педагогия стояла очень невысоко, и вся наука сводилась на самое отчаянное зубрение, в силу установившихся взглядов, что умнее книги не скажешь. Мы просто не умели учить своих уроков и брали их на память. Здесь проявлялась старая бурсацкая закваска, которой были пропитаны самые стены заведения, как пропитываются миазмами стены госпиталей, лазаретов и больниц. Но не все можно было взять зубрежкой, и нужно было видеть те отчаянные усилия, которые затрачивались на арифметику. Были просто мученики, как наш Александр Иваныч. Кто-нибудь из товарищей решал задачу, а он ее выучивал уже по готовому. Александр Иваныч вообще не отличался блестящими способностями, но все-таки был человек смышленый и толковый, и просто было жаль смотреть, как он убивался над противной «мачимачихой». Он был отличный зубрила и учил урок, сидя на своем сундуке и раскачиваясь из стороны в сторону, как делают некоторые звери, которые слишком долго сидят в клетке и впадают в тихое, ритмическое помешательство.
…Из всех предметов училищного курса мне не давался один «Устав церковной службы», как я его ни зубрил. Происходило это оттого, что я, вероятно, по настоящему не умел зубрить, а главное – не понимал мудреного языка, каким он был написан. В самом деле, ведь нужно осилить такие слова, как «препразднство» и «попразднство».
VIII
Один день походил на другой, как у нас на квартире, так и в бурсе.
Я уже рассказывал, как у нас устанавливался на нашей квартире порядок и как Введенский изображал из себя начальство. Дальше власть начальства перешла уже в настоящий деспотизм. Действуя под прикрытием такой силы, как наш Александр Иваныч, Введенский потерял всякое чувство меры и развернулся во всю ширь. Постоянно заушая, он, с одной стороны, точно выдавал то, что получал сам в течение первых четырех лет своей училищной жизни, а получившие все это точно копили материал для будущего возмездия. И так велось из поколения в поколение; из поколения в поколение накоплялось то озлобление, которое сливало всю бурсу в какого-то тысячеголового полипа, где отдельные лица теряли всякое значение. Это – с одной стороны, а с другой – наша квартира являлась образцом какого-то особенного деспотизма, где царил безграничный произвол какого-нибудь временщика. Именно таким временщиком и был наш Введенский, неистовствовавший с каждым днем все больше. Ему доставляло наслаждение мучить маленьких человечков. Увлекшись собственным деспотизмом, Введенский переступил все границы возможного и наткнулся на Ермилыча, который наказал его беспощадно. Очевидно, Введенский рассчитывал на защиту Александра Иваныча, но тот изменил, как только умеют изменять люди подобного рода, и выдал Введенского с годовой.
– Ну-ка, Ермилыч, хорошенько утешь Просвирню, – поощрял он, заливаясь неудержимым смехом. – Валяй, но чтобы синяков не было…
И Ермилыч «утешал» Просвирню на глазах у всех. Как все деспоты, Введенский совершенно растерялся и даже заплакал, что уже совсем не полагалось.
Но все, что делалось у нас в квартире, являлось только цветочками по сравнению с жизнью бурсы, где все принимало грандиозные размеры. Вечным пугалом бурсы и мотивом для всевозможных жестокостей являлась мысль об ябеднике. Этот ябедник разыскивался всеми путями и средствами, причем бурса проявляла иезуитскую изворотливость. Стоило инспектору наедине поговорить с каким-нибудь из учеников или оказать ему внимание не в пример другим, – и человек пропал. Бурса в этом случае действовала чисто по-иезуитски. Она сразу не набрасывалась на заподозренного, а только устраивала самый строгий надзор за ним и выдвигала самые удобные поводы для ябедничества… Как теперь, вижу одного несчастного бурсака, который пришел к нам на квартиру, убитый, уничтоженный, близкий к помешательству. Это был скромный мальчик, которого инспектор отличил среди других, но это его погубило.
– Тебя били, Алферов? – спрашивал я под секретом, с глазу на глаз.
Он осмотрелся кругом и проговорил упавшим голосом:
– Меня уж давно бьют…
– Очень бьют?
– Нет, хуже, чем бьют.
Оказалось, что бурса применяла к нему всевозможные способы истязания. Расправа производилась обыкновенно по ночам. Находились отчаянные головы, которые по целым часам сторожили, когда жертва заснет. Мучения производились настойчиво, причем виновных не оказывалось. Бедный Алферов особенно не мог вспомнить без содрогания подушек. Дело в том, что, когда он засыпал, бурсаки накидывались на него всей оравой и принимались колотить подушками. Сам по себе один или несколько ударов подушкой – вещь совершенно невинная, но когда на несчастного сыпался целый град таких ударов, получались тяжелые последствия… Если бы он и пошел даже жаловаться, то никакой медицинский осмотр не нашел бы ни малейших признаков побоев.