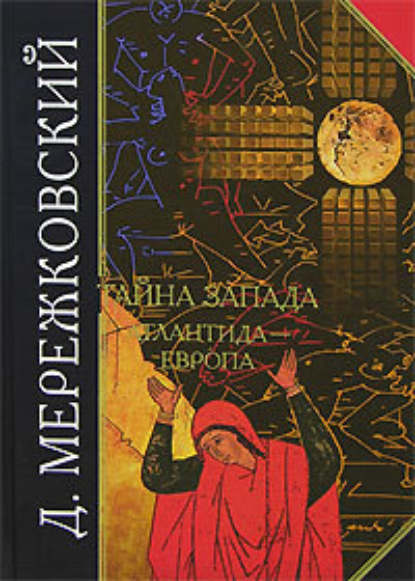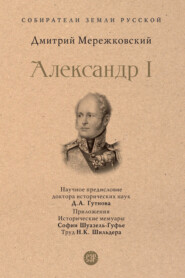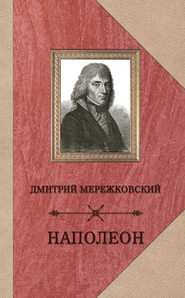По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Тайна Запада. Атлантида – Европа
Жанр
Серия
Год написания книги
1930
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
IX
«Мир лучше войны», помнит Египет, вечерняя заря Атлантиды; Греция – глухая ночь – уже забыла. Не потому ли и Платон забыл или помнит слишком смутно, отчего погибла Атлантида?
«Басней» заслоняет «сущую истину», но и сквозь басню слышится истина.
«В роды родов, доколе божеское семя господствовало в них (атлантах), блюли они закон, и богом рожденные, волю его творили во всем, потому что велики были все помыслы их, и что бы им судьба ни посылала, они поступали мудро и милостиво друг к другу, ставя все ни во что, кроме добра, почитая все свое величие за малость и неся, как легкое бремя, тяжесть золота и всех своих сокровищ, не падая под ними, как пьяные, не теряя над собою власти, но трезвясь и видя острым оком, что все это ко взаимной любви и добру само прилагается, а от корысти и жадности не только гибнет само, но губит своих обладателей.
Этим-то познанием, а также сохранявшейся в них божеской природой, умножались у них все те блага, о которых мы говорили».
Так было в роды родов, но не вечно. «Божеское, смешиваясь слишком часто и много с человеческим, постепенно убывало в них, и когда, наконец, человеческое совершенно возобладало над божеским, то, уже не в силах вынести того, что имели, развратились они. Зрячие видели, что, погубив прекрасную славу свою, сделались они презренными, а слепые почитали себя все-блаженными и всепрекрасными, в то время как пресытились они неправедным богатством и могуществом» (Pl., Krit., 120, d – e. 121, a – b).
Тогда-то, обуянные «духом божеской, титанической гордости» – hybris, решили они, «устремившись из глубины Атлантики на всю Европу и Азию, поработить их одним ударом».
Х
Бога-жертву заклав, божьей крови испив и облекшись в прекраснейшие, темно-синие, как синева Океана, одежды, десять царей Атлантиды сидели на стынущем пепле жертвы, во святилище, где все огни были потушены, и только рдяный отблеск от потухавших на жертвеннике углей да звездный свет мерцали на орихалковом столбе Закона.
«Мир или война», решали они судьбы Атлантиды, судьбы двух человечеств – своего и нашего. Были, может быть, и среди них слепые и зрячие, глупые и мудрые. Если так, то уже не могли они решить, по древнему согласию – древней «магии», а должны были решать по новой «механике» – большинству голосов: «мир или война?» И глупых оказалось, как почти всегда, больше, чем мудрых; они-то и решили войну – мировую войну за мировое владычество.
Но если и один только мудрый был среди них, то, сидя на стынущем пепле жертвы, он знал, что вся Атлантида будет пеплом и жертвою.
XI
Он знал, что ось мира колеблется, меркнет солнце, озаряющее Остров Блаженных, белая магия становится черною: пили кровь божью – будут пить кровь человеческую; жертвовали миру собою – будут жертвовать миром себе.
Скисло молоко в грозу; кристаллизовался соляной раствор вокруг палочки, с магической внезапностью; кручи райского берега сделались срывами в ад.
«Умный и страшный Дух Небытия» торжествовал: кончился мир, началась война.
XII
«И воззрел Господь Бог на землю, и вот, она растленна, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле» – путь мира на путь войны. «И сказал Господь Бог: конец всякой плоти пришел пред лицо Мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями. И вот, Я истреблю их с земли» (Быт. 6, 12–13).
XIII
«Бог богов, Зевс, – повествует Платон, – царящий в законе, всевидящий, видя, как низко пал род их (атлантов), и решив их казнить, чтобы в разум пришли и покаялись, собрал богов в обитель славнейшую, воздвигнутую в сердце мира, откуда видно все, что причастно рождению, и, собрав их, сказал…»
Что сказал, мы никогда не узнаем: «Критий» на этом слове обрывается. Что произошло и с Атлантидой, мы не узнали бы, если бы не краткие слова «Тимея». Афиняне победили атлантов. Но после того «произошли ужасные землетрясения, потопы, и в один злой день, в одну злую ночь, ваше (афинское) войско, все до последнего воина, поглощено было внезапно разверзшейся под ним землею, и остров Атлантида, погрузившись в море, исчез» (Рl., Tim., 25, c – d).
XIV
Гибель первого человечества – величайшее из всех событий мира – описана одним только словом: «исчез», ?phanisth?.
Бог «вскормил» атлантов; люди «пили» кровь бога; остров Атлантида «исчез»: слово для начала, слово для середины и слово для конца. Вся «Атлантида» – в трех словах – трех лучах, сверкающих сквозь облако дыма – мифа – от огня мистерии. Чудо Платонова гения в этой краткости. Равная – может быть, только у Гераклита; большая – только в «Бытии». Но для нас, увы, эти три слова – три загадки, одна темнее другой, и, кажется, последняя – самая темная.
Казнь Атлантиды понятна, но за что казнены афиняне – «лучшее племя людей», только что совершив «величайший подвиг»?
Вспомним еще раз, в конце беседы, ее начало и цель: плотью и кровью облечь отвлеченную схему Сократовой истины, показать совершенную республику – «Град Божий» – в героическом действии. Что же показано? Общая гибель злых и добрых. «Участь одна праведному и неправедному, доброму и злому… Все идет в одно место: изошло из праха и отыдет в прах» (Екклезиаст). Но ведь, с такою мудростью, если что и построишь, то разве только «Город мертвых», а не «Город живых».
Или прав Титан:
Новый кормчий правит небом,
На Олимпе Зевс насильем
Стародавние законы
Святотатственно попрал?
(Aesch., Promet., v. v. 148–151)
Прав Иов: «О если бы человек мог состязаться с Богом, как сын человеческий с ближним своим!» – «Вот я кричу: „Обида!“ и никто не слушает; вопию, и нет суда»? (Иов., 16, 21; 19, 7.)
Или правее всех жена Иова: «Похули Бога и умри»? (Иов., 2, 9.)
XV
Здесь, у Платона, концы с концами не сходятся: начал за здравье, кончил за упокой Сократовой и своей Республики. Град Божий – плод всей своей мудрости – хотел вознести до неба и низверг в преисподнюю; только что попробовал сдвинуть его неподвижную схему, как все рушилось, словно песочная башенка, игрушка детей.
«Люди-боги» или Сократовы «демоны» вели наилучшим путем наилучшую Республику, и вот до чего довели – до хулы на Бога в бессмысленной гибели.
XVI
Или Зевс все-таки прав, казнив атлантов и афинян общею казнью, потому что и эти не лучше тех: «всякая плоть извратила путь свой на земле»? Но, если, как учит Платон, от «уцелевшего малого семени» первого человечества произошло второе, то нет ли и в нем той же заразы, и спасут ли его новые «люди-боги», вожди новой Республики, – не поведут ли тем же путем к той же гибели?
Знает ли это Платон? Или того, что знает о далеких атлантах, не хочет знать о близких афинянах, – закрывает на это глаза от какого-то страха?
XVII
Страх смертный находил на него, когда он писал «Атлантиду»; не дописав, умер от страха. Кажется, читая последние строки диалога, видишь, как рука его слабеет, дрожит.
Конец «Атлантиды» – конец Платона. Ею он болен, от нее умирает. Остров Блаженных – предсмертная греза его, горячечный бред:
Болезненно-яркий, волшебно-немой,
Он взял легко над гремящею тьмой —
тьмой смерти.
XVIII
«Если не покаетесь, все также погибнете!» – хочет он крикнуть афинянам, видя гибель атлантов, и не может, – чувствует, что ему самому нужно в чем-то покаяться, но не знает, в чем.
XIX
Есть у Платона диалоги метафизически более высокие, но нет более трагически-глубокого, чем этот. В «Атлантиде» вся его собственная трагедия. Чем больше вглядываешься в нее, тем яснее видишь, что он ее не выдумал, а только передал в ней то, что слышал от других, во что другие верили. Верил ли и он?
«Атлантида была – Атлантиды не было», двуострое жало этой дилеммы, кажется, пронзает сердце Платона еще больнее, чем наше; эта загадка для него еще неразгаданней.
XX
Люди перед смертью иногда сходят немного с ума: «Атлантида» – такое безумье Платона.
«Я не чувствую в себе прежней твердости рассудка», – признавался Ньютон, когда писал «Комментарий к Апокалипсису». В том же мог бы признаться и Платон, когда писал «Атлантиду».