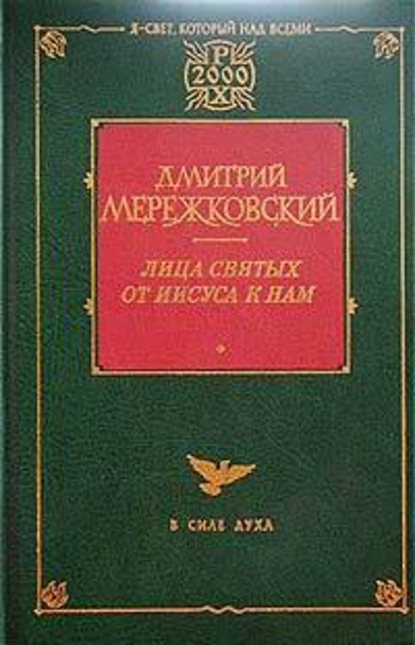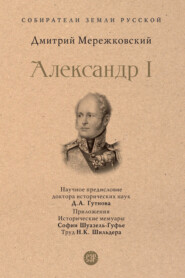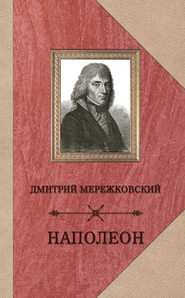По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Павел. Августин
Жанр
Год написания книги
1936
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В самом городке, так же как почти во всех, даже захолустных, римских муниципиях, – мраморные колоннадки, триумфальные арки, термочки, театрик, форумчик, – все это как будто величественное, а на самом деле игрушечно-малое. Тут же, рядом, – пустыри, заваленные бревнами и досками (Тагаст был главным рынком, emporium, Лесной Нумидии), и утопавшие в зелени плодовых садов и виноградников, белые, с плоскими кровлями, домики. В одном из них и родился Августин.[125 - Lois Bertrand. Autour de Saint Augustin. Paris: A. Fayard & C° {1921}. P. 18–21.]
XII
Отец его, по имени Патриций, землевладелец, незнатного рода, все же член-куриал «сиятельнейшего» Тагастского сената, – почетное звание с чином «Светлейшего», но не доходное, – был небогат:[126 - …Patris municipis Thagastensis admodum tenuis. – Confess. II. 3.] имел усадьбу с плодовым садом, виноградником и, должно быть, небольшим полем. Так как с семьей на это не проживешь, то, вероятно, имел и другие доходы, может быть, от скотоводства и лесной торговли, как большинство тагастских граждан.[127 - Prosper Alfaric. Les еcritures Manichеennes, leur constitution leur histoire. Paris: E. Nourry, 1918. I. P. 8.] Но дела шли плохо; едва сводил концы с концами.
Был язычником, не слишком, впрочем, ревностным, а жена его, Моника, была христианкою, тоже не слишком ревностной, – «медленной», «косной», tardior, по слову самого Августина.[128 - Confess. II. 3. – Jam de medio Babylonis fuderat, sed ibat… tardior.] «Жили супруги в добром согласии», вопреки различью веры. Через много лет по смерти мужа Моника выберет себе место для могилы рядом с ним, «чтобы и в смерти быть в таком же тесном союзе любви, как при жизни». Будет соединять их и Августин, в благодарных молитвах за обоих вместе – за грешного отца и святую мать.[129 - Valde concorditer vixerunt. – Confess. IX. 11. Confess. IX. 13.]
«Сердцем был Патриций очень добр, но вспыльчив до бешенства», – так что соседки удивлялись, что Моника «ходит без синяков, – не то что они, при лучших, казалось бы, мужьях». Эти безумные припадки гнева его, так же как постоянную супружескую измену, побеждала Моника тихой, явной уступчивостью и тихим тайным упорством, которыми мало-помалу овладела мужем так, что настоящей хозяйкой в доме сделалась она;[130 - Confess. IX. 9.] она же решала и решила судьбу Августина.
XIII
Новорожденный не был крещен, по воле не отца-язычника, а христианки-матери. Многие думали тогда, что чем позже креститься, тем лучше, потому что все грехи смываются в купели, а совершенные после крещения особенно тяжки, может быть, даже непростимы вовсе.
Только крестным знамением осенила мать чело новорожденного, вложила в уста его щепотку «освященной соли», чтобы нечистый дух не вошел в младенца, и внесла имя его в церковные списки «оглашенных», catechumeni.[131 - Confess. I. 9. – Bertrand. 44.]
Имя его было двойное: «Аврелий Августин». Первое, должно быть, от отца, «язычника», – забыто будет навсегда; останется только второе, «христианское», должно быть, от матери. Но, сколько бы Августин ни забывал «Аврелия», сколько бы ни отрекался от него, – никогда не забудет, не отречется до конца; вечно будет раздираться между «Августином» и «Аврелием», так же как Павел – между «Павлом» и «Савлом».
Кажется, «огненную силу», vigor igneus, африканской крови унаследовал он от отца, а от матери – умеряющий холод крови италийской, северной (в жилах у многих туземцев Римской Северной Африки текла италийская кровь). Если так, то в самом Августине Аврелии так же, как в родной земле его, борются и сочетаются Север и Юг, Европа и Африка; чувствуется Августин сквозь Аврелия, так же как в Тагастских долинах сквозь огненное дыхание пустыни веет свежая влага дремучих лесов.
XIV
Первая и главная его учительница – мать. «Имя Спасителя моего всосал я с молоком матери».[132 - Confess. III. 4, ad fin.] Благодарную память о том сохранит он до конца дней.
На восьмом году мальчика отдали в городскую школу, где будущий великий ученый начал с того, что возненавидел все науки, особенно греческий язык и арифметику. Ленится, «любит только играть» да слушать волшебные сказки о древних богах. Школьный учитель наказывает его жестоко палкой, розгой и даже малым подобием «скотского бича». Мальчик жалуется на побои отцу и матери, а те только «смеются». Судя по тому, как вспоминает он об этом через сорок лет, первая глубокая рана, нанесенная детскому сердцу его, нанесена этим равнодушным сердцем матери. Вспомнит, может быть, о той же ране, через семьдесят лет, незадолго до смерти, когда скажет: «Кто не ужаснулся бы и не пожелал бы лучше умереть, если б предложили ему снова пережить все муки детства?»[133 - Confess. I. 9. – Gustave Combеs. Saint Augustin et la culture classique. Paris: Plon, 1927. P. 2. – Guilloux. 26. Confess. I. 9. De civit. Dei. XXI. 14.]
XV
Матерью земной покинутый, молится он Отцу Небесному: «Сделай, сделай, сделай, чтоб меня учитель не бил!» – «Связки языка моего повреждал я, rumpebam nodos linguae meae, – так исступленно молился». Но не исполнилась молитва: на следующий день учитель бил его еще сильнее. И понял он наконец, что Богом покинут так же, как людьми.
В этой-то муке первой неуслышанной молитвы, может быть, и почувствовал впервые, без слов, без мыслей то, что будет мукой всей жизни его, – вопрос: «Что такое зло? Quid sit malum?»[134 - Confess. I. 9. De natura boni. IV.] Всеблаг ли Бог, но не всемогущ или всемогущ, но не всеблаг?
Кажется, около этого времени так тяжело заболел, что был почти при смерти. «Ты, Господи, знаешь, с какой надеждой и верой умолял я тогда мать о крещении… Горем и страхом пораженная, она уже сделала все, что для этого нужно… Но мне стало вдруг легче, и таинство было отложено» (все потому же: чем позднее креститься, тем лучше). Думает он, конечно, и о матери, вспоминая об этом и обличая других: «Часто говорят (об оглашенных): пусть еще делает, что хочет: ведь он не крещен». Но отчего же не говорят о том, кто лечится от ран: «Пусть еще ранит себя: ведь старые раны у него еще не зажили».
Если бы спросили Августина, кто из людей был главным для него орудием спасения, он ответил бы, не задумываясь: «Мать».
– «В духе, она родила меня, с большими муками, чем в теле».
– «Сына крови своей сделала сыном слез»[135 - Confess. I. 11. Confess. V. 8. Francois de Sales. Introduction ? la vie dеvote. I. 88.] Выплакала, вымолила его у Бога. Кажется, нельзя больше любить, чем она его любит. Но вот хочет ему сделать добро – и делает зло. Если бы знала, на какие муки, заблуждения, отступления от Христа, обрекала его этим отказом в крещении, то как ужаснулась бы! Но не знала – делала зло, и помимо нее, вопреки ей, из зла вышло добро.
Надо ли было Августину креститься в самом начале жизни? Нет, не надо. Но вовсе не потому и так далеко от того, почему думала мать, что, если бы тогда ей сказали об этом, она не поверила бы и даже не поняла бы, что ей говорят. Надо ему было выйти из церкви, отступить от Христа и снова вернуться к Нему, чтобы сделаться в веках учителем всех уходящих из Церкви, отступников; надо было самому, ослепнув, заблудиться, чтобы выводить на дорогу всех слепых, блуждающих; надо было самому погибать, чтобы сказать всем погибающим: «Братья мои, я не хочу спастись без вас!»[136 - Sermo. 17, 2; 232, 4.]
Только в таких муках мог родиться от св. Моники св. Августин.
XVI
На тринадцатом году мальчика отправили в соседний город Мадавр, цветущую римскую колонию, чтобы продолжать учение.[137 - Alfaric. I. 63.]
Здешние учители, усердные поклонники древних богов, помня недавние, золотые для язычества, дни императора Юлиана Отступника, учат детей так, как будто никогда никакого христианства и не было. Это для Августина не пройдет даром: маленький язычник Аврелий выйдет из школы почти таким же «отступником», как великий язычник Юлиан.
Здесь, в Мадавре, учится он уже не из-под палки, а по собственной охоте. Но года через три должен был вернуться в Тагаст, потому что дела отца его были так плохи, что платить за учение сына он уже не мог. Весь шестнадцатый год жизни провел Августин в праздности, начиная томиться и мучиться «плотскою похотью, libido».[138 - Papini. 25. Confess. II. 3.]
В том же году умер отец, крестившись незадолго до смерти. Друг отца, богатый тагастский землевладелец Романиан, взял Августина на свое попечение и отправил его, на свой счет, для окончания наук в Карфаген.[139 - Contra academicos. II. 6.]
XVII
«Тернии похоти моей так разрослись, что покрыли меня с головой» (уже в тагастской праздности), а «только что я прибыл в Карфаген, как охвачен был отовсюду трещащим костром похотей». – «Я валялся в их нечистотах, как в благовонных мастях, и в самую гущу их втаптывал меня все глубже невидимый Враг и соблазнял, потому что я хотел быть соблазненным». – «Я ненавидел все безопасные, без мышеловок, пути» – т. е. карфагенские улицы, без домов терпимости. – «Я любил погибать, amavi perire». «Похотью сплошной» была тогда вся его жизнь, libido sine ullo inserstitio. «Будь я только уверен тогда, что душа не бессмертна и что на том свете не будет за грехи возмездия, я предпочел бы Эпикура всем учителям», – значит, и Христу предпочел бы. «А если бы дано мне было и бессмертие, в вечном сладострастии, без всякого страха его потерять, то почему – спрашивал я себя, – это не было бы совершенным блаженством и что еще я мог бы пожелать?»[140 - Excesserunt caput meum libidinum. – Confess. II. 3. – Circumstabat me undique sartago flagitiorum amorum. – Confess. III. 1. Confess. II. 3. Confess. III. 1. Confess. II. 4. Papini. 215. Confess. VI. 16.]
Так забыл или только хотел забыть Христа, как будто никогда ничего и не слышал о Нем. «Суше паутины иссушил Ты сердце мое, Господи!»[141 - Tabesci fecisti sicut araneam animam meam, – скажет о другом, но мог бы сказать и об этом. – Confess. VII. 10.] Умер или умирал заживо. Что же спасло его?
В церкви (значит, все-таки ходил или заходил иногда в церковь) увидел однажды молодую женщину или девушку, должно быть очень красивую, потому что «распалился на нее похотью» так, что «тут же, в церкви, начал торговаться» (вероятно, со сводней), «чтобы купить этот плод смерти».[142 - Confess. III. 3.] Купить не на свои деньги, – у него самого ни гроша, – а на чужие, Романиана, благодетеля, у которого он тогда на хлебах, – купить женщину, как вещь или домашнее животное, которое и всякий другой за ту же цену мог бы купить. Скверно начнет – хорошо кончит: «плод смерти» будет для него «плодом жизни». Этого он не говорит и не думает, но что это действительно так, мы узнаем от него самого. «Все эти годы (от 17-го до 31-го) я имел ее одну, unam habebam… и, хотя не был с нею в том, что называется «законным браком», quod legitimum vocatur conjugium, был верен ей одной».[143 - Confess. IV. 2.] Долгие годы будет ей верен, а она ему – всю жизнь: когда он уйдет от нее – она пострижется в монахини (таков вероятный для того времени смысл данного ею «обета безбрачия»).[144 - Confess. VI. 15.] Это для них обоих – первая и последняя, единственная любовь.
Сын, родившийся на следующий год после встречи их (отцу шел тогда 19 год) и нежно им любимый всю жизнь, – тоже плод не смерти, а жизни.
Все это и значит: слово Господне о браке: «двое будут одна плоть» – исполнилось для них обоих; перед людьми – не «то, что называется браком», а перед Богом – то самое.
XVIII
Кто она? Этого он не говорит, даже по имени не называет ее ни разу. «Та, которую я имел, habebam», – говорит о ней как о вещи или еще мертвее, как будто бесчувственней: «Та, с которой я привык спать, cum qua cubare solitus».[145 - Confess. IV. 2; VI. 15.] А ведь и любимую собаку человек называет по имени. Что это? В самом деле бесчувственность? Едва ли. Чтоб это понять, надо вспомнить, что Августин говорит на монашеском языке V века и многого не может сказать, для чего, на этом языке нет слов; что многого не посмел бы сказать и ни на каком языке и что, наконец, просто не видит многого. Меньше всего видит в браке; тут как бы слепая точка, «темная вода» в глазу не только у него, но и у всей монашеской святости. Но, может быть, это вовсе не «бесчувственность», а что-то совсем иное. Через годы и годы, уже на пороге старости – святости, уже в почти небьющемся ни для чего земного сердце монаха, память о ней, Безымянной, – все еще слишком для него живая рана; имя ее назвать – прикоснуться к ране – больно ему, и страшно: как бы снова не открылась. «Сердце мое, все еще прилепленное к ней, терзалось так, что истекало кровью – влачилось в крови, trahebat sanguinem»… А потом, когда он уже покинул ее, – «рана его из кровавой сделалась гнойной, putrescebat».
Это говорит он о том, что было много лет назад и что прошло, как будто бесследно, но вот не прошло: все еще слышится в этом воспоминаньи не «бесчувственность», а умерщвляемое – неумертвимое чувство.[146 - Confess. VI. 15.]
Вся плоть мира для него, как он сам говорит, – «из ничего почти ничто, de nulla re реne nullam rem»;[147 - Confess. XII. 3.] «есть как бы не есть, est non est»,[148 - Confess. XII. 6.] – но вот все еще слишком есть.
«Помни того святого, который краем одежды обвил руку, когда нес на руках свою престарелую мать», – остерегает подвижников св. Исаак Сириянин. Кажется, и это молчание Августина о Безымянной – такой, руку обвивающий, край одежды.
XIX
Судя по тому, что он встретил ее в церкви, она, должно быть, христианка. Если так, то в жизни его все решают две христианки: св. Моника и эта, перед людьми «грешная», а перед Богом невинная, или тоже святая (в те времена постриг – первый шаг на пути к святости). Знают все, что для него сделала мать, а что сделала эта Безымянная, никто не знает. Но если любовь – дело, то и эта кое-что сделала.
Почему же не назвал он ее женою перед людьми и перед Богом? Может быть, потому, что и сам не знал, что любит ее как жену: тут опять «слепая точка» в глазу его, «темная вода» монашеской святости; и еще, может быть, потому, что этого мать не хотела, или он знал, по горькому опыту тагастских дней, что не захочет. «Близкие мои, когда я погибал (от похоти)… не позаботились спасти меня брачными узами». Судя по тому, что с ним будет потом, во всей первой половине жизни, слово «погибал», «падал в бездну», ruentem, – едва ли здесь преувеличение. «Даже матерь плоти моей… тогда еще косная на пути Твоем, Господи… о спасении моем не заботилась, non curavit, потому что боялась, как бы не помешали успеху моему на словесном поприще (в школе риторики) брачные узы… Вот почему родители мои вместо того, чтобы сдерживать похоть мою, давали ей волю – распускали вожжи, relaxabantur etiam habenae».[149 - Confess. II. 2; Confess. II. 3.]
Первое столкновение Августина с матерью (если не считать смеха ее над избитым в школе ребенком) – отложенное крещение, а второе – это отложенный брак. Так же и теперь, как тогда, мать любит его и ранит; чем больше любит, тем глубже ранит, хочет сделать добро – и делает зло; хочет спасти – и едва не губит. Но и теперь, как тогда, помимо нее, вопреки ей, выйдет из зла добро.
Среднего пути для такого человека, как Августин, в то время не было, а было только два крайних пути: или погибнуть, быть грешным, или быть святым, спастись; а святость значила тогда «безбрачие», «монашество». Вот к чему и вела его мать или кто-то Другой вел через нее, помимо нее, вопреки ей, по самому краю бездны; явно губил, тайно спасал.
XX
«Африка, – по слову Ювенала, – адвокатская нянюшка: хочешь прокормиться языком, – ступай в Африку».[150 - Juven. Sat. VII. 146–147.]
Выйдя из школы «первым учеником, надутым гордыней», Августин сам открывает «школу красноречия», чтобы «прокормиться языком», и становится тем, чем будет долгие годы, – «ритором», «словесником», «лавочником слов»; торгует болтовней, «побеждающей» в тяжбах:[151 - Venditor verborum, Victoriosam loquacitatem vendebam. – Confess. IX.] этим «прокормиться» можно, но кое-как, впроголодь, потому что здесь, в Карфагене, слишком много соперников, таких же, как он, «болтунов».
«И это все? И так, до гроба?» – спрашивает как будто не он сам себя, а чей-то тихий голос в нем. Что бы ни делал, ни думал, ни говорил, как бы ни заглушал этот голос громким звоном продаваемых слов, – тот все твердит свою: «И так до гроба? и это все?»
Путник, заблудившийся ночью в лесу, еще не зная, но уже чувствуя, что не туда идет, куда надо, продолжает идти наобум, но с каждым шагом растет в нем беспокойство: так и в Августине беспокойство росло в эти дни.
«Господи, Ты создал нас для Себя, и не успокоится сердце наше ни в чем, кроме Тебя!» – скажет много лет спустя, но, может быть, и теперь уже чувствует. Сколько бы ни забывал Христа умом, – сердцем помнит.
XXI