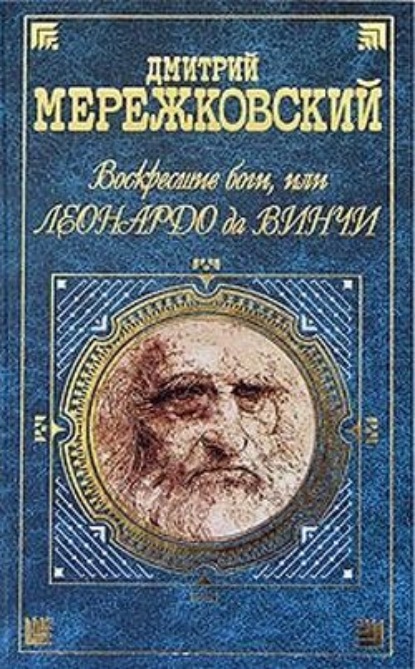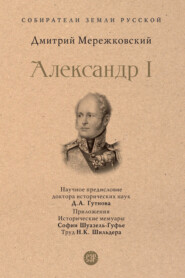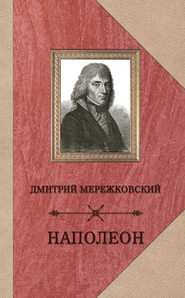По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Воскресшие боги, или Леонардо да Винчи
Серия
Год написания книги
2008
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Моро отсчитал восемь минут по маленьким песочным часам, опустился на колени, сложил руки и прочел «Confiteor» [13 - «Каюсь» (лат. ).].
Молился он долго и сладко.
– О Матерь Божия, – шептал, подняв умиленные взоры, – защити, спаси и помилуй меня, сына моего Максимилиана и новорожденного младенца Чезаре, мою супругу Беатриче и мадонну Чечилию, – а также моего племянника мессера Джан-Галеаццо, ибо, – ты видишь сердце мое, Дева Пречистая, – я не хочу зла моему племяннику, я молюсь за него, хотя, быть может, смерть его избавила бы не только мое государство, но и всю Италию от страшных и непоправимых бедствий.
Тут вспомнил он доказательство своего права на миланский престол, изобретенное законоведами; будто бы старший брат его, отец Джан-Галеаццо, был сыном не герцога, а только военачальника Франческо Сфорца, ибо родился прежде, чем Франческо вступил на престол, тогда как он, Лодовико, родился уже после того и, следовательно, был единственным полноправным наследником.
Но теперь, перед лицом Мадонны, это доказательство представилось ему сомнительным, и он заключил молитву свою так:
– Если же я в чем-нибудь согрешил или согрешу пред Тобою, Ты знаешь, Царица Небесная, что я это делаю не для себя, а для блага моего государства, для блага всей Италии. Будь же заступницей моей перед Богом – и я прославлю имя Твое великолепною постройкою собора Миланского и Чертозы Павийской, и другими многими деяниями!
Окончив молитву, взял свечу и направился в спальную по темным покоям спящего дворца. В одном из них встретился с Лукрецией.
«Сам бог любви благоприятствует мне», – подумал герцог.
– Государь!.. – воскликнула девушка, подходя к нему. Но голос ее оборвался. Она хотела упасть перед ним на колени; он едва успел удержать ее.
– Смилуйся, государь!..
Она рассказала ему, что брат ее, Маттео Кривелли, главный камерарий монетного двора, человек беспутный, но нежно ею любимый, проиграл в карты большие казенные деньги.
– Успокойтесь, мадонна! Я выручу из беды вашего брата…
Немного помолчав, прибавил с тяжелым вздохом:
– Но согласитесь ли и вы не быть жестокой?..
Она посмотрела на него робкими, детски ясными и невинными глазами.
– Я не понимаю, синьор?..
Целомудренное удивление сделало ее еще прекраснее.
– Это значит, милая, – пролепетал он страстно и вдруг обнял ее стан сильным, почти грубым движением, – это значит… Да разве ты не видишь, Лукреция, что я люблю тебя?..
– Пустите, пустите! О, синьор, что вы делаете! Мадонна Беатриче…
– Не бойся, она не узнает: я умею хранить тайну…
– Нет, нет, государь, – она так великодушна, так добра ко мне… Ради бога, оставьте, оставьте меня!..
– Я спасу твоего брата, сделаю все, что ты хочешь, буду рабом твоим, – только сжалься!..
И наполовину искренние слезы задрожали в голосе его, когда он зашептал стихи Беллинчони:
Я лебедем пою, пою и умираю;
Амура я молю: о, сжалься, я сгораю!
Но раздувает бог огонь моей души
И говорит, смеясь: слезами потуши!
– Пустите, пустите! – повторяла девушка с отчаянием.
Он наклонился к ней, почувствовал свежесть ее дыхания, запах духов – фиалок с мускусом – и жадно поцеловал ее в губы.
На одно мгновение Лукреция замерла в его объятиях.
Потом вскрикнула, вырвалась и убежала.
IX
Войдя в спальную, он увидел, что Беатриче уже погасила огонь и легла в постель – громадное, подобно мавзолею, ложе, стоявшее на возвышении посреди комнаты под шелковым лазурным пологом и серебряными завесами.
Он разделся, приподнял край пышного, как церковная риза, тканного золотом и жемчугом одеяла, свадебного подарка феррарского герцога, – и лег на свое место, рядом с женой.
– Биче, – произнес он ласковым шепотом, – Биче, ты спишь?
Он хотел ее обнять, но она оттолкнула его.
– За что?
– Оставьте! Я хочу спать…
– За что, скажи только, за что? Биче, дорогая! Если бы ты знала, как я люблю…
– Да, да, знаю, что вы нас любите всех вместе, и меня, и Иеиилию, и даже, чего доброго, эту рабыню из Московии, рыжеволосую дуру, которую намедни обнимали в углу моего гардероба…
– Я ведь только в шутку…
– Благодарю за такие шутки!..
– Право же, Биче, последние дни ты со мной так холодна, так сурова! Конечно, я виноват, сознаюсь: это была недостойная прихоть…
– Прихотей у вас много, мессере!
Она повернулась к нему со злобою:
– И как тебе не стыдно! Ну зачем, зачем ты лжешь? Разве я не знаю тебя, не вижу насквозь? Пожалуйста, не думай, что я ревную. Но я не хочу, – слышишь? – я не хочу быть одной из твоих любовниц!..
– Неправда, Биче, клянусь тебе спасением души моей – никогда никого на земле я так не любил, как тебя!
Она умолкла, с удивлением прислушиваясь не к словам, а к звуку его голоса.
Он в самом деле не лгал или, по крайней мере, не совсем лгал: чем больше он ее обманывал, тем больше любил; нежность его как будто разгоралась от стыда, от страха, от угрызения, от жалости и раскаяния.
– Прости, Биче, прости все за то, что я тебя так люблю!..
И они помирились.
Обнимая и не видя ее в темноте, он воображал себе робкие, невинные глаза, запах фиалок с мускусом; воображал, что обнимает другую, и любил обеих вместе: это было преступно и упоительно.
Молился он долго и сладко.
– О Матерь Божия, – шептал, подняв умиленные взоры, – защити, спаси и помилуй меня, сына моего Максимилиана и новорожденного младенца Чезаре, мою супругу Беатриче и мадонну Чечилию, – а также моего племянника мессера Джан-Галеаццо, ибо, – ты видишь сердце мое, Дева Пречистая, – я не хочу зла моему племяннику, я молюсь за него, хотя, быть может, смерть его избавила бы не только мое государство, но и всю Италию от страшных и непоправимых бедствий.
Тут вспомнил он доказательство своего права на миланский престол, изобретенное законоведами; будто бы старший брат его, отец Джан-Галеаццо, был сыном не герцога, а только военачальника Франческо Сфорца, ибо родился прежде, чем Франческо вступил на престол, тогда как он, Лодовико, родился уже после того и, следовательно, был единственным полноправным наследником.
Но теперь, перед лицом Мадонны, это доказательство представилось ему сомнительным, и он заключил молитву свою так:
– Если же я в чем-нибудь согрешил или согрешу пред Тобою, Ты знаешь, Царица Небесная, что я это делаю не для себя, а для блага моего государства, для блага всей Италии. Будь же заступницей моей перед Богом – и я прославлю имя Твое великолепною постройкою собора Миланского и Чертозы Павийской, и другими многими деяниями!
Окончив молитву, взял свечу и направился в спальную по темным покоям спящего дворца. В одном из них встретился с Лукрецией.
«Сам бог любви благоприятствует мне», – подумал герцог.
– Государь!.. – воскликнула девушка, подходя к нему. Но голос ее оборвался. Она хотела упасть перед ним на колени; он едва успел удержать ее.
– Смилуйся, государь!..
Она рассказала ему, что брат ее, Маттео Кривелли, главный камерарий монетного двора, человек беспутный, но нежно ею любимый, проиграл в карты большие казенные деньги.
– Успокойтесь, мадонна! Я выручу из беды вашего брата…
Немного помолчав, прибавил с тяжелым вздохом:
– Но согласитесь ли и вы не быть жестокой?..
Она посмотрела на него робкими, детски ясными и невинными глазами.
– Я не понимаю, синьор?..
Целомудренное удивление сделало ее еще прекраснее.
– Это значит, милая, – пролепетал он страстно и вдруг обнял ее стан сильным, почти грубым движением, – это значит… Да разве ты не видишь, Лукреция, что я люблю тебя?..
– Пустите, пустите! О, синьор, что вы делаете! Мадонна Беатриче…
– Не бойся, она не узнает: я умею хранить тайну…
– Нет, нет, государь, – она так великодушна, так добра ко мне… Ради бога, оставьте, оставьте меня!..
– Я спасу твоего брата, сделаю все, что ты хочешь, буду рабом твоим, – только сжалься!..
И наполовину искренние слезы задрожали в голосе его, когда он зашептал стихи Беллинчони:
Я лебедем пою, пою и умираю;
Амура я молю: о, сжалься, я сгораю!
Но раздувает бог огонь моей души
И говорит, смеясь: слезами потуши!
– Пустите, пустите! – повторяла девушка с отчаянием.
Он наклонился к ней, почувствовал свежесть ее дыхания, запах духов – фиалок с мускусом – и жадно поцеловал ее в губы.
На одно мгновение Лукреция замерла в его объятиях.
Потом вскрикнула, вырвалась и убежала.
IX
Войдя в спальную, он увидел, что Беатриче уже погасила огонь и легла в постель – громадное, подобно мавзолею, ложе, стоявшее на возвышении посреди комнаты под шелковым лазурным пологом и серебряными завесами.
Он разделся, приподнял край пышного, как церковная риза, тканного золотом и жемчугом одеяла, свадебного подарка феррарского герцога, – и лег на свое место, рядом с женой.
– Биче, – произнес он ласковым шепотом, – Биче, ты спишь?
Он хотел ее обнять, но она оттолкнула его.
– За что?
– Оставьте! Я хочу спать…
– За что, скажи только, за что? Биче, дорогая! Если бы ты знала, как я люблю…
– Да, да, знаю, что вы нас любите всех вместе, и меня, и Иеиилию, и даже, чего доброго, эту рабыню из Московии, рыжеволосую дуру, которую намедни обнимали в углу моего гардероба…
– Я ведь только в шутку…
– Благодарю за такие шутки!..
– Право же, Биче, последние дни ты со мной так холодна, так сурова! Конечно, я виноват, сознаюсь: это была недостойная прихоть…
– Прихотей у вас много, мессере!
Она повернулась к нему со злобою:
– И как тебе не стыдно! Ну зачем, зачем ты лжешь? Разве я не знаю тебя, не вижу насквозь? Пожалуйста, не думай, что я ревную. Но я не хочу, – слышишь? – я не хочу быть одной из твоих любовниц!..
– Неправда, Биче, клянусь тебе спасением души моей – никогда никого на земле я так не любил, как тебя!
Она умолкла, с удивлением прислушиваясь не к словам, а к звуку его голоса.
Он в самом деле не лгал или, по крайней мере, не совсем лгал: чем больше он ее обманывал, тем больше любил; нежность его как будто разгоралась от стыда, от страха, от угрызения, от жалости и раскаяния.
– Прости, Биче, прости все за то, что я тебя так люблю!..
И они помирились.
Обнимая и не видя ее в темноте, он воображал себе робкие, невинные глаза, запах фиалок с мускусом; воображал, что обнимает другую, и любил обеих вместе: это было преступно и упоительно.