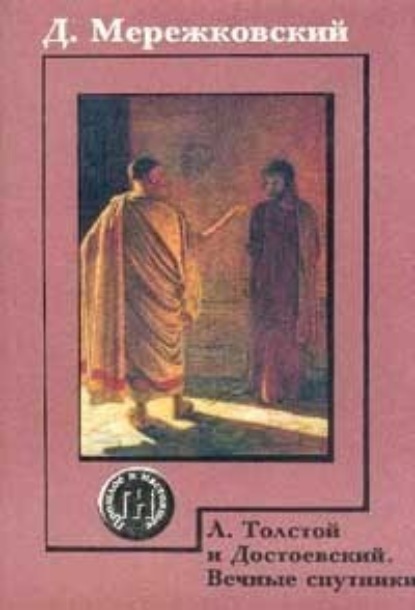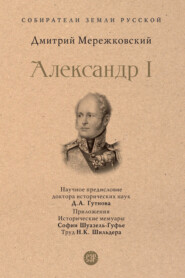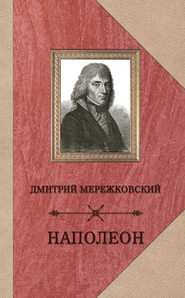По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Л.Толстой и Достоевский
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Все. Человек несчастлив потому, что не знает, что он счастлив, только потому. Это все, все! Кто узнает, тотчас сейчас станет счастлив; сию минуту. Эта свекровь (хозяйка, у которой живет Кириллов) умрет, а девочка (дочь хозяйки) останется – все хорошо. Я вдруг открыл.
– А кто с голоду умрет, а кто обидит и обесчестит девочку – это хорошо?
– Хорошо. И кто размозжит голову за ребенка, и то хорошо; и кто не размозжит, и то хорошо. Если б они знали, что им хорошо, то им было бы хорошо, но пока они не знают, что им хорошо, то им будет нехорошо. Вот вся мысль, вся – больше никакой! – «Кто научит, что все хороши, тот мир закончит».
Мы уже это слышали где-то. «Так, как меня этому учит самая внутренняя сущность моей природы, все необходимое, созерцаемое с высоты и в смысле великого порядка (im Sinne einer grossen Oekonomie), есть, вместе с тем, полезное (в кирилловском смысле «хорошее»). Должно не только терпеть, но и любить необходимое (man soll es nicht nur tragen, man soll es lieben). Amor fati – любовь к року – это самая внутренняя сущность моей природы (das ist meine innerste Natur)». Так говорит «последний ученик Диониса» или сам «распятый Дионис», благословляющий свои страдания, свое «распятие». «Все необходимо, все хорошо, я всему молюсь»; но ведь точно так же мог бы сказать, да и в самом деле говорит старец Зосима: «Все хорошо и великолепно, – говорит он, – потому что все истина. Все создание и вся тварь, каждый листик устремляется к Слову, Богу славу поет». Тут совпадение старца Зосимы с Ницше-Кирилловым даже до этого, как будто случайного, «зеленого листика», который внушает ему «открытие», что «все хорошо» – открытие Америки после Колумба, открытие христианства после Христа. До Христа было «терпение», была покорность, был ужас или ропот, но нигде никогда не было «любви к року»; это есть нечто чуждое, непонятное ни варвару, ни эллину, ни иудею, несоизмеримое ни с одной из дохристианских религий. Я должен любить рок, как Исаак, над которым Авраам занес жертвенный нож, любить отца своего; вместо терпения – любовь; вместо рабского, робкого терпения – свободная, бесстрашная, сыновняя любовь. Но ведь это же и есть, хотя не названная, не сознанная, несомненная, однако, «самая внутренняя сущность» (die innerste Natur) учения Христова: «Отче! не Моя, а Твоя да будет воля». И высшая точка этой «любви к року», этой сыновности року: воля моя и воля рока – одно, я и рок – одно, «Я и Отец – одно». Конечно, Тот, Кто это сказал, – уже понял, что «все хорошо», потому что все необходимо. Он пришел? Имя Ему Богочеловек? Нет, возражают Кириллов и Ницше. Он придет, имя Ему Человекобог – в этом разница. Какая же разница? Два треугольника – один основанием вверх, вершиною вниз, другой в обратном положении – конечно, не совпадают; но стоит перевернуть любой из них, и они совпадут, ибо разница была не во «внутренней сущности» треугольников, а только в их внешнем, случайном, временном – «историческом» положении. «Я есмь дверь, и никто не может прийти к Отцу иначе, как через Меня». Этою-то дверью входят или пытаются войти и Кириллов и Ницше, потому что другой двери нет. Отрицая Христа, они утверждают Его так, как еще никогда никто не утверждал, по крайней мере, сознательно.
Но не только в этой первой исходной точке, в мистической посылке – в «любви к року», в признании Отчей благости, начала мира: «Все хорошо, все благо, потому что все божественно-необходимо», – учение Кириллова и Ницше совпадает с учением Христа и в противоположной крайней точке, в мистическом выводе из этой посылки – в идее о конце мира: мир вместе с человеком «переменится физически», когда человек поймет, что все хорошо.
Кириллов, впрочем, идет дальше, чем Ницше, и в самой посылке; он уже почти сознает сверхчувственное, мистическое основание этой посылки, этого чувства «вечной гармонии»; «Это чувство, – говорит он, – ясное и неоспоримое. Как будто вдруг ощущаете всю природу и вдруг говорите: да, это правда („все хорошо, – говорит и старец Зосима, – потому что все истина“). Бог, когда мир создавал, то в конце каждого дня говорил: „Да, это правда, это хорошо“. Это… это не умиление, а только так, радость. Вы не прощаете ничего, потому что прощать уже нечего. Вы не то что любите, о, тут выше любви!» Выше любви, потому что любовь есть только путь к соединению любящего с любимым, Сына с Отцом; а здесь уже весь путь пройден, соединение достигнуто: здесь я и то, что я люблю, то, что необходимо – одно, «Я и Отец – одно». Мистическая посылка о начале мира, о «божественной необходимости» («divina necessit?» Леонардо да Винчи) дает неизбежный мистический вывод о конце мира, о божественной целесообразности. Мир в конце своем, в своей последней «осанне», должен оправдать Бога и повторить то, что Бог говорил, создавая мир: «Да, это правда, это хорошо». И здесь, в выводе, так же, как в посылке, Кириллов идет по тому же пути, но дальше, чем Ницше. Сверхчувственный опыт у него неразрывно связан с опытом чувственным, с очень определенным физическим ощущением, состоянием тела, предшествующим у Кириллова, так же как у Идиота, припадкам «священной болезни», эпилепсии. Чувство «вечной гармонии» длится, по наблюдению Кириллова, не более «пяти секунд». «Если более, то душа не выдержит и должна исчезнуть. Человек в земном виде не может перенести. Надо перемениться физически или умереть. – В эти пять секунд я проживаю жизнь и за них отдам всю мою жизнь, потому что стоит. Чтобы выдержать десять секунд, надо перемениться физически». И постоянно и упорно возвращается он к этой одной из двух главных, последних своих религиозных мыслей. «В теперешнем своем физическом виде, сколько я думал, нельзя быть человеку без прежнего Бога никак, – говорит он перед самым самоубийством. – Бог есть боль страха смерти. Кто победит боль и страх, тот сам станет Бог». Человек в своем теперешнем физическом виде, со страхом боли и смерти есть человек-зверь, раб Бога-Зверя. Новый, свободный человек, «Человекобог», Сын Божий будет обладать новою плотью, не страдающею, не умирающею, нетленною, «смертью смерть поправшею».
В своем самом первом чувственном зародыше, идея о физической перемене человека у Кириллова, так же как у Ницше, связана с современными научными идеями о космическом развитии, о животной метаморфозе, о естественном подборе и превращении видов. Для Ницше сверхчеловек отделен от человека большею физическою пропастью, чем обезьяна от человека. И для Кириллова история космического развития делится «на две части»: «от гориллы до уничтожения Бога (то есть, до конца животного вида „человек“) и от уничтожения Бога до перемены земли и человека физически».
Ницше только смутно предчувствует; смутность эта – главная слабость его, а Кириллов опять-таки уже почти сознает, что в этой исключительно опытной, казалось бы научной, идее о возможности физической перемены человека есть нечто сверхопытное, сверхфизическое, «метафизическое» и даже мистическое.
– Вы стали веровать в будущую вечную жизнь? – спрашивает его Ставрогин.
– Нет, не в будущую вечную, а в здешнюю вечную. Есть минуты, вы доходите до минут, и время вдруг останавливается и будет вечно.
– В Апокалипсисе, – напоминает Ставрогин, – ангел клянется, что времени больше не будет.
– Знаю. Это очень там верно; отчетливо и точно. Когда весь человек счастья достигнет, то времени больше не будет, потому что не надо. Очень верная мысль.
– Куда же его спрячут?
– Никуда не спрячут. Время не предмет, а идея. Погаснет в уме.
Это согласно не только с Апокалипсисом, но и с «Критикой чистого разума».
Человек переменится физически в конце мира, когда времени больше не будет, учит Кириллов. – Не все мы умрем, но все изменимся скоро, во мгновение ока при звуке последней трубы, – учит апостол. Какая же, собственно, внутренняя мистическая «разница» между этими двумя учениями? Ницше называет себя «учителем вечного возвращения», – «ich, der Lehrer derewigen Widerkunft». Но никогда не доводил он до конца этой в высшей степени загадочной и таинственной идеи своей, конечно, связанной с другой его главной идеей о «новой твари», о новой плоти сверхчеловека. Кажется, и у Ницше именно тут, в идее Вечного Возвращения, Повторения («все, что у вас, есть и у нас») заключен зародыш кирилловской веры «не в будущую, а в здешнюю вечную жизнь». Кириллов только доводит эту еще смутную идею Ницше до конца, до ее неизбежного и уже совершенно ясного религиозного сознания.
«– Я думаю, – говорит Кириллов по поводу физической перемены человека, – я думаю, человек должен перестать родить. К чему дети, к чему развитие, коли цель достигнута? В Евангелии сказано, что в воскресении не будут родить, а будут как ангелы Божии». Как бы испугался Ницше такого совпадения! Но в том-то и дело, что Кириллов смелее, правдивее Ницше. Кириллов доводит до конца главную религиозную мысль Ницше – и вот царство «сверхчеловека», предвещаемое Заратустрою, оказывается «здешнею вечною жизнью», то есть «грядущим Иерусалимом», царством Воскресшей Плоти, предсказанным в Апокалипсисе: «мы будем царствовать на земле». Одному из двух равных треугольников дано обратное положение – и оба совпали.
Итак, в двух своих крайних точках, в первой – в идее о начале, о божественной необходимости и в последней – в идее о конце мира, о божественной целесообразности, кажущееся анти-христовым учение Кириллова и Ницше совпадает с учением Христовым: а ежели совпадают две точки двух прямых линий, то и сами линии должны совпасть: это – аксиома геометрии.
Когда Кириллов, играя с ребенком, кидает и ловит мяч, мы вдруг чувствуем, что и сам он такой же ребенок («если не обратитесь и не станете, как дети, не можете войти в царствие небесное»), такой же «идиот», «святой» и «юродивый» (если не во Христе, то, по крайней мере, в Антихристе), как и князь Мышкин.
– Уж не вы ли и лампадку зажигаете?
– Старуха любит, чтобы лампадку, а ей сегодня некогда.
Полно, для одной ли старухи зажигает он лампадку? не для себя ли также, хотя, конечно, и сам этого не подозревает? Недаром в последние минуты перед смертью, ссылаясь на одно из величайших слов Господних, с исступленным «лихорадочным восторгом», указывает своему «черту», своей «обезьяне», Петру Верховенскому, этот пророк Антихриста на образ Христа, перед которым опять горит лампада, зажженная рукою – одною ли рукою, не сердцем ли также, Кириллова: «Вот Он сказал». Верховенский, в качестве подлинного «черта», «совсем озлился».
«– В Него-то, стало быть, все еще веруете и лампадку зажгли; уж не „на всякий ли случай“?
Тот промолчал.
– Знаете что, по-моему, вы веруете, пожалуй, еще больше попа», – цинически решает черт.
«– В кого? В Него?» – Этот вопрос Кириллова так и остается без ответа, ибо все, что дальше говорит он о причинах своего неверия, не есть прямой, решающий ответ: он будто бы не верит во Христа, потому что Христос не воскрес: но ведь мы же видели, что неизбежный мистический вывод самого Кириллова о конце мира, о пришествии Человекобога, есть мысль о возможности, о необходимости «физической перемены человека» – «изменившейся» Плоти, нетленной, воскресшей Плоти. Итак, логическая ссылка на чувственный опыт, на познание естественных законов, которым должна была подчиниться плоть Распятого, вовсе не есть мистическое разрешение мистического вопроса. Действительно же мистический ответ на этот вопрос: в Кого, собственно, верует Кириллов? – дал помимо воли всей своей страшной религиозной судьбой «последний ученик распятого Диониса».
В том-то и дело, что оба они, и Кириллов, и Ницше, «сами не знают, чего ищут», Кого ищут, – верят и не сознают своей веры, или по косноязычному, по незаменимому выражению Кириллова: «Когда они веруют, то не веруют, что веруют, а когда не веруют, то не веруют, что не веруют». Этим-то именно недостатком религиозного сознания Кириллов и Ницше – родные братья Ивана Карамазова, Версилова, Ставрогина, Раскольникова, всех раздвоенных героев Достоевского, последние отпрыски этой великой семьи, на которых она и угаснет.
На первый взгляд кажется, что у них обоих недостаток религиозного сознания вытекает из очень грубой и коренной ошибки в критике познания. «Бог необходим, – говорит Кириллов, – а потому должен быть. Но я знаю, что Его нет и не может быть. Неужели, – заключает он, – неясно, что человеку с такими двумя мыслями нельзя оставаться в живых». Вот старая ошибка, невозможная после Канта, после «Критики чистого разума»; одно из двух: надо или опровергнуть Канта, или принять его, и, в таком случае, согласиться с ним, что область, доступная исследованию нашего разума, есть только область явлений, область чувственного опыта, происходящего во времени и в пространстве; Бог – вне явлений, вне пространства и времени; а следовательно, и вопрос о бытии или небытии Божьем находится вне области, доступной исследованию разума. «Бог необходим» – это не разумная, не опытная, а мистическая посылка, неопровергаемая и недоказуемая разумом. Разум не утверждает и не отрицает бытия Божия: он только говорит: «Я не знаю, есть ли Бог или нет Его». Это новое, неопровержимое, критическое «Я не знаю, есть ли Бог» – извращает Кириллов в старое, опровергнутое критикой познания, догматическое: я знаю, что Бога нет. И далее, – это утверждение «Бога нет» само становится новым Богом; отрицание веры само становится новою верою: «Для меня нет выше идеи, – что Бога нет». Отсюда-то, от этой первой ошибки в критике познания и начинается страшная цепь всех остальных его, уже не только критических, но и мистических ошибок, которые приводят его, наконец, к совершенному безумию: «Если нет Бога, то я Бог».
Чем же все-таки объяснить эту первую, столь грубую ошибку? Недомыслием? Невежеством? Тем, что Кириллов – русский самоучка вроде Левина, «бурлака-философа», который лезет в воду метафизики, не спросясь броду у «дошлых» немцев? Едва ли так. Кажется, у Кириллова не только мистическая, но и критическая сила ума огромная: с каким гениальным проникновением соглашает он пророчество Апокалипсиса о том, что «времени больше не будет» с одной из глубочайших идей Канта о субъективности времени: «Время не предмет, а идея, – погаснет в уме». Нет, первая ошибка Кириллова в критике познания зависит не от слабости ума его, а от какого-то особого качества всей его умственной силы.
Замечательно, что и Ницше впадает в ту же самую ошибку – в догматическое отрицание Бога. «Мы убили Бога», – говорит он. Чем убили? Разумом? Но прежде, чем убить Бога разумом, надо было убить «Критику чистого разума» – опровергнуть Канта. А Ницше, подобно Кириллову, не опровергает Канта и не соглашается с ним, а просто обходит его, отделывается от него ругательством: «Kant wurde Idiot»[40 - Кант сделался идиотом (нем.).] (Der Wille zur Macht,[41 - «Воля к власти» (нем.), работа Ницше.] стр. 227, изд. 1899), т. е. философским оружием, столь же слабым, как и то, которое обращали впоследствии против самого Ницше: «Nietzsche wurde Idiot». Но ведь здесь-то уж слишком очевидно, что ошибка Ницше в критике познания не от простого недомыслия, не от невежества. Ницше, как всякий немецкий философ, превосходно знал «своего Канта»; но не хотел его знать, потому что не мог ни опровергнуть, ни принять, не отрекшись от какой-то самой глубокой, неодолимой «внутренней сущности» своей природы.
Критическая философия есть мысль, дошедшая до конца своего, до последнего предела, увидевшая, сознавшая этот конец и предел. Философия догматическая, все равно, утверждающая или отрицающая Бога, деизм, или атеизм, есть мысль, до конца не доходящая, остановившаяся на «слишком благоразумной» середине, нечто, по существу своему, серединное, средне-высшее, половинчатое, не соединяющее, а только смешивающее веру с безверием, догматику с критикой. Атеизм и деизм – это полу-наука, полу-религия, опошленная наука и религия. Недаром эти именно два философские веяния или поветрия, материалистическое и спиритуалистическое, философия бездушной плотскости и бесплотной духовности, сделались двумя господствующими настроениями XIX века, самого серединного, «средне-высшего», мещанского, буржуазного из всех веков, того, который и есть по преимуществу век «среднего сословия». Мало того, не оставаясь исключительно философскими, эти два настроения стремились постоянно сделаться религиозными, по крайней мере, заменяющими религию: например, у простодушных русских догматиков-материалистов 70-х годов, изуверских проповедников Бюхнера и Молешота, «мертвой лягушки вместо Бога», отчасти и в наше время, хотя уже бессознательно, у самых наивных из «марксистов» и у столь же простодушных русских догматиков-спиритуалистов, идеалистов, толстовцев, пашковцев, духоборов.
Вот в этом-то догматическом безбожии («я знаю, что нет Бога», «мы убили Бога» – тоже своего рода «мертвая лягушка вместо Бога»), несмотря на всю их гениальную устремленность к будущему, бывший русский революционер и бывший немецкий «Frei-Geist»,[42 - Свободный дух (нем.).] «libre esprit»,[43 - Свободный дух (фр.).] поклонник деиста Вольтера и материалиста Гельвеция – Кириллов и Ницше – оба все-таки еще слишком дети своего века, и даже своего сословия, буржуазного, серединного века и «среднего сословия». Впрочем, эта сословно-историческая серединность, половинчатость, это не до конца в их сознании, в их критике, зависит от более глубокого «не до конца» в их бессознательном, религиозном существе, в их мистике.
– Я три года искал атрибут божества моего и нашел: атрибут божества моего – Своеволие!
Да, именно, «своеволие», а не свобода. Своеволие – это свобода не до конца, свобода взбунтовавшегося, дерзкого, но и в самой дерзости трусливого раба. Когда, не смея спорить с Кантом, Ницше только издевается над ним или когда ругает Христа («der kleine Jude»[44 - Маленький еврей (нем.).]), не смея смотреть Ему прямо в глаза, это тоже не свобода, а только «своеволие», только бунт раба, не критика и не религия XX века, а все еще только догматика и революция XVIII.
Как свобода, так и любовь – не до конца.
Если бы для Кириллова действительно было «все хорошо» до конца, если бы он действительно не боялся ни боли, ни смерти, то ему бы незачем было и доказывать самоубийством, что он их не боится: он доказал бы это естественною жизнью, естественною смертью, как мудрец или как святой. Но в том-то и дело, что он сам еще не верит, что «все хорошо»; ему кажется иногда, что все совсем не хорошо, а прескверно, что весь мир «стоит на лжи» и есть «дьяволов водевиль». Он и сам не решил, убивает ли себя для того, чтобы понять, что все хорошо, или потому, что он уже слишком понял, что все нехорошо. Мало того: «Все хорошо» – это еще не значит: «Все свято». Он только хотел бы «всему молиться» и все любить – любить и рок. Но сама эта «любовь к року», amor fati у Ницше, так же, как у Кириллова, есть любовь не до конца, не святая любовь. Я не могу любить внешнее, мертвое, безличное – ни математическую формулу: дважды два четыре, ни механический закон тяготения; я могу любить только внутреннее, живое, родное, кровное – я могу любить только «Отца». Ежели я действительно полюбил необходимость последнею любовью, то необходимость уже перестает быть для меня необходимостью и становится свободою: «не Моя, а Твоя да будет воля». Если я полюбил «рок» последнею сыновнею любовью, то рок перестает для меня быть роком и становится живым, родным Богом-Отцом: «Я и Отец – одно». Любовь Сына к Отцу – это и есть самое высшее – Христос; «любовь к року», несознанная христианская любовь к языческому року, это – полу-Христос, полу-Дионис – не самое высшее, а только средне-высшее, то есть все-таки серединное, половинчатое, и нашим и вашим; ни белое, ни черное, а только серое; ни горячее, ни холодное, а только теплое. И здесь, и здесь опять – «бесчестная, потому что уж слишком благоразумная» мещанская «серединка-на-половинке», «несоленая соль», пронизывающая весь XIX век, – век Среднего Сословия, отвратительная, тепленькая, серенькая буржуазная слякоть.
Да и здесь, на этих высочайших крайних точках западноевропейской и русской культуры, в Кириллове и Ницше, так же, как, может быть, отчасти в самом Достоевском и уж наверное в Л. Толстом, все еще, и даже здесь-то именно, пожалуй более, чем где-либо, господствует «дух времени», страшный демон середины, непроницаемой, нейтрализующей среды между двумя полюсами («две нити вместе свиты»), наш демон, наполнивший собою мир, самый великий и самый гаденький золотушный бесенок с насморком, из неудавшихся, дух смешивающий и смеющийся, дух русского лакея Лаврушки и всемирного лакея Смердякова.
«Я начну и кончу, и дверь отворю. И спасу. Своеволие! Это все, чем я могу в главном пункте показать непокорность и новую, страшную свободу мою. Ибо она очень страшна. Я убиваю себя, чтобы показать непокорность и новую, страшную свободу мою. Если нет Бога, то я – Бог. Верую, верую!»
Кажется, вот-вот Кириллов станет истинным пророком, великим Заратустрою; грянет «осанна», потрясающая небо и землю, вспыхнет молния, неимоверное видение Сверхчеловека.
Не тут-то было. «От великого до смешного только шаг»: откуда ни возьмись, выскакивает маленький, гаденький бесенок, «внезапный демон иронии». Петр Верховенский подает перо и диктует Кириллову предсмертное письмо, в котором тот принимает на себя убийство нигилиста Шатова.
– Стой! – закричал Кириллов. – Я хочу сверху рожу с высунутым языком.
И он «почти заревел от восторга», «залился хохотом», придумав подпись:
«Gentilhomme-sеminariste russe et citoyen du monde civilisе».[45 - Русский дворянин-семинарист и гражданин цивилизованного мира (фр.).]
Мы знаем, чья это «рожа с высунутым языком», кто этот «всемирный гражданин»: это – рожа серого, теплого, мягкого, бескостного, того, у кого хвост «длинный, гладкий, как у датской собаки»; этот всемирный гражданин – скептический лакей Смердяков и позитивный барин Чичиков, бессмертный «приживальщик», вечная «обезьяна» «дрянного барчонка» Ставрогина, Ивана Карамазова и христианского философа Левина, и языческого философа Ницше. Это он «своевольничает» и кощунствует, смешивает и смеется – человекобожескую трагедию превращает в дьяволов водевиль, лик Силы и Славы – в «рожу с высунутым языком».
Но ему и этого мало; он и на этом страшном, смешном не останавливается: страшное через смешное превращается в еще более страшное: как от одного прикосновения замерзающая вода вдруг становится льдом, так от одного мания беса пошлости, от одной ошибки «на волосок» в критике познания – вся мудрость вдруг делается сумасшествием.
Описание самоубийства Кириллова – это одно из тех созданий Достоевского, где он переступает за пределы искусства; это то, о чем нельзя писать, почти говорить нельзя: это цинично, жестоко, может быть, преступно, не только художественно, но и нравственно преступно. Это своего рода вивисекция, анатомическое рассечение живой души: заглядывая в эту зияющую рану, окровавленные внутренности человеческой души, мы с отвращением и с любопытством ужаса следим за их последними содроганиями.
Другого подобного изображения нет во всемирной литературе. Кто раз прочел это, тот уже никогда не забудет всех этих невыносимых подробностей: как, прислушиваясь к тишине соседней комнаты, куда ушел Кириллов с револьвером, Верховенский долго ждет; как, наконец, не выдержав, подходит к двери, приотворяет ее, и как что-то заревело, бросилось к нему; изо всей силы прихлопнул он дверь и опять налег на нее, но уже все утихло – опять мертвая тишина; ему приходит мысль, что Кириллов хочет убить не себя, а его; опять бесконечное ожидание; и, снова не выдержав и собравшись с духом, приподняв и приготовив револьвер, Верховенский входит в комнату; сначала никого не видит, потом замечает Кириллова, который у шкапа, в углу, образованном стеной и шкапом, «стоит ужасно странно и неподвижно, вытянувшись, протянув руки по швам, приподняв голову и плотно прижавшись затылком к стене, в самом углу, казалось, желая весь стушеваться и спрятаться. И вдруг Верховенским овладело совершенное бешенство: он сорвался с места, закричал и, топая ногами, яростно бросился к страшному месту. Но, дойдя вплоть, он опять остановился, как вкопанный, еще более пораженный ужасом. Его, главное, поразило то, что фигура, несмотря на крик и на бешеный наскок его, даже не двинулась, не шевельнулась ни одним своим членом – точно окаменевшая или восковая. Бледность лица ее была неестественная, черные глаза совсем неподвижны и глядели в какую-то точку в пространстве. Петр Степанович провел свечой сверху вниз и опять вверх, освещая со всех точек и разглядывая это лицо. Он вдруг заметил, что Кириллов, хотя и смотрит куда-то перед собой, но искоса его видит и даже, может быть, наблюдает. Тут пришла ему мысль поднести огонь прямо к лицу „этого мерзавца“, поджечь и посмотреть, что тот сделает. Вдруг ему почудилось, что подбородок его, Кириллова, шевельнулся, и на губах скользнула насмешливая улыбка – точно тот угадал его мысль. Он задрожал и, не помня себя, схватил его за плечо. Затем произошло нечто безобразное. Едва он дотронулся до Кириллова, как тот быстро нагнул голову и головой же выбил из рук его свечку; подсвечник полетел со звоном на пол, и свеча потухла. В то же мгновение он почувствовал ужасную боль в мизинце своей левой руки. Он закричал, и ему припомнилось только, что он вне себя три раза изо всей силы ударил револьвером по голове припавшего к нему и укусившего ему палец Кириллова. Наконец палец он вырвал и, сломя голову, бросился бежать из дому, отыскивая в темноте дорогу. Вслед ему из комнаты летели страшные крики:
– Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас!»
Конечно, то, что заревело, бросилось на Петра Верховенского и потом укусило ему палец, было не божеское и даже не человеческое, а зверское. Сверхчеловек, Человекобог превратился в человека-зверя. Страшный титан Заратустра-Антихрист – в жалкого калеку, бывшего немецкого доктора филологии, Фридриха Ницше, содержимого в лечебнице для душевнобольных. И мы чувствуем, что это должно было совершиться, не могло быть иначе, что это не только логически, но и мистически неизбежно, справедливо.
«Я ужасно несчастен, ибо ужасно боюсь», – признается Кириллов. Да, это величайшая боль, величайший страх, которые может испытать душа человеческая – испытать, но не вынести. «Если нет Бога, то я – Бог»; мы чувствуем, что между этими двумя мыслями нельзя не сойти с ума, что если только мы примем их, то между ними наш собственный разум, так же, как разум Кириллова и Ницше, разрушится, смолотый, как зерно между двумя жерновами. Этою-то последнею мукою, последним ужасом сознания Кириллов и Ницше были так близки ко Христу, как, может быть, никто никогда; может быть, ближе, чем даже старец Зосима. Гибнут же они потому, что не сознали все-таки этой близости. Думали, что первые вступают на этот путь, а между тем путь этот был уже некогда пройден. Был такой человек на земле, который, приняв на себя эту муку, выдержал ее до конца и тем уже навеки избавил нас от нее. Этот человек – Бог, ибо кто первый из людей сказал: «Я – Бог», – и до конца принял и вынес это, тот и был воистину Бог; именно в том, что Он вынес это, вынес то, чего ни одна душа человеческая не может вынести, в том, что Он в этом – один, и другого равного Ему по силе никогда не было и не будет, – заключается все божественное чудо Его явления. Да, Он вынес это, но мы знаем, что и Ему это стоило кровавого пота, что и Он был «ужасно несчастен», потому что «ужасно боялся», и Его душа «скорбела смертельно» и «возмущалась».