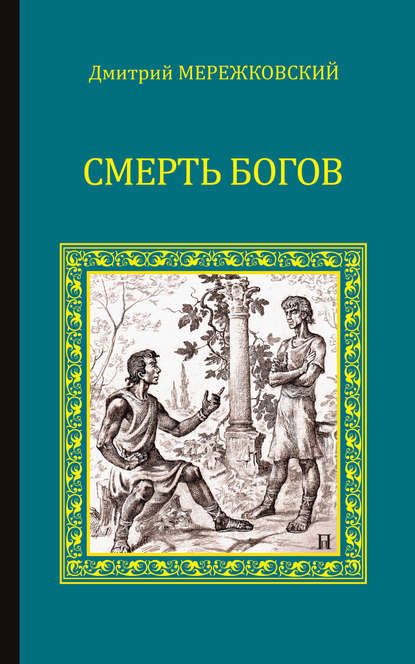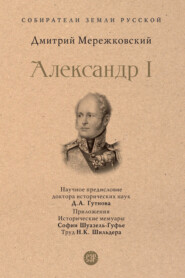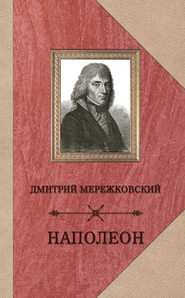По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Смерть Богов (Юлиан Отступник)
Серия
Год написания книги
1895
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Тише… нельзя! Потом…
Чесальщик шерсти заметил:
– У нас, в Селевкии, еще спокойно. А в Антиохии – предательства, доносы, розыски…
Красильщик, который в последний раз лизнул мальву и отбросил ее, убедившись, что она потеряла вкус, проворчал себе под нос мрачно:
– А вот, даст Бог, человеческое мясо и кровь будут скоро дешевле хлеба и вина…
Чесальщик шерсти, горький пьяница и философ, тяжело вздыхал:
– Ох-ох-ох! Бедные мы людишки! Блаженные олимпийцы играют нами, как мячиками – то вправо, то влево, то вверх, то вниз: люди плачут, а боги смеются.
Товарищ Агамемнона успел вмешаться в разговор. Ловко, как будто небрежно, выспросил имена; подслушал даже то, что странствующий сапожник сообщил на ухо чесальщику о заговоре на жизнь цезаря, предполагаемом среди солдат претории. Потом, отойдя, записал имена разговаривавших изящным стилосом на восковые дощечки, где хранилось много имен.
В это время с рыночной площади донеслись хриплые, глухие, подобные реву какого-то подземного чудовища, не то смеющиеся, не то плачущие звуки водяного органа: слепой раб-христианин за четыре обола в день, у входа в балаган, накачивал воду, производившую в машине эти смешные и плачевные звуки.
Агамемнон потащил спутников в балаган, обтянутый, наподобие палатки, голубою тканью с серебряными звездами. Фонарь озарял черную доску – объявление о предстоящем зрелище, написанное мелом по-сирийски и по-гречески.
Внутри было душно. Пахло чесноком и копотью масляных плошек. В дополнение органа, пищали две пронзительные флейты, и черный эфиоп, вращая белками, ударял в бубны.
Плясун прыгал и кувыркался на канате, хлопая в лад руками. Он пел модную песенку:
Hue, hue convenite nunc
Spatolocinaedi!
Pedem tendite,
Cursum addite.[2 - Эй, вы! Соберем мальчиколюбцев изощренных!Все мчитесь сюда быстрой ногой, пятою легкой…Петроний. «Сатирикон», гл. 23 (Пир).Перевод с лат. под ред. Б. Ярхо.]
Этот худой курносый плясун был стар, отвратителен и весел. С бритого лба его струились капли пота, смешанного с румянами; морщины, залепленные белилами, походили на трещины стен, у которой известка тает под дождем.
Когда он удалился, орган и флейта умолкли. На подмостки выбежала пятнадцатилетняя девочка, чтобы исполнить знаменитую, до безумия любимую народом, пляску – кордакс. Отцы церкви громили ее, римские законы запрещали – ничто не помогало: кордакс плясали всюду, бедные и богатые, жены сенаторов и уличные плясуньи.
Агамемнон проговорил с восторгом:
– Что за девочка!
Благодаря кулакам спутников, он пробился в первый ряд.
Худенькое, смуглое тело нубиянки обвивала, только вокруг бедер, почти воздушная, бесцветная ткань; волосы подымались над головой мелкими, пушисто-черными кудрями, как у женщин Эфиопии; лицо чистого египетского облика напоминало лица сфинксов.
Кроталистрия начала плясать, как будто скучая, лениво и небрежно. Над головой, в тонких руках, медные бубны – кроталии чуть слышно бряцали.
Потом движения ускорились. И вдруг, из-под длинных ресниц, сверкнули желтые глаза, прозрачные, веселые, как у хищных зверей. Она выпрямилась, и медные кроталии зазвенели пронзительно, с таким вызовом, что вся толпа дрогнула.
Тогда девочка закружилась, быстрая, тонкая, гибкая, как змейка. Ноздри ее расширились. Из горла вырвался странный крик. При каждом порывистом движении две маленькие, темные груди, как два спелых плода под ветром, трепетали, стянутые зеленой шелковой сеткой, и острые, сильно нарумяненные концы их алели, выступая из-под сетки.
Толпа ревела от восторга. Агамемнон безумствовал, товарищи держали его за руки.
Вдруг девочка остановилась, как будто в изнеможении. Легкая дрожь пробегала с головы до ног по смуглым членам. Наступила тишина. Над закинутой головой нубиянки, с почти неуловимым, замирающим звоном, быстро и нежно, как два крыла пойманной бабочки, трепетали бубны. Глаза потухли; но в самой глубине их мерцали две искры. Лицо было строгое, грозное. А на слишком толстых, красных губах, на губах сфинкса, дрожала слабая улыбка. И в тишине медные кроталии замерли.
Толпа так закричала, захлопала, что голубая ткань с блестками всколебалась, как парус под бурей, и хозяин думал, что балаган рухнет.
Спутники не могли удержать Агамемнона. Он бросился, приподняв занавес, на сцену, через подмостки, в каморку для танцовщиц и мимов.
Товарищи шептали ему на ухо:
– Подожди! Завтра все будет сделано. А теперь могут…
Агамемнон перебил:
– Нет, сейчас!
Он подошел к хозяину, хитрому седому греку Мирмексу, и сразу, почти без объяснений, высыпал ему в полу туники пригоршню золотых монет.
– Кроталистрия – твоя?
– Да. Что угодно моему господину?
Мирмекс с изумлением смотрел то на разорванную одежду Агамемнона, то на золото.
– Как тебя зовут, девочка?
– Филлис.
Он и ей дал денег, не считая. Грек что-то шепнул на ухо Филлис. Она высоко подбросила звонкие монеты, поймала их на ладонь, и, засмеявшись, сверкнула на Агамемнона своими желтыми глазами. Он сказал:
– Пойдем со мною.
Филлис накинула на голые смуглые плечи темную хламиду и выскользнула вместе с ним на улицу.
Она спросила:
– Куда?
– Не знаю.
– К тебе?
– Нельзя. Я живу в Антиохии.
– А я только сегодня на корабле приехала и ничего не знаю.
– Что же делать?
– Подожди, я видела давеча в соседнем переулке незапертый храм Приапа. Пойдем туда.
Филлис потащила его, смеясь. Товарищи хотели следовать. Он сказал:
– Не надо! Оставайтесь здесь.
Чесальщик шерсти заметил:
– У нас, в Селевкии, еще спокойно. А в Антиохии – предательства, доносы, розыски…
Красильщик, который в последний раз лизнул мальву и отбросил ее, убедившись, что она потеряла вкус, проворчал себе под нос мрачно:
– А вот, даст Бог, человеческое мясо и кровь будут скоро дешевле хлеба и вина…
Чесальщик шерсти, горький пьяница и философ, тяжело вздыхал:
– Ох-ох-ох! Бедные мы людишки! Блаженные олимпийцы играют нами, как мячиками – то вправо, то влево, то вверх, то вниз: люди плачут, а боги смеются.
Товарищ Агамемнона успел вмешаться в разговор. Ловко, как будто небрежно, выспросил имена; подслушал даже то, что странствующий сапожник сообщил на ухо чесальщику о заговоре на жизнь цезаря, предполагаемом среди солдат претории. Потом, отойдя, записал имена разговаривавших изящным стилосом на восковые дощечки, где хранилось много имен.
В это время с рыночной площади донеслись хриплые, глухие, подобные реву какого-то подземного чудовища, не то смеющиеся, не то плачущие звуки водяного органа: слепой раб-христианин за четыре обола в день, у входа в балаган, накачивал воду, производившую в машине эти смешные и плачевные звуки.
Агамемнон потащил спутников в балаган, обтянутый, наподобие палатки, голубою тканью с серебряными звездами. Фонарь озарял черную доску – объявление о предстоящем зрелище, написанное мелом по-сирийски и по-гречески.
Внутри было душно. Пахло чесноком и копотью масляных плошек. В дополнение органа, пищали две пронзительные флейты, и черный эфиоп, вращая белками, ударял в бубны.
Плясун прыгал и кувыркался на канате, хлопая в лад руками. Он пел модную песенку:
Hue, hue convenite nunc
Spatolocinaedi!
Pedem tendite,
Cursum addite.[2 - Эй, вы! Соберем мальчиколюбцев изощренных!Все мчитесь сюда быстрой ногой, пятою легкой…Петроний. «Сатирикон», гл. 23 (Пир).Перевод с лат. под ред. Б. Ярхо.]
Этот худой курносый плясун был стар, отвратителен и весел. С бритого лба его струились капли пота, смешанного с румянами; морщины, залепленные белилами, походили на трещины стен, у которой известка тает под дождем.
Когда он удалился, орган и флейта умолкли. На подмостки выбежала пятнадцатилетняя девочка, чтобы исполнить знаменитую, до безумия любимую народом, пляску – кордакс. Отцы церкви громили ее, римские законы запрещали – ничто не помогало: кордакс плясали всюду, бедные и богатые, жены сенаторов и уличные плясуньи.
Агамемнон проговорил с восторгом:
– Что за девочка!
Благодаря кулакам спутников, он пробился в первый ряд.
Худенькое, смуглое тело нубиянки обвивала, только вокруг бедер, почти воздушная, бесцветная ткань; волосы подымались над головой мелкими, пушисто-черными кудрями, как у женщин Эфиопии; лицо чистого египетского облика напоминало лица сфинксов.
Кроталистрия начала плясать, как будто скучая, лениво и небрежно. Над головой, в тонких руках, медные бубны – кроталии чуть слышно бряцали.
Потом движения ускорились. И вдруг, из-под длинных ресниц, сверкнули желтые глаза, прозрачные, веселые, как у хищных зверей. Она выпрямилась, и медные кроталии зазвенели пронзительно, с таким вызовом, что вся толпа дрогнула.
Тогда девочка закружилась, быстрая, тонкая, гибкая, как змейка. Ноздри ее расширились. Из горла вырвался странный крик. При каждом порывистом движении две маленькие, темные груди, как два спелых плода под ветром, трепетали, стянутые зеленой шелковой сеткой, и острые, сильно нарумяненные концы их алели, выступая из-под сетки.
Толпа ревела от восторга. Агамемнон безумствовал, товарищи держали его за руки.
Вдруг девочка остановилась, как будто в изнеможении. Легкая дрожь пробегала с головы до ног по смуглым членам. Наступила тишина. Над закинутой головой нубиянки, с почти неуловимым, замирающим звоном, быстро и нежно, как два крыла пойманной бабочки, трепетали бубны. Глаза потухли; но в самой глубине их мерцали две искры. Лицо было строгое, грозное. А на слишком толстых, красных губах, на губах сфинкса, дрожала слабая улыбка. И в тишине медные кроталии замерли.
Толпа так закричала, захлопала, что голубая ткань с блестками всколебалась, как парус под бурей, и хозяин думал, что балаган рухнет.
Спутники не могли удержать Агамемнона. Он бросился, приподняв занавес, на сцену, через подмостки, в каморку для танцовщиц и мимов.
Товарищи шептали ему на ухо:
– Подожди! Завтра все будет сделано. А теперь могут…
Агамемнон перебил:
– Нет, сейчас!
Он подошел к хозяину, хитрому седому греку Мирмексу, и сразу, почти без объяснений, высыпал ему в полу туники пригоршню золотых монет.
– Кроталистрия – твоя?
– Да. Что угодно моему господину?
Мирмекс с изумлением смотрел то на разорванную одежду Агамемнона, то на золото.
– Как тебя зовут, девочка?
– Филлис.
Он и ей дал денег, не считая. Грек что-то шепнул на ухо Филлис. Она высоко подбросила звонкие монеты, поймала их на ладонь, и, засмеявшись, сверкнула на Агамемнона своими желтыми глазами. Он сказал:
– Пойдем со мною.
Филлис накинула на голые смуглые плечи темную хламиду и выскользнула вместе с ним на улицу.
Она спросила:
– Куда?
– Не знаю.
– К тебе?
– Нельзя. Я живу в Антиохии.
– А я только сегодня на корабле приехала и ничего не знаю.
– Что же делать?
– Подожди, я видела давеча в соседнем переулке незапертый храм Приапа. Пойдем туда.
Филлис потащила его, смеясь. Товарищи хотели следовать. Он сказал:
– Не надо! Оставайтесь здесь.