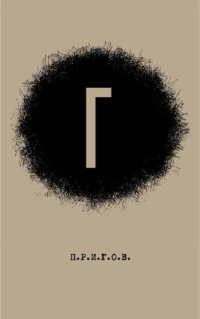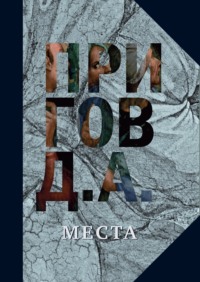Мысли
Д.А. Это западная перцепция. В то же время, если мир по-прежнему предполагать поделенным на национально-культурные регионы, можно находить в себе какие-то особенности, но даже при такой слабой утопической модели развития мира видно, собственно говоря, что урбанистическая культура побеждает. А урбанистическая культура эта действительно с очень жесткими чертами унифицированности, где бы ты ни жил, поэтому известно, что Лондон – это не Англия, Нью-Йорк – это не Америка, Париж – не Франция, Москва – это не Россия. Вот если пытаться возрождать эту трихотомию – провинция, территория российская, города как некое ложное существование, – то тогда можно найти какие-то русские корни и искать их архаическое происхождение. Другое дело, что их можно искать где угодно и в каком угодно положении, но с какой целью? Можем ли мы, во-первых, воспроизвести ту самую ситуацию либо понять эти феномены, снять их, как пленку, перенести совершенно в другую среду? И, во-вторых, смогут ли они при этом выжить, – ну все равно как смогут ли животные, живущие в соленой воде, выжить в пресной? Вот этот эксперимент можно произвести, но надо при всем притом понимать, что эта черта, сильная черта критического эксперимента в этом переносе превалирует над позитивным утверждением возможности этого.
Это иллюзия, что люди, которые занимаются перенесением этого, они как бы искренне лишены критического начала. Да, лично – да, но в общем культурном процессе. Они тогда как некие носители заразы или микробов, их берут в лаборатории и смотрят – выживет современный человек при древних этих проснувшихся бактериях или нет. Посему в общем культурном. процессе это действительно интересный проект. Другое дело, что он развивается по другим линиям. Он развивается по принципу структурному – это мир мегаполисов и весь остальной мир. Это не мир национально-государственных территориальных образований, совсем другое. Это мир, растворенный в большом пространстве мегаполиса, соединяющийся другими средствами связи, информации и транспорта. Это пространство, куда не укладываются антропологические размеры, это не ходить пешком от Москвы до Нью-Йорка. Пространство исчезает, ты летишь в замкнутой коробке. Пространство между Нью-Йорком и Москвой – это время, проведенное в замкнутой коробке, это не пространство. Посему мир географически кроится как? Вот ты сел в самолет в одном месте, вышел в другом – что посередине, тебе неважно. Или ты сел в Беляеве в метро, в черной какой-то коробке проехал до центра – у тебя же город как крепится? Местами, соединенными транспортными передвижениями. Либо e-mail’овой связью: вот, скажем, узнаю, что у моего соседа в Австралии родился ребенок. Я премного радуюсь и при этом о том, что у моего соседа по лестничной площадке кто-то умер, я могу узнать через месяц. А о рождении ребенка узнаю моментально.
Мир кроится по-другому, это не география, это временно-пространственный континуум меняется, это другая, пока еще культурная антропология, но она потом станет и биологической. И в этом отношении предположения, что старые архаические формы будут адекватны и прямо в чистоте перенесены, они, собственно говоря, ни на чем не основываются. Вся иконопись, которая ныне возрождается… ее значение в религиозном смысле я не обсуждаю… но в смысле явления обществу некоего художника и деятеля, осмысляющего, освещающего действительность этими вещами, она бессмысленна. Это художественный промысел – можно иконы пачкать и делать, можно под Малевича писать. Производить квадраты можно вослед Малевичу, иконы – вослед, расписывать яйца – вослед. В принципе, все становится художественным промыслом. Если мы говорим из зоны актуального -ск-сств-, для нас эти решения простые – надеть персидский кафтан и быть персом, – они для нас невозможны. Когда, условно говоря, художник концептуальный, предшествующий постмодернистам, использовал какие-то духовные практики, это было понятно, почему он их пользовал. А вот попытка в них искренне влипнуть, вот она сложна. Единственно какая технология – это мерцательная, мерцательная технология только. Туда влипать нужно на столько времени, чтобы быть неотличимым от них. Но и быть там столько времени, чтобы полностью в них не влипать. И вот эта быстрота мерцания поначалу культурной оптикой не распознается. Культурная оптика была воспитана на восприятии текста, потом концептуализм и постмодернизм воспитали оптику параллельного слежения автора и текста, что текст и автор могут не совпадать, а вот оптики слежения за мерцанием пока нет. То есть сегодняшний день, когда происходят основные события, пока для постороннего человека серый. Тогда он говорит: либо ты давай сюда, либо ты давай сюда, потому что вот этой срединной оптики, срединного пути, слежения человека, на границе, который мерцает, пока нет.
О.Б. Значит, вы считаете, что невозможно совмещать практику предпоследних, предуготовительных истин и практику последних истин. Но, с другой стороны, современному художнику свойственно заглядывать в самые запредельные и запретные уголки человеческих возможностей. Поиски своего пути бесконечны: речь идет о нашей идентичности, а не немецкой, не китайской, не французской.
Может быть, возможен все-таки такой тип, который, пусть с мерцающей и самоиронической точки зрения, совмещал бы в себе практику не через говорение последних истин, а через какие-то переживания, которые как-то фиксируются, документируются, представляются; конструируется сакральное пространство, в центре которого – переживающий медиум, художник. Возможна ли такая уникальная ситуация?
Д.А. Ну, прежде всего, начнем с того, что даже в России художник всегда был выделенной личностью. Любые аспекты послеиконного художественного творчества пришли с Запада, надо сказать, и все стили, начиная с классицизма, барокко, символизма, – все приходило с Запада. Поэтому художник был системой интернациональной, включенной в национальную систему, где художник был вычлененной личностью, которая, может быть, и соотносилась с местной соборной культурой, но он с ней соотносился как отстоящий в стороне, наблюдающий, созерцающий, сочувствующий, оценивающий, иногда уходящий от -ск-сств-, впадающий туда… Но он представлял в общем-то всегда здесь некоего презентанта западной культуры. В этом отношении русский художник…
О.Б. …паразит… на теле…
Д.А. Нет, некий презентант западного типа культурного поведения. В любом случае, как к этому ни относись, плохо ли, хорошо, но то, что мы называем культура, нынешняя культура, сформировалось именно под влиянием западной культуры.
Тут ничего ни плохого, ни хорошего. Посему, когда мы говорим о художнике, мы все равно говорим в пределах большого проекта художника европейского типа, это большой социокультурный проект, который развивался со времен, когда кончилась иконопись, анонимность, началось персональное -ск-сств-. Другое дело, что изначально художник идентифицировался с текстом, потом со стилем, с манерой, со своим изобретением, сейчас художник, я говорю про contemporary, – это личность и подпись, это не текст. Поэтому возможна попытка вернуть художника назад, к переживанию текста бессознательного. Его можно туда вернуть, но только в качестве некоего оператора, который делает оптику. Он не есть вот это бессознательное, просто когда мы снова поворачиваемся к этой теме, мы путаем предмет и художническое служение. Да, мы обрабатываем эту тему, но мы поворачиваемся туда, где наши глаза пока еще мутны, их надо промыть, организовать оптику, чтобы видеть. Вот это и есть художник. Другое дело, что относительно других предыдущих времен кажется, со стороны, что он влипает в это самое содержание, но он и есть это самое содержание. На самом деле при вступлении в эту зону опять возникает эта драматургия: художник и та реальность, которую он изображает. Есть, конечно, страсть художника, как у всякого человека, создающего свою систему и предполагающего ее единичность, глобальность и абсолютность, есть попытка стать квазирелигией, но эта попытка не художника, это попытка человека. И действительно, внутри очень трудно разделить, не в большом понятии «проект» – художник, художник и общество – там есть отдельно художник, он и вырабатывает эту оптику. Последний вопрос, конечно – вырабатывает, чтобы как-то утвердить, это такая редукционная система, но основное все там – для чего он оптику вырабатывает. И эта проблема всегда существовала: имеет ли художнический жест, какой угодно, неважно, отдельную укрепленность в небесах, то есть онтологичен ли он? Не отменяем ли он целью, ради которой создается? И в этом отношении так предполагается, и мне лично это понятно, что эти все жесты, они действительно укреплены как самодостаточные – со своей целью в культуре, целью развития человечества вообще и со своей онтологической укрепленностью. Есть некое место, где этот жест укреплен, и никакая тотальность, более мощная, его не отменит… есть бесконечности, они разнятся мощностями. Действительно, мощность того объекта, который направлен на эту оптику, может превышать мощность самой оптики. Но в принципе оптика не есть часть… Есть совместная часть драматургии, но она не пропадает, не растворяется в том, на что она направлена. Как ни странно, это может служить доказательством, что она неожиданно может быть направлена в другую сторону. Она не есть полностью принадлежащая тому, на что она взирает…
Но не надо путать человека и художника. Есть некий, условно говоря, инженер, который делает оптику, он может полностью пропадать, но когда он делает оптику, он инженер. Он должен выйти из этого пропадания, он не может создавать квазирелигию, и ему же быть полностью там. В этом отношении у человека есть разные уровни, которые не в том дело что выше, они могут быть выше, но один другого не отменяет.
О.Б. Это все понятно. Но давайте посмотрим с другого ракурса: очень важно их разделять, понимать, что это не одно и то же, и понимать, что человеческие задачи – это человеческие задачи, а профессиональные, скажем так, или оптические…
Д.А. …даже духовные задачи должны быть от культурных отделены…
О.Б. Но тем не менее, очень важно для человека прежде всего их сочетание, их постоянное взаимодействие. Потому что их расчленение – окончательное, а не условное – ведет к смерти.
Д.А. Так я же и говорю, что сочетание…
О.Б. А вы говорите, что Бог, он содержится не только там, куда мы указываем, но и в самом указующем жесте…
Д.А. Это очень важно. Наше соединение: «художник-оптик», и мы своей человеческой привязанностью… мы привязаны и направляем туда эту оптику. Вот это и есть сочетание моих человеческих пристрастий и художнических. Если я проявлю их к другому, я туда оптику направляю. В этом отношении онтологическая привязанность человека к небесам, она не редукционная, она не только в данном жесте, а вообще во всяких проявлениях… быт, например. Если все должно идти в сторону религиозного взгляда, то чем же, собственно говоря, осмыслен быт? Готовить обеды, подметать – если он сам по себе не ценен, то этим не надо заниматься. Почему мы должны заниматься чем-то мелочным ради большого, которое перед нашими глазами. В том-то и отношение, что это проблема всех религий: как сделать быт, повседневную жизнь человека онтологически наполненной, а не только редукционно. Потому что тогда зачем мы всем этим занимаемся, правильно? <…>
НА ВЫХОДЕ ИЗ АНДЕГРАУНДА

Что день грядущий нам готовит, что предыдущий подготовил
25.07.1983
Данное интервью, должное быть именно интервью, по каким-то там причинам не получилось. Меня попросили восстановить его по памяти, сказав, что я, по всей видимости, помню его суть и содержание. Я быстренько согласился, но когда стал припоминать, то всплыли в моей памяти те единственные слова, которые беспрестанно витают и бегают от одного к другому во время наших бесчисленных и уже многолетних бесед. Разговоры эти достаточно однообразны, все об одном и том же: новое-старое, авангард-ретроград и т.п. Очевидно, в какие-то свои времена точно так же, о чем бы ни заводили речь, все сводилось к «рафаэлевской красоте», потом к «правде жизни» и т.д.
В отличие от старых времен, когда художник, а иногда и два-три поколения художников жили и благополучно завершали свой творческий путь в пределах одного, медленно достигающего своего патетического звучания, стиля, сквозь нынешнего художника с поражающей скоростью проносятся, сменяя друг друга, бесчисленные направления и стили. Так что, едва перевалив за сорок, почти уже со старческим смирением и беззлобием хочу взглянуть на произошедшие на моих глазах события.
Конечно, занимаясь периодизацией нашего современного искусства, весьма легко ошибиться по причине того, что, являясь активным и весьма тенденциозным участником, отдавая явное предпочтение всему, что близко сердцу и небеспристрастному глазу, акцентируешь какие-то явления или же градации явлений, кажущиеся весьма значительными, но со временем могущие оказаться нехитрыми вариациями одного стиля или темы. Тем более сложно на примере лишь изобразительного искусства при такой близкой и целенаправленной точке зрения (и, замечу, при отсутствии научного аппарата и достаточного количества людей, занявшихся бы этим) оценивать сдвиги в культуре в целом.
Но тем не менее мы все равно, даже точно не определяя внутри своего родственного круга, надеясь на некое общее интуитивное понимание, оперируем понятиями «60-е годы», «70-е годы», «наступающие 80-е». Я думаю, что вряд ли скажу нечто новое и оригинальное по этому поводу, во всяком случае, что-либо отличное от говорившегося в кругу людей, мне близких, но изложу все это в некоторой логической последовательности, что так трудно бывает сделать в устной беседе, когда все вроде бы ясно и так.
Итак, «шестидесятники».
После известной замкнутости культурной жизни в нее хлынул целый поток неизвестных доселе или прочно забытых имен, стилей, течений и идей. Равной сенсацией стали Малевич, Малявин, Врубель, Рерих, сюрреализм, абстракционизм и пр. Невообразимость этой ситуации усугублялась тем, что многое, прожитое общим большим временем, но не прожитое реальным и конкретным нашим внутренним временем, уже не имело жизнеукрепительных корней, чтобы быть понятым не как история искусств, а как реальное существование искусства, в то время как собственные законы самого искусства (его внутренние, имманентные законы) требовали переварить все это, пройти, художнически прожить. И художники со всей безоглядной смелостью и часто беспомощностью (время не давало времени на длительную осаду, оставляя возможность только геройского штурма) бросились осваивать, пережевывать, находить наши местные и нынешние культурно-бытовые адекваты всему вышеперечисленному. Естественный, развернутый во временной последовательности процесс обернулся у нас процессом синхронным, пространственным процессом параллельного освоения огромного разнообразия этих явлений. Отвоевав, отхватив себе такую качественную пространственность, во времени этот пространственный плюрализм стал просто длиться (и длится до сих пор), порождая внешнее сходство с явлением западного плюрализма.
Противостояние культурно-пространственной косности официального искусства объединило неофициальных художников этого периода. Персонализм и духовность стали пафосом этого противостояния. Вся окружающая социально-бытовая действительность по причине вышеуказанного противостояния оказалась отодвинутой (в отдельных случаях редуцированной и определяемой знаком неистинного бытия) от сферы чистого искусства. Это время явило образ, позу художника – провидца, стоика и жреца. Оно открыло нам весьма значительные и сильные личности в изобразительном искусстве. Перечислить их всех невозможно, тем более что нетрудно и ошибиться, отдав предпочтение тем, кто сильнее прочих повлиял на меня (по причине ли большей известности мне лично, так как узнать что-либо в достаточной полноте в те времена было делом нелегким, или потому, что поразили меня в определенные моменты моего художественного развития). Но не могу не назвать имена Целкова, Шварцмана, Краснопевцева, Вейсберга, Немухина, Янкилевского, Яковлева, Штейнберга. Повторяю, этот список никого (даже и меня на будущее) и ни к чему не обязывает.
Начало 70-х годов ознаменовалось двумя, на мой взгляд, кардинальными моментами, определившими развитие изобразительного искусства и культурной жизни целиком вплоть до 80-х годов. Первое – это вполне естественная реакция (как всегда и происходило, происходит и, по всей вероятности, будет происходить) на предыдущий период, перенасыщенный страстью к духовности, нетленности (в большинстве случаев оборачивавшейся манипулированием знаками духовности перед лицом необходимости, объявленной законодателями мод того периода, эту духовность являть в чистом и почти экзальтированном виде) с их нашей и нынешней неспутываемой окрашенностью идеологизмом и страстью к диктату. В это же время нарастившая немного мясца культура оказалась способной впервые за долгие годы осмыслить это все и себя как культуру.
Во-вторых, погоня (без всякого укоряющего или пренебрежительного отношения к этому термину) за умчавшимся куда-то туда (вперед ли, просто ли умчавшимся) западным искусством, да и культурой в целом, в этот момент позволила с наименьшим (со времен 20-х годов) хронологическим отставанием обнаружить и поразиться уникальным (не только для нас, но и для самого Запада) поворотом художественного и культурного сознания от установки на прекрасную вещь (даже и безобразную, но в расширенной эстетике последнего времени квалифицируемую как «прекрасная») к чисто волевому акту художествования с параллельным, почти синхронным по времени обращением от природы естественной к природе сотворенной – в лице поп-арта.
Но сразу же при обращении к материалу местной жизни, в попытке осмыслить ее в адекватных принципах конструирования произведений искусства знакомство с поп-артом обнаружило полнейшую невозможность прямого использования его идей в нашем культурном регионе. Дальше отдельных и невнятных попыток дело не пошло – попыток в основном ассамбляжного толка. Особняком стоят отдельные вещи Косолапова, являющие некий тяп-ляп-арт, и, конечно, творчество Рогинского. Но оба – и Рогинский, и Косолапов (в своих предметных вещах) – стояли ближе к китчу, если принять такую примерно схему: примитивизм, китч (примитивизм на материале поселково-пригородного культурного сознания) и поп-арт (примитивизм на материале урбанистического культурного сознания). Дело в том, что у нас отсутствует культура предмета и его качественности (и в прямом своем обличье, и в преломлении массмедиа), предмет заменяется его объявлением, называнием, провозглашением, а качественность – пафосом его утверждения, доходящим до попыток укоренить это «название-предмет» в онтологических глубинах-высотах. Поэтому поиски и вникания в местные конструкты культурного сознания привели к обнаружению замечательного, вполне отвечавшего тогдашним авангардным исканиям явления – давно и повсеместно концептуализированного сознания (что часто путают с концептуализмом в западном его понимании). Западный концептуализм был реакцией на апологетизированную предметность, был явлением свободы и самодостаточности языка описания, смещенного относительно предмета описания, – у нас же концептуализм (то, что стало называться здесь концептуализмом) объявился замещением предмета его названием, а языка описания предмета – описанием объявленного предмета. Я говорю, конечно, об одной из линий развития искусства в 70-е годы у нас, но, как мне кажется, она была откровением для своего времени и определяющей в те годы и своим сильным полем искривила (в квазинаучном значении этого слова) творчество многих художников – конкретно и буквально не причастных к ней. Этот феномен в пределах 70-х годов произвел ряд модификаций в творчестве уже сложившихся художников и породил тут же новых и досель невиданных адептов.
Если рассматривать последовательность развития этого нового культурного сознания на весьма коротком промежутке, то можно вычленить только логическую, а не временную последовательность, так как все художники, обратившиеся к новой теме, обратились к ней практически одновременно.
Первый образ этой темы являет творчество Кабакова, Булатова и Пивоварова (в этом ряду я помянул бы еще и Некрасова). Используя в своих произведениях языковые, культурные, психологические и поведенческие стереотипы и клише, сами они находятся как бы в стороне, отстраненно созерцая их и в этом созерцании очищая их до уровня некоего конструкта, сами оставаясь как бы судящим, водящим, оценивающим (в отдельных случаях даже заклинающим) субъектом вне своих работ.
Опять-таки, следуя не хронологической, а логической последовательности, назовем вторую группу художников: Комар, Меламид, Орлов, Лебедев, Косолапов и Соков. Отношение у них к тому же материалу более фамильярное, игровое, с разной степенью искренней вовлеченности в эти, иногда жизнеподобные и близкие авторам по разным причинам искренней укорененности в этой жизни, игры. В отличие от первых, у них объявилась легкость в обращении с материалом, иногда опасная, иногда легкость истинной свободы.
Несколько особняком стоит творчество Чуйкова (помянем тут и Рубинштейна), основной темой которого стало взаимоположение, совпадение, расхождение и даже взаимоуничтожение систем изобразительности. И у него местная ситуация, правда, в достаточно редуцированном виде, проявляется через выбор систем изобразительности и способ их соположения.
Упоминания требуют и имена Васильева, Гороховского, Шаблавина и Инфанте, которые, не принадлежа буквально к этому течению, несомненно, чувствуют на себе его сильное излучение.
Были примеры и прямых попыток работать в стиле чистого концептуализма – Герловины, например. Но, на мой взгляд, не питаемое местной кровью (а чужая далеко и вприглядку), их творчество весьма сухо и схематично являет некую общеобозначимую решетку энергичной человеческой деятельности вообще, погрузись которая в какой-либо живой насыщенный раствор, она могла бы моментально обрасти плотью и кристаллами.
Представляется, что могут быть общемировые, так сказать, стили (примеров несть числа – абстракционизм, например), являющие слияние культур в один континуум, неразличимый по-национально, но только по-личностно, что же касается содержательного и материального пласта, национальные же и региональные особенности обнаруживаются на предельном уровне пространственно-цветовых архетипов. Поп-арт же, скажем, в его точном и чистом проявлении был порождением региональной американской культуры, в меру не понимаемым вне места и среды его появления. Концептуализм, в свою очередь, явление западноевропейской культуры, в целом, как и поп-арт, понимаемое представителями инокультур (ровно наоборот абстракционизму) и с полной степенью достоверности трактуемое только на уровне общечеловеческом и общеэстетическом, для материализации в нашем регионе требует перекодировки содержательного и материального пластов. Сдается, что следующий за концептуализмом (и даже шире – общеконцептуальным сознанием) стиль будет будет общемировым и опять будет перекомпоновывать уровни узнавания.
Вот тут как раз и место помянуть художников, гораздо более молодых и по возрасту, и по времени вступления в высвеченный круг неофициального изобразительного искусства. Воспитавшись и выросши в среде уже устоявшихся к концу 70-х критериев, вкусов, этикета и табели о рангах вышеупомянутого стиля (или школы), достигшего своего расцвета и готовящегося стать классикой и историей искусств (хотя его создатели и деятели поры расцвета и продолжают активно работать, только подтверждая недоступные для пришедших с опозданием высоты), – так вот, эти художники, заставшие данное направление еще растущим организмом и сами отчасти приложившие усилия к этому делу (некоторые, правда, ориентировались на более чистые концептуальные влияния), знают и нечто иное, новое, или новое само что-то в них про себя уже знает, проступая в их работах еще неотчленимым от старого и неразглядимым с пьедестала предыдущих побед. Мне кажется, что именно этим художникам дано преодолеть столь славно поработавший принцип отчужденности и конструктивной созерцательности, с их творчеством будет связана возможность вновь назвать человека «художником» без опасности оскорбить его.
Теперь осталось только для корректности перечислить этих художников. Ну, если только для корректности, то зачем и перечислять. Все понимают, что я имею в виду «Мухоморов», Сорокина, Захарова, Щербакова, Альберта и кого-то, видимо, еще. Да, кстати, поддавшись вечному искусу возрастного ранжирования, забыл я, что здесь не может быть выстроена временная, но только логическая последовательность (иногда и совпадающая с временной). Об этом мне напомнили имена Алексеева и Монастырского.