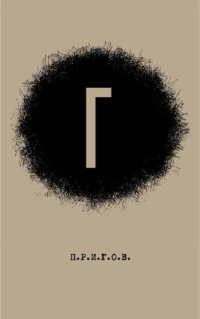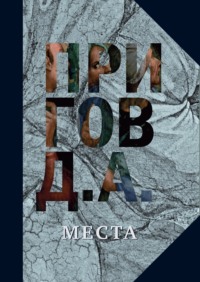Мысли
В общем-то, следить за изменениями, вернее, передислокацией оппозиции высокое—низкое, значит следить за перемещением локации власти. Это в наше время – вполне банальность из области фуконианы55. Но мы банальны, и если не гордимся этим, то и не скрываем, не смущаемся (типа: Ты банален? – Да! – Давай не расставаться навсегда!). Однако же нас интересует наше время и ближайшие к нему окрестности. Так что обратим внимание на начало века (в культурологии обозначенное книгой Ортеги-и-Гассета, несколько даже опередившей своими радикальными выводами тогдашнее конкретное время), когда начался процесс, который и есть сугубый предмет нашего рассмотрения. Теперь, перескочив 10-е, 20-е, 40-е, 50-е (как это перескочив? – а что, нельзя? – можно!), мы упираемся уже в явленный и явный нам, данный нам как социокультурная реальность в ощущении, рынок, окончательно оформленный экономической идеологией кейнсианской модели, размазанной покупательной способности всех (я, конечно, имею в виду западное развитое индустриальное общество, да, собственно, именно в его перспективе и на его опыте, в некотором слабом отражении воспроизводящемся у нас, и интересно, да и единственно имеет смысл, рассматривать специфические проблемы в современном искусстве, которые я имею в виду, которые, собственно, ни в каких других условиях не сконцентрированы в достаточной своей агрегатной ухватываемости, чтобы быть предметом подобных спекуляций). Представляется, что мы находимся на вершинной точке, если не на склоне уже (я не большой знаток всяких рыночных теорий и изысков) описанного подобным способом процесса, подобной власти рынка. Естественно, что от начала века этот процесс шел медленно, с тяжелыми изживаниями художнических аристократических амбиций, с реверсами, с попытками государственной власти сконструировать высокое, государственно-народное искусство – наиболее явные примеры и упоминать-то не стоит, чего их упоминать! их все знают! они у всех на устах! их и упоминать-то уже устали! упоминать-то их уже неприлично и зазорно! но все же упомяну – советское и фашистское, разные по своей направленности, традициям и достижениям, но в пределах наших рассуждений вполне идентичные. В общем-то, попытки создания народного понятного искусства, но и высокого и серьезного притом, всегда есть свидетельство архаически-аристократических тенденций у его авторов.
Посему, как мы и говорили выше, все высокие идеи и утопии переместились в новые нынешние властные слои культуры, то есть в нынешнюю масскультуру. И, как это ни парадоксально для наших труднотрансформируемых умов и пространств, именно объявление этих высоких идей и утопий моментально определяет ныне произведение искусства как произведение масскультуры, независимо от личных побудительных мотивов и иллюзий автора. И в смысле социокультурной перекомпоновки сфер в искусстве интересно нынешнее слияние и полнейшая неотличимость высоких властных утопий – все эти фэнтези, Толкиены, Терминаторы, компьютерные игры, помеси роботов с динозаврами и пр.
Еще раз замечу (вернее, эксплицитно замечу в первый раз, но надеюсь, что имплицитно эта мысль была внедрена в любой изворот моих предыдущих изгалений), что в моем сочинении я не хочу ни дискредитировать высокое или прошлое понятие высокого, ни приписать знаки преимущества какой-либо сфере культурной активности, но просто пересмотреть локацию высокого и низкого. Я не вкладываю в эти понятия никаких оценочно-стратификационных значений или права преимуществования в борьбе за власть как над умами чистыми и простыми, так и путаными, изощренными. И те и другие могут иметь свои интересы (свои маленькие или большие гешефты) и быть задействованы в обеих областях. Очевидно, для снятия ненужных культурных шумов, следовало бы эту оппозицию переартикулировать как, скажем, массовое и узкое (условно называемое все-таки в неизбежной атавистической страсти приписать этому занятию хоть какую толику преимущества – серьезное).
А чем же, в таком случае, занимается это так называемое серьезное искусство, и как оно опознаваемо в этом качестве? Ну, отрицательный способ уже назван: как только обнаружены высокие идеи и социокультурные утопии – это уже не серьезное искусство. Кроме, конечно, специальных случаев, когда все это используется специфическим образом для специфических целей (об этом подробнее ниже). Так вот, остановимся и подумаем, а стоит ли писать дальше? нужны ли эти попытки, неадекватные в своей мощности описываемой проблеме? для чего это? кто поймет или хотя бы простит? не проще ли остановиться в этой энигматической позе, заставляя подозревать за ней истинное эзотерическое знание в своей высокомерной чистоте, не хотящей мараться всякими там объединениями и разъяснениями? Но нет, мы просты и честны. Наша слабость велика, но она разделяема нами со всеми, со всей эпохой и потому непозорна (вернее, не столь позорна, сколь могла быть при других обстоятельствах). Нет! – скажем мы искусителю, мастеру лукавых недоговорок и возвышенного тумана. Мы говорим, как говорим, и в этом наша профессиональная этика. Мы знаем, что есть нечто сакральное, но оно должно быть опознано в адекватных ему пределах (насколько это возможно и невозможно), а не быть размазано по всей поверхности любого культурного акта, когда даже забивание гвоздя является тайной, эзотерикой, невыразимо и неизъяснимо. Припоминается к случаю, уж извините, как в достаточно давние времена довелось мне быть устроителем какого-то одновечернего мероприятия по изобразительному искусству с названием «Пространства». Ну, выступающие были весьма интеллектуальны и изощренны, обозревая двумерные, трехмерные, многомерные, плоские, вывернутые, минимальные, мнимые, культурные, исторические пространства, пространства цитирования, полагания, виртуальные и пр. И тут появляется истощенный художник, заросший до бровей, с неким горячечным румянцем на крохотном пространстве незаросших скул и произносит с неизбывным страданием: Какое пространство! – это ж мука!
А вы говорите.
Так вот.
На протяжении нашего помянутого ХХ века в ходе описанного выше процесса перемещения властных структур и вытеснения их со своих привычных позиций массискусством серьезное искусство, становясь все более (прямо сам язык тянется сказать: все более серьезным, но нет, мы скажем другое, нужное и необходимое) и более саморефлективным, нашло свою почти онтологическую в данном культурном эоне, более ни к чему не редуцируемую позицию, на которую, в общем-то, никогда не сможет претендовать искусство высоких идеалов красоты, – позицию поисков критерия легитимности высказывания. То есть позицию некой экспертизы относительно любого культурного жеста. (Помните: У вас нет рыбы? – Рыбы нет в рыбном отделе, а у нас нет мяса.) Являясь же сама частью большого культурного высказывания, серьезная культура работает с некими сложноследующими друг за другом саморефлектирующими операциями, порождая столь нынче популярные симулякры, смысло- и агрегато-подобия массискусства, которыми потом и оперирует вроде парижского эталонного метра. Как вы помните, этот прекрасный метр, отлитый из какой-то прекрасной стали-металла, вне операции экспертизы и конвенционального поля опосредования является приятной прохладной игрушкой-бруском весьма широкого поля неконвенционального применения. Заметим, что в своей почти брутальной материальности относительно экспертируемых им конвенционально-виртуальных, фантомно-призрачных метров земного обитания он удивительно напоминает, типологически сходен с объемными и твердыми объектами концептуального искусства, изображающими и воплощающими некие, скажем, неосязаемые идеи, абстракции и концепции. Да и вообще, естественнонаучные цитаты вполне лежат в русле практики и тенденции современного искусства по сближению с практикой и языком научных проектов и их оформления. Оговариваюсь, что в данном случае я апеллирую в основном к ситуации в изобразительном искусстве. Так вот, этим самым если и не уподобляясь сциентизму, современное искусство требует чистоты сознания и самосознания от его деятелей и, так сказать, культурной вменяемости в деле самоидентификации и определения смысла и сферы своего занятия. Как, например, в анекдоте: после смерти Брежнев приходит в ад и видит, что Мэрилин Монро извивается на коленях у Сталина. Брежнев и говорит: Хочу вот такую муку! – Нет, отвечают ему, это мука для Мэрилин Монро! Ну, конечно, все сказанное не отменяет настоящего безумия, экстаза и лирики (или чего там необходимого) в момент порождения симулякра, который должен быть наделен всеми необходимыми и достаточными основаниями, дабы стать вполне (до полнейшей, почти полнейшей, неотличимости!) спутываемым, принятым за оригинальный объект или жест. Припоминается реальный случай, уже мной многажды рассказанный и пересказанный, но в своей неистончающейся прелести и чистоте заново оживающий в каждом новом пересказе: в метро на эскалаторе молодая миловидная недурно одетая особа склоняется к другой такой же, стоящей ступенькой ниже, и произносит: «Я сделала все по твоему совету, но горечь осталась! – Ты, наверное, укропу не положила!».
В своей почти безумной мимикрической силе эти симулякры зачастую неотличимы от аутентичных образцов масскультуры не только для ума неискушенного, но и для вполне культурно-ориентированного. Лишь назначающий жест автора, его предшествующий имидж помогает в идентификации объектов, если и не в их единственно экспертной функции, то в двоящейся, мерцающей, соответственно отражающей и состояние, в которое сознательно в своей творческо-культурной медитации вводит (или в страдательном образе – впадает) себя автор, – то есть момент некой мерцательной бессознательности, которая, соответственно, в своей творческой доминанте как-то соотносится с героической бессознательностью героев масскультуры.
Так вот, вся хитрость – в мобильности автора, умеющего в следующий момент отскочить в зону измерений и идентификаций (естественно, пространственные метафоры употребляются здесь в том же некорректном смысле, в каком они употребляются практически в любой области человеческих рефлексий). Этим художник минимально, но все же отличается от исследователя и культуролога со стороны (заметим несомненно значащий факт многочисленного перехода искусствоведов и кураторов в художники, вполне конкурентоспособные и ныне весьма известные). Искренность же серьезного искусства и фантомов, им порождаемых, – есть благодарственное эхо всего искреннего и интимного, разрешаемого в качестве такового в своих отмененных пределах.
Будучи лишенным высоких идей и утопий (ну хотя бы в пределах этого текста – мной), серьезное искусство, однако же, сохранило для себя, вернее даже – зиждется на одной последней утопии, разделяемой с современным сциентическим сознанием и подвергаемой серьезному испытанию. Это – незыблемость антропологических оснований. Именно основные стратегические экстремы, выходя за пределы сложившейся культуры (скажем так, греко-христианского эона культуры), лежат в направлении рискованных предположений и опытов в сфере идей новой антропологии и виртуального преодоления традиционной антропологии. Степень достоверности и вероятности реализации какого-либо конкретного проекта несущественна в данном случае. Хотя, конечно, появление овечки Долли – это вам не фунт собачий, как его хотят представить некоторые.
Однако же культура сама порождает некие, так сказать, опережающие вочеловеченные символы социокультурного поведения, являющие попытку преодолеть, одолеть проблемы своего времени, транспонировать, редуцировать их на иной уровень средствами своего времени. Припомним незабвенный образ Павлика Морозова. Именно как некая попытка явить это в пределах высокого, то есть массового искусства, без ненужных жестов саморефлексии (эдаким нынешним Павликом Морозовым, но глобально-космополитическим) является нам Майкл Джексон. Мы не обсуждаем качество его музыки, текстов и пения (что само по себе заслуживает отдельного культурологического исследования, и, я думаю, уже кем-то произведенного). В своем же имиджевом явлении в современный мир культуры он затрагивает, объявляет, медиирует, как бы уничтожает и отменяет в их фундаментальном и незыблемом значении полюса-оппозиции социальной и культурной самоидентификации нашего времени:
1) белый – черный (он ни белый, ни черный);
2) дитя – взрослый (он ни дитя, ни взрослый);
3) женщина – мужчина (ни мужчина, ни женщина, несмотря на его некоторые последние попытки доказать именно свою маскулинность, что, естественно, заранее обречено на провал);
4) он ни человекообразный, ни роботоподобный (вернее, и то и другое);
5) ни запрограммированный, ни спонтанный;
6) ни антропоморфный, ни зооморфный (вспомним его «Триллер»).
Он ни то, ни другое, ни третье, он – все это в розницу и вместе. Он – ничто. Он точка пересечения осей, скользя по которым, он легко обращается то в одно, то в другое, то в монструозное сочетание разнообразных черт. Он – точка медиации. Он – пустота, в лучшем смысле этого слова, и в высшем тоже. И в этом качестве и смысле он – наиактуальнейший персонаж современной культуры. Но следующие культурные поколения, как правило, редуцируют проблему на другой уровень и становятся не персонажами, а реальными творческими типами и деятелями в пределах уже снятых оппозиций предыдущего времени.
Тысячелетье на дворе56
2002
Любые круглые исторические даты провоцируют на катастрофические ожидания. И уж, конечно, в конце второго тысячелетия мы тоже не можем отказать себе в удовольствии некоего рода мазохистического апокалиптизма. А и, собственно, зачем отказывать. Позволим себе эту слабость. Не будем изображать преизбыток оптимизма и силы.
Однако же не будем и перевозбуждаться восторгом мрачных демонических картин. Будем смиренны перед лицом этих ожиданий. Тем более, что определенные обстоятельства вполне подтверждают их. Впрочем, обстоятельства всегда подтверждают любые ожидания, лишь бы таковые имелись.
Однако, не беря в расчет огромные, гигантские проблемы всяческих там близящихся глобальных катастроф, могущих быть идентифицированными и если разрешенных, то умами равноглобальными, мы отметим некие небольшие, но явные черты тех же самых процессов в узкой культурно-художественной сфере и посему могущих быть подмеченными нашими, не сильными во всяческих там рефлексиях, умами.
Вообще-то, воспринимая мир как целокупный сложнопостроенный организм, можно по малому его отражению в малой точке судить о достаточно серьезных процессах, в нем происходящих. Такой вот род китайской мануальной медицины. Например, не будучи специалистом в экономике и обществоведении, не особенно даже и вникая в эти процессы, но только потому, что в нашей стране так и не сложился рынок и не объявился процесс современного изобразительного искусства, можно судить, что и большой рынок и гражданское общество у нас пока не состоялись. (Ну, конечно, если предполагать их актуальность и необходимость.) Я говорю о современном искусстве именно в том толковании и определении, как это принято в современной западной культуре. А то в нынешней солидной московской прессе между вполне взрослыми и продвинутыми людьми до сих пор, например, идет интенсивный спор о том, художник ли Малевич или шарлатан, – нонсенс!
Но здесь нужно заметить, и с этого начать наше основное повествование и рассуждение, и нужно заметить утвердительно, что Россия вполне и полностью находилась и находится в ареале западной культуры, являясь только и исключительно Востоком Запада. Какие-то полагаемые для приятствия и удовлетворения самосознания и сладости противопоставления Западу черты восточности, так называемого пресловутого «русского буддизма» или декоративной скифскости суть не более чем тоска любого европейца по утраченной натуральности и ориентализму. Правда, в наших пределах являющаяся в такой вот форме некой самовнедренной, интенсифицируемой и сладостно провоцируемой шизоидности – а почему нет? Нельзя? – можно. (Надо заметить, что и Запад с некоторым замиранием сердца нам в этом потакает.) На деле же мы не большие буддисты, чем буддистами явились те же хиппи. А может быть даже, по сравнению с ними – и меньшие. Другое дело, что русский вариант общеевропейской культуры, да и вообще истории взаимоотношения с Западом, весьма специфичен.
Не боясь прослыть русофобом, замечу следующее. Вернее, боясь прослыть русофобом, все же замечу следующее. Так вот, хочу заявить следующее, одновременно боясь и одновременно не боясь прослыть русофобом, тем более что одна уже заявка на заявление подобного моментально отбрасывает тебя в ряды русофобов. Но я все-таки не боюсь этого. И не боюсь заметить следующее.
Так вот.
Если бросить взгляд на весь российский культурно-исторический процесс, можно заметить, что практически за всю свою историю Россия сама не породила ни одного культурно-эстетического направления. Увы, это так. Или не увы, но все равно – так. Подобное заявление выглядит достаточно жестким, но я предупреждал, что уже не боюсь прослыть кем угодно. Все стили, направления, эстетические и философские концепции Россия заимствовала у Запада. Начиная от византийской иконы, через петровское барокко к классицизму, романтизму, сентиментализму, русскому роману. Далее – ампир, реализм, символизм, модерн, авангард, концептуализм и вплоть до последних измов наших дней. To есть российская культура есть прямое порождение общеевропейской (особенно, в своей интенсивности и полноте – нынешняя урбанистическая культура России). Другое дело, что спецификой России был своеобразный способ апроприации всего этого. Вернее, циклический способ включения в западный культурно-исторический процесс и есть ее специфика пар экселанс.
По известной историософской теории-схеме, она подвержена периодическим исчезновениям (периодам изоляции) и появлениям на европейской арене. Такой вот род афазии, если переводить на язык психиатрии, что, кстати, весьма распространено ныне при опытах описания любого антропологического процесса. Но это так, к слову. А вернемся к делу.
В моменты вышеупомянутых выныриваний и подключений России к европейской жизни она обычно обнаруживала некоторое количество новых, неведомых ей направлений и течений, объявившихся и наросших в европейской культуре за время ее отсутствия и интенсивного мучительно-долгого пережевывания последних, застигнувших ее в период ее предыдущего выныривания (за долгостью и интенсивностью замкнутого пользования становящихся почти фетишами, идолами и символами веры). Однако если в своей органической среде возникновения эти стили и направления появлялись и пробивали себе дорогу в жизнь и на Олимп как реакция друг на друга в борьбе и соперничестве, с доминирующими дифференцирующими признаками, в сложном процессе взаимотталкивания и взаимозаимствований, то для вынырнувшей России они являлись как нечто целое с доминирующими интеграционными признаками. У нас пытались отыскать и с торжеством отыскивали преимущественные, если и не явные, то хотя бы лежащие в их основе, черты и идею единства. Именно эта неспособность видеть как бы целое и объединяющее и ставилась часто в укор западному сознанию русскими мыслителями. Кстати, если это и не породило, то в немалой степени способствовало укоренению знаменитого российского синкретического сознания. При наличии вообще внутриевропейских противоречий возникала иллюзия понимания Европы гораздо лучше и глубже, чем она сама понимает себя и глубинный смысл своих собственных порождений, достижений и ужасающих провалов.
Подобные синкретические сгустки, отделенные друг от друга периодами пропадания, выпадания из европейского процесса, наделенные невиданной силой их переживания и заселения собственными утопиями и фантомами, рассыпаны по всей истории российской культуры и длятся, длятся в своей неизживаемой жизнеподобной актуальности. Именно их критическая масса, так сказать, крупная агрегатная поделенность и разделение огромными, почти пустотными провалами придает им такую странную жизнеспособность и невозможность слиться друг с другом. Я понимаю, что подобная монструозная картина, почти из жанра фэнтези, описанная к тому же беспорядочной квазинаучной терминологией, может вызвать только недоверчивое и снисходительное покачивание головой, однако же… Однако же и доныне той же самой слезой плачут по вчерашним жертвам режима и убиенному Пушкину, вскипая одинаковой злобой к палачам сталинского режима и к бессовестному Дантесу, и готовы отдать разновременным жертвам, которых разделяют века, свою кровь, сердце и душу. То есть, как всем известно, напрочь возродить всех и сразу разнообразных отцов. Ясно дело, что по сравнению со столь грандиозной и захватывающей задачей, построение более мелких деталей быта и культуры вещь не столь увлекающая и значимая.
Надо заметить что подобный культурный модус вивенди породил и специфическую способность местного культурного субъекта к моментальным перемещениям по временам и культурам, что объявилось в феномене языковой мобильности и так называемого двоемыслия, троемыслия и т.д. То есть той как бы принципиальной предположенности к концептуалистскому сознанию, которое в западной культуре конституировалось только к середине 60-х, когда набрал силу процесс развеществления жестких жанров и видов искусства и вербализации изобразительного искусства. В русской же культуре доминация слова всегда была столь сильна и фиксированна, что, например, любой визуальный акт как бы сгорал между двумя мощными вербальными. То есть некой предполагавшейся, предшествующей любому изображению, артикулированной в неких словах идеи и последующим за самим изображением актом словесного же его объяснения-толкования. В этом сочетании само изобразительное воспринималось как недосказанное, эдакое поучительное для не умеющих сказать точно и хорошо словами. Что и закономерно поставило на вершину достижений русского изобразительного искусства передвижническую школу. Что и справедливо с нашей, местной точки зрения.
Но это все, так сказать, к слову.
А теперь последнее. Последнее по ходу повествования, но, отнюдь не последнее по значению. А даже совсем наоборот – самое, можно сказать, важное.
Точно так же, как все стили и направления в культуре, все формы своего государственно-политического устройства Россия тоже заимствовала у Запада. Мы в данном случае не будем обсуждать мелкие различия и варианты абсолютизма или конституционной монархии. Но вот на исходе второго тысячелетия, вернее, в самом начале его XIX столетия, Россия сподобилась явить миру нечто свое, исключительное, неспутываемое и неотчуждаемое в ряду социально- политических систем. Собственное ноу-хау, никем не могущее быть оспоренным. Имя этому феномену – социализм. Вернее, его конкретное воплощение в виде советского строя. Собственно, сама историософема опять-таки возникла в недрах западного культурного сознания и обкатывалась там достаточно длительное время. Но попытка ее реального воплощения, реализации удалась только у нас. В данном случае мы не обсуждаем ни нравственно-этической стороны этого феномена, ни человеческих и материальных издержек. Они ужасающи, но мы не об этом. Не будем рассуждать также, насколько реализованный феномен соответствовал теоретическим разработкам. Ведь и нынешние образцы действующих либеральных демократий весьма в различной степени соответствуют неким теоретическим нормативным образцам. Именно воплощенный социализм является единственным реальным достижением и вкладом России в сокровищницу европейской истории. И не только европейской.
Уже впоследствии будучи многажды перенесенным и внедренным в различные исторические условия различных стран и режимов – от фашизма до африканского социализма – он так и остался нашей трейд-марк. Причем, во всех других случаях, будучи отягченным разного рода архаическими пережитками и упованиями, типа «земля и кровь», он нигде не достигал такой чистоты воплощения, как у нас, в особенности на пределе 20—30-х годов.
Апокалиптические же ожидания, с которых начинается эта статья, вполне подпитываются не только всеобщим мировым ожиданием неких фундаментальных перемен, но и нашим личным реальным опытом крушения и завершения большого эона русской культуры. Тем более, что если на порождение некоего нового специфического феномена, наподобие описанного, уйдет опять целое тысячелетие, то это почти и есть конец света.
Единственно остается надеяться, что наши потомки в далеком третьем тысячелетии сподобятся создать нечто оригинальное, но более гуманистичное. Хотя кто их знает, наших потомков.
Культо-мульти-глобализм
Начало 2000-х
Начиная свое говорение, мысленно прикидывая его объем, наполнение и пафос, экстраполяционным, опережающим взором как бы оказываясь уже даже в его завершающей точке, я обнаруживаю себя в некой неадекватной, стеснительной, что ли, ситуации. В ситуации памятного студента-филолога на экзамене по истории партии – были такие экзамены по истории такой бывшей партии в бывшем Советском Союзе. Будучи спрошенным по поводу сроков, места проведения и прочих интимных подробностей какого-то из многочисленных съездов и, видимо, мало о том осведомленный, он ответствовал: «Говоря о таком-то съезде коммунистической партии, я не могу не начать с великого русского писателя Льва Николаевича Толстого и его гениальной “Анны Карениной”».