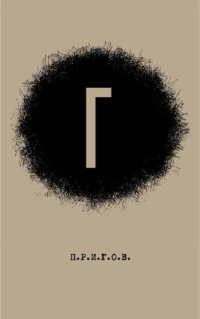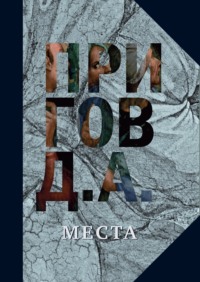Мысли
—Таким образом, вы верите в способность нашего общества безболезненно адаптировать авангардную культуру?
– Знаете ли, нет такого общества, где бы все любили только авангардное искусство. Нет. Я думаю, что у нас довольно скоро наберется ровно та масса почитателей, которая нам и отведена в этой жизни. Если же мы выйдем за этот круг, то, следовательно, мы перестали быть авангардом.
—Ну а как официальные структуры? Всегда ли они будут столь терпимыми?
– Как вы сами понимаете, сейчас еще ничего определенного сказать нельзя. Можно предположить три линии развития: что все это завтра кончится, что это надолго или что это навсегда. Что касается первой альтернативы, то если осуществится именно она, то хотелось бы, чтобы она не задерживалась. Потому что если осуществится вторая альтернатива – что все это кончится нескоро, то есть опасность, что деятели авангардного искусства растеряют опыт подпольного существования и придется учиться заново. Наконец, если это навсегда, то участь моего поколения незавидная. Новые условия наверняка воспитают новых людей, у которых нравственность и другие человеческие качества если и останутся, то будут находиться в другом месте. Мы же в этом обществе окажемся чужими и будем существовать на правах политкаторжан. Если соблаговолят, то нам построят специальный дом, предоставят льготы. Помните, как цирковая дрессировщица Надежда Дурова40 всю жизнь ходила в гусарском костюме. Сначала это было замечательно, затем смешно, затем дико, а затем вновь замечательно. Хотелось бы дожить до того времени, когда будет вновь замечательно.
– Дмитрий Александрович, поскольку это интервью предназначено для зарубежного журнала, то позвольте вам задать в заключение типовой вопрос западного журналиста. Вы верите в перестройку?
– Позвольте, Виктор Александрович, ответить вам притчей Рама Кришны. Надо жить как служанка в этом мире. Она идет с ребенком и говорит: «Это мой ребенок». Входит в дом и говорит: «Это мой дом». Надо жить, веря, что все это полностью осуществится, но со всегдашней готовностью, что это завтра кончится.
Художник. Новая роль в новом искусстве41
1991
—Пять лет назад, давая интервью журналу «А – Я», вы рассуждали о поэтике концептуализма и пришли к очень интересным соображениям по поводу позы, положения поэта, художника в современном обществе. Насколько изменилось за это время ваше представление о роли художника, и изменилось ли оно?
—То интервью, во всяком случае описание феномена Артист – Художник, было посвящено вполне сложившемуся феномену уже на грани его излета, то есть это уже был взгляд из несколько другой ситуации в предыдущую – в героическую пору не концептуализма, а, я бы сказал, общеконцептуального сознания, характерного для феномена третьего возраста, третьего периода авангардного искусства и типа авангардного художника. Тогда уже были ясны некоторые процессы завершения роли этого имиджа, этого культурного менталитета, и сейчас ясно, что тип авангардного художника (и вообще авангардное искусство как артикулирующее основные проблемы культуры нашего времени) завершен. На смену пришли некие переходные модификации общего концептуального сознания, такие как трансавангард, постмодерн. Но, очевидно, они являются промежуточными моделями существования искусства. Что за новый тип искусства и новый тип художника возникнет – не берусь судить. Представляется, что решение приходит всегда на каком-то другом уровне, нежели можно представить, исходя из текущего процесса. То есть я полагаю, что если в пределах концептуального сознания художественные стили и позы были персонажами некоего автора, режиссера, то теперь сам тип художественного творчества станет персонажем в неком другом виде деятельности, где он, этот тип художественного творчества, будет сопоставлен с другими типами деятельности, осмысленными как эстетическая деятельность. Предполагаю, что это будет уже не в буквальном смысле художественная деятельность (хотя сейчас достаточно распространен тип художника, который делает не картины, даже не художественный объект, не результат, а уже ситуации, в которых он работает как бы указующими жестами) – а новый тип не художника, но деятеля. Этот тип, я полагаю, будет неким медиатором, регулятором в очень широкой зоне культурного проявление человека как такового.
—Так или иначе, разные эпохи вырабатывали разные критерии искусства. В одни эпохи решается вопрос: искусство это или не искусство, другие эпохи спрашивают: истинно или ложно то, что он [художник] совершает. Как вы считаете, какой критерий выберет искусство «постперестроечного» времени для оценки того, что делает художник?
—Здесь разговор не столько о критериях, сколько о некой драматургии развития каждого периода искусства. Очевидно, истинно—ложно – это основная оппозиция искусства несекулярного, и если не религиозного, то, во всяком случае, искусства геральдического, где можно было сказать, истинно отражена суть или не истинно. Проблема прекрасно—безобразно – это уже искусство романтическое, когда художник стремился расширить границы прекрасного, сведя в результате все, что ни есть на белом свете, в единицу артикулирующую. Культура все время как бы сопротивляется этому, но в результате она соглашается, и когда она заранее в любой деятельности художника-творца видит, что все, пройдя через него, становится прекрасным, то драматургия искусства исчезает, и на повестку дня становится проблема рождения нового типа как художника, так и искусства.
Я говорю только об одной из сторон, движущих развитие искусства, или, во всяком случае, если не развитие, то некую драматургию его расцвета и умирания. И когда в конце XIX – начале XX века определилось, что все прекрасно, драматургия как бы исчерпала себя, возник тип авангардного искусства и авангардного художника. Основной оппозицией этого искусства была: искусство – не искусство, то есть основная задача каждого следующего поколения художников или даже каждого следующего художника – была опять захватить некую зону «неискусства», чтобы явить вообще сам феномен искусства – делать искусством все, что попадает в зону внимания художника. И до наших дней основная борьба между культурой и живым искусством была в том, что каждый раз искусство являло некие новые зоны действительности, которыми оно овладевало, некие новые приемы, некие новые художественные позы, объявляя, что это тоже искусство. Культура поначалу говорила, что это не искусство, но потом, когда культура согласилась, что все, что художник ни представляет в маркированные зоны выставочного зала, печатной страницы, на эстраде, – все это есть искусство, то этот жест художнического первооткрытия иссяк, потому что все, что ни брал художник, все, что он ни являл перед взором культуры, оказывалось искусством, и культура не сопротивлялась, то есть драматургия, двигавшая развитие авангардного искусства, была исчерпана. Очевидно, возникает некий новый культурный тип; новый тип культуры. Какая драматургия будет для него движущей? Я думаю, что основное, что сейчас будет, это – самоидентификация художественной личности, то есть когда ее деятельность будет настолько разбросана, что культура будет задавать вопрос: и это ты? Это будет некая промежуточная зона между каким-то проектантством, устройством каких-то сельскохозяйственных выставок. Это будет человек, который станет имитировать художественную деятельность некой квазипрактической деятельностью.
—Дмитрий Александрович, согласитесь ли вы с такого рода соображением: русский концептуализм еще в доперестроечное время вступил в своеобразную фазу кризиса, который так или иначе определялся исчерпанностью его метода как двигателя искусства, и в то же самое время процессы, которые сейчас принято называть перестроечными, явно ускорили это продвижение от кризисного состояния к труднореанимируемому. Что вы можете сказать о положении ведущих художников, поэтов, которые, вероятно, точно и полно выразили возможности концептуализма, с одной стороны, и искусства – с другой, в 1970—1980-е годы? Каково положение этих поэтов и художников сейчас, и каково их будущее?
—Это вполне традиционная схема, ситуация, когда некое новое течение культуры, возникнув, является неким мотором, очень интенсивным, в развитии культурного строительства: культурное строительство достигает апогея; естественно, полностью сложив некую суммированную порождающую систему, явив и артикулировав ее в самой культуре, дав возможность любому человеку, пользуясь ею, порождать тексты (в любой сфере культурной деятельности). Конечно, эта стилистика культуры себя изживает: она выполнила свою функцию. Другое дело, что если брать субъектом эту культурную ситуацию, то несколько отлична субъектная жизнь самих художников. Мы знаем, что художники, которые открывают стиль, порождают его – на них до конца их деятельности лежит некая печать откровения, помимо культурной деятельности они касаются каких-то личных экзистенциальных, может быть, даже метафизических истин, которые они артикулируют, и эта печать истины лежит на их деятельности в отличие от жизни самого стиля; если стиль может умирать, то деятельность истинных художников, которые действительно коснулись определенной тайны или какой-то сути, – она как их личное достояние продолжает жить вместе с ними. В этом отношении люди, полностью идентифицировавшие себя не с концептуализмом как таковым, а (я все-таки настаиваю на том, чтобы употреблять другой термин) с общеконцептуальным менталитетом (в него входил достаточно широкий круг явлений, концептуализмом не могущий быть описан), – кто себя идентифицировал со стилем определенным, тот продолжал работать, и в описанной мною схеме они – вполне художники, поскольку это их истинный пост в этом мире, это их служение, которое совпало с определенной культурной ситуацией.
—Вы считаете, что эти художники не переживают сейчас личностного кризиса?
—Это уже личная биография: кто-то переживает, кто-то не переживает. Кто-то чуть-чуть модифицирует стиль, а люди, работавшие на диалоге с культурной ситуацией, с контекстом, более чувствительны к изменениям, поскольку их оппонент, референт – культурная ситуация – чуть изменился. Я могу про себя сказать, что я, в общем-то, работал в тесном диалоге именно с контекстом. Но в данном случае у меня несколько другие стратегия и тактика поведения: я себе напоминаю летающую крылатую ракету, которая точно зависит от географии, рельефа, мейнстрима. В данном случае, когда меняется мейнстрим, то логично изменить, скажем, язык и прочее, но в этом отношении стратегема моя практически остается та же. Естественно, я могу менять героев, могу менять язык (жестко государственный на либеральный), но ясное дело, что конструкция моего отношения проглядывает, и я угадываю точно так же. Для меня, в общем, интересны все эти аспекты культуры и искусства, и я сам для себя – некий экспериментальный организм, на котором я, в неком отдалении, оторвавшись от себя, могу проводить определенные эксперименты. И я это делаю. Описываемая мною модель искусства, конечно, как-то промоделирована и прочувствована внутри, и я пытаюсь даже делать некие определенные шаги, которые возможны в пределах моей устоявшейся конструкции и имиджа и вообще моей жизненной ситуации. Полностью, я думаю, вряд ли я могу уйти из заданного мне времени и уйти от своей миссии.
—Дмитрий Александрович, нет ли у вас ощущения, что в 1970—1980-е годы именно русский художник, русский поэт опять, в очередной раз восприняв идеи своего искусства с Запада, выразил их, может быть, важнее и точнее, взяв на себя роль мирового поэта, и так или иначе в 1970—1980-е годы русское искусство, возможно, оказалось самым точным и самым глубоким по сравнению с развитием искусства на Западе; и согласитесь ли вы с тем, что сейчас это положение изменилось: что сейчас русский художник теряет это свое положение «избранника богов», на него уже не указывает перст, он не освещен уже прожектором какого-то внутреннего и очень напряженного внимания.
—Если смотреть изнутри ситуации, из русской ситуации, то, возможно, ваше определение имеет смысл. Но если смотреть из западной ситуации, то русской советской культуры (не русской, а русской советской) там, в западном менталитете, в западном культурном обиходе, практически не существует.
—Несмотря на всплеск интереса к современной живописи?
—Да. Во-первых, этот всплеск в процентном отношении мизерен. В Нью-Йорке, в Америке тысячи галерей, и если из них три заинтересовались советскими художниками, то…
—…для России это много, а для мира…
—…для мировой культурной ситуации – это вообще ничего. Советское изобразительное искусство имеет шанс только в том случае, если тут разовьются свои культурно-рыночные структуры искусства (если принимать модель западного развития культуры), и эта культура породит определенную структуру художественной жизни и вольется в общую большую культуру Запада, на которой, в общем-то, конъюнктура весьма плавает: там то приобретают значение немецкие художники, то итальянские… Но, во-первых, это, конечно, значимо по сравнению с русским искусством, потому что, скажем, в немецкое искусство, прежде чем оно появилось на мировых рынках, были вложены миллионы долларов, без этого невозможно, это рынок, в общем-то… Возможно, из русского искусства в мировое искусство войдут единицы. Но если, скажем, в начале XIX века на сотню художников мировой элиты двадцать было из высочайшей элиты русской, это значимо. Но если сейчас на тысячи художников с мировым именем, в которых постоянно вкладывались деньги, которые интенсивно работают, есть несколько десятков советских художников, то это мало что значит. В этом отношении я не питаю никаких иллюзий. Другое дело, что за нами стоит образ огромного культурного региона, в котором надо очень точно, серьезно и осмысленно работать самим художникам. Дело в том, что попытки влиться в западную культурную жизнь всегда напоминали некий род странного болезненного состояния: мы как бы выделяем определенный пласт или слой людей для отживания западного культурного опыта, как некий нарыв, который, когда исполнял свою функцию – нарывал, то тело при всем притом, будучи огромным, сосредоточивалось на этом маленьком нарыве в момент его назревания. Он болел, но когда он исполнял свою функцию оттягивания заразных веществ, то его отрезали, и все начиналось заново.
Теперь, что касается литературы, словесности. Она, конечно, несколько в другом положении по причине того, что имманентные законы развития довлеют ей в гораздо большей степени, чем общемировые, в изобразительном искусстве. Русская культура до сей поры все-таки преимущественно вербальна, и весь монолит изобразительного искусства, музыкального и прочего все равно мыслит предпочтительно вербально, за исключением небольшого числа ориентированных на Запад художников, как в музыке, так и в изобразительном искусстве. В этом отношении литература в России до сих пор имеет преимущественное значение в культурном процессе. Но опять-таки, при переходе границы западной культуры мы обнаруживаем, что значение русской литературы там не может быть отыграно, потому что там уже нет площадки, которая может вместить, скажем, столь огромный хор действующих лиц. Она их впускает, но она их по-другому истолковывает. Западная культура, скажем, может впустить к себе Солженицына, но уже в качестве некой общественной фигуры: он не может быть литературно-общественной фигурой, он – общественно-литературная фигура. Поэтому, говоря о концептуализме или об общеконцептуальном сознании, надо сказать, что в нашей культуре, при нашей заостренности на проблеме количества людей, работающих в этой стилистике, значимость этого культурного сознания в общекультурном и литературном движении на данный момент весьма ограниченна. И поскольку это сознание уже прошло свой героический пик, а люди только подключаются, я думаю, что они скорее перескочат в другую культурную ситуацию, не имея опыта концептуального, что, собственно, и происходит, как мне представляется, в Ленинграде, где не было опыта концептуального сознания. Здесь ситуация такова: молодежное движение занимается постмодерновой стилистикой, как бы прыгнув (как африканские страны) из феодального и первобытного строя сразу в социализм. Правда, на этом перескоке порождаются замечательные кентаврические стили и личности, но все-таки, как мне представляется, нынешнее культурное развитие не терпит такого рода способов развития. Если раньше стили доминировали в пределах многих лет и человек мог получить эстетическое образование, вобрав в себя все эти принципы культурного менталитета даже через побочные дошедшие до него сведения – через родителей, газеты, журналы, то сейчас художник не может впитать в себя законы культурного поведения через иные средства, нежели через саму культуру, и серьезно и интенсивно занимаясь этим. Поэтому эти пробелы невосполнимы, и имманентное развитие внутри культуры начинает доминировать над внешними законами и связями.
Между именем и имиджем42
Диалог с Сергеем Гандлевским
1993
СЕРГЕЙ ГАНДЛЕВСКИЙ. Дмитрий Александрович, с вашим именем связано представление о чем-то заведомо смешном, веселом, прежде всего о псевдосоветских стихах или стихах о Милицанере. В одном интервью вы сказали, что уже написали полтора десятка тысяч стихотворений, а всего собираетесь сочинить двадцать тысяч произведений. Там же вы говорите, что обилие написанного обрекает вас на превратность толкований, потому что читатель видит только часть из содеянного. Я думаю, безжалостно требовать от людей, чтобы они прочли всего Пригова, – случись такое, нам грозит остановка производства.
ДМИТРИЙ ПРИГОВ. Оно и так остановилось.
С.Г. И все-таки я прошу дать ключ к пониманию вашего творчества.
Д.П. Я не пишу стихов ни исповедального, ни личного плана, и у меня нет личного языка. Я работаю, как режиссер, который выводит на сцену различных героев. Но по тому, как он сводит героев, какие это герои, как разрешены драматургические коллизии, он, режиссер, прочитывается на уровне постановки этого спектакля. В этом смысле вся «советская» часть моей деятельности – один из таких языковых героев, это язык советского мифа. Я с ним работал, пока это было для меня актуально. Но каждый материал имеет критическую массу наработанности, дальше это просто тебе самому неинтересно. Мне кажется, что такой способ игры с советским языком, советскими мифами уже реализовался, стал достоянием истории, в этом смысле его уже ни обойти, ни объехать, ни изничтожить, он уже увековечился и как бы спокойно существует. После этого я работал в имидже экстатического поэта, философского поэта и других. Сумма всех этих стилистик, всех образов и создаст мой, скажем так, режиссерский образ.
С.Г. Из сказанного я могу сделать вывод, что ваша деятельность принципиально вторична. Вам необходим огромный багаж литературных традиций, чтобы уже к ним взывать. Справедливо? Но мне кажется, что сугубо исследовательское, бесстрастное отношение к разным стилям лишает вас каких-то специфических радостей, знакомых исповедальному поэту. Ведь исповедальный поэт, он тоже вполне эстетически вменяем, и когда он пишет о своей любви, страхе, ненависти, он боковым зрением видит близкую ему литературную традицию. А для вас все традиции равны. Гордое и смиренное одновременно чувство литературного родства с какой-нибудь славной традицией – волнующее чувство, его не объяснить просто тщеславием. Потом всякий поэт, по-моему, старается воплотить в творчестве себя не бытового, а лучшего, очищенного, мечту о себе. Я сейчас говорю не о бессмертии в литературе, а о потребности высказать все как есть, без помех. А вас, собственно вас, в вашем творчестве нет, поэтому очень затруднительно общение. Вы – везде и нигде.
Д.П. Дело в том, что режиссерская деятельность или дирижерская деятельность – это художническая деятельность, которая точно так же эмоционально переживается, как и деятельность чисто языковая и пластическая. В этом отношении, мне кажется, я не лишен никаких радостей, вами перечисленных. Они просто сфокусированы в несколько другой сфере. Насчет традиции тоже должен вас если не поправить, то подсказать, что традиции складываются, они не вечны. Та традиция, к которой вы отсылаете, традиция романтическая, в свое время заложенная, кончающаяся или нет, мне трудно судить, – для меня она кончилась. Но и я могу отослать себя к традиции почти вековой, у которой есть читатель и есть последователи. Я выстраиваюсь одним из последних в этой традиции и апеллирую к этому читателю. Эта традиция начинается от постсимволистов, Хлебникова и Маяковского. Был такой поэт Чичерин, потом обэриуты. После обэриутов стало допустимо существование такого способа писания, появились Николай Глазков, Ян Сатуновский. Но поскольку я художник, я подключен к традиции не только советской, но и мировой, и потому взаимосменяющихся направлений и стилей в авангардном, концептуальном, постмодернистском изобразительном искусстве. Это огромный поток, который трудно представить себе человеку, не причастному изобразительному искусству, и тем более человеку, малознакомому с западным изобразительным искусством, мировым даже, я бы сказал. Поэтому я не чувствую себя ни обделенным в смысле эстетических, эмоциональных и прочих переживаний, ни в смысле исключенности из какой-то традиции.
С.Г. Скажите, а у вас нет такого соблазна, такой иллюзии передового метода, высокомерия по отношению к исповедальному традиционному поэту? Ведь он далеко не невольник жанра. Он сам выбрал себе жанр, видит всю его ограниченность, все, что в этом жанре понарошку. Блок, если не ошибаюсь, писал пародии на себя. И тем не менее исповедальный поэт считает возможным сказать о мире, глядя в бойницу какого-то стиля.
Д.П. Мне кажется, это примерно все то же самое, потому что Блок какое-то время, когда он начинал, был в оппозиции к доминирующему стилю. В это время он чувствовал себя в той же мере новатором, как и любой новатор. Я-то тем более. Стратегия авангардного искусства, его поведение – это разыгрывание основной драматургии: искусство – неискусство. То есть каждый раз художник испытывает искусство на прочность. Каждый раз он отодвигает искусство в ту зону, где это не считалось искусством. Каждый раз ему люди кричат, что это не искусство. Но каждый раз потом они убеждаются, что это искусство. То есть культура так и живет в наше время, она распространяет свои территории все дальше и дальше. Поэтому каждый человек, работающий в пределах авангардного искусства, принимает эту стратегию поведения. В этом отношении, конечно, он всегда чувствует себя новатором, но не в смысле отрицающим предыдущее, а в смысле, что он принимает на себя миссию вот этого рода людей. Чтобы каждый раз быть адекватным своей роли, он вынужден какие-то новые приемы отыскивать. Но принцип его работы в культуре очень традиционный, как ни странно. Он отыскивает новые территории, но поступки его очень традиционны для поведения авангардного художника, как эта традиция установилась.
С.Г. Если я правильно понял, предмет вашего наблюдения – обычаи культуры, правила культуры, то, что отложилось, соль и известь культуры. Вы так, например, можете описать игру в шахматы: есть доска с нанесенными на нее 64 клетками, на клетки ставятся игрушки и по известным правилам передвигаются. Но ведь при таком описании вы рискуете упустить весь тот пафос, который стоит за этой игрой. Ведь эти правила – только предлог для игры ума. Ваше внимание привлечет, скорее, классицизм с его жесткой эстетикой, а не нарушитель правил Шекспир.
Д.П. В этом отношении вы правы. Конечно, я не работаю вообще ни с Шекспиром, ни с кем в отдельности. Я работаю созерцательно, вижу некие кристаллические образы и радуюсь им. Я вычленяю логос этого поведения, и вот эта работа созерцания, моделирования равна моделированию отдельного стихотворения. И если человек может по моим ступеням, даваемым ему в этих стихотворениях, взойти на высоту созерцания этого мифа, для меня это такая же зона восторга и красоты. Я работаю с неким усредненным образом, который существует в культуре, который утвержден не личной волей, а именно общей большой культурой. Я работаю с поп-образами, с поп-имиджами, с поп-представлениями о культуре. Такое искусство, конечно, возможно при большой надышанности культуры, и, естественно, оно отражает определенный возраст культуры, когда создание, все большее нарабатывание каких-то стилей и направлений уже теряет смысл, потому что огромное количество их накоплено и каждое следующее просто воспроизводит этот способ творчества, когда драматургия рождения личного языка уже исчерпана.
С.Г. Я очень прошу не обидеться на мое сравнение, но сейчас мне пришло в голову, что ваше бытование в культуре сопоставимо с существованием стервятника в природе. Что чем больше в ней мертвечины, тем обильнее ваш пир. Мне очень нравились те ваши стихи, которые посвящены были советскому обряду, потому что он весь был мертв и там было где разгуляться. И недоумение у меня вызывает, когда вы обращаетесь к «Августу» Пастернака или к «Сну» Лермонтова. Дело не в том, что я экзальтированная барышня и хлопнусь в обморок от кощунства. Просто мне не кажется это обращение плодотворным. В случае творений, мягко говоря, талантливых форм мало что объясняет. Что значит сказать про стихи Пастернака, что это типичная исповедальная лирика 50-х годов ХХ столетия и т.д.? Они ведь замечательны не благодаря всем этим параметрам. Ваш метод не берет в расчет остаток. Но остаток драгоценный – остаток гения.