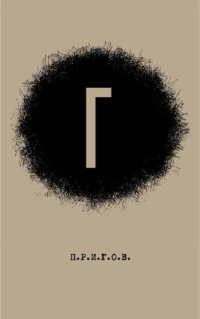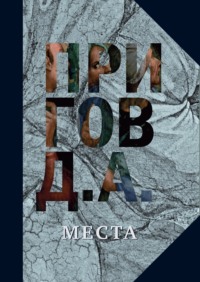Мысли
Д.П. Насчет стервятника – как вам сказать? Для меня это нисколько не оскорбительно, но дело в том, что это смотрится как бы в качестве некоего нравственного метафорического укора с точки зрения мышей и крыс. Стервятник существует своей жизнью на том уровне, для которого вообще не существует этих различений. Метафора вообще покрывает весьма узкий феномен описываемой действительности. Поэтому каждой метафоре можно противопоставить другую метафору. Я не вижу никаких принципиальных противоречий между своей деятельностью и вообще культурной деятельностью. Мне представляется, что наша культура поработала над конкретным стихосложением и поэтическими традициями и очень жестко сфокусировала читательское зрение на определенном поле, в котором в луче прожектора должен появиться герой. На самом деле мир полон героев, и можно сфокусироваться на другом пространстве.
С.Г. И все-таки вам для того, чтобы приступить к творчеству, надо, чтобы жизнь остановилась. Если вспомнить слова, что все жанры хороши, кроме скучных, то вот ровно скучные жанры, остановившиеся жанры – предмет вашего исследования.
Д.П. Понимаете, определение «скучные» – это справедливо в пределах определенной эстетики и направления. Для меня это не скучно. Для меня это, наоборот, полно измерений глубинных, вертикальных, каких угодно. Поэтому для меня может быть скучно то, что для вас весело.
С.Г. Хорошо, сменю тему. Мы как-то шли с вами районом новостроек, и я что-то заметил по поводу архитектурного убожества, а вы возразили, что средневековый город, скорее всего, тоже не отличался благообразием. А еще был такой случай. В одном собрании заговорили о рассказе молодой писательницы, напечатанном с напутственным словом Виктора Ерофеева. Рассказ был чрезвычайно натуралистичен и довольно отвратителен. Кто-то сказал, что Виктор Ерофеев может сочинять все, что ему угодно, но зачем он всякое безобразие напутствует и поощряет, и что это растление читателей и самих писателей. Вы приняли это близко к сердцу и спросили: «А розами растлевать, по-вашему, можно?» Я хочу спросить: вам действительно кажется, что советские новостройки и средневековый город, что розы и то, что имела в виду эта писательница, – вещи одного порядка? Именно такие ваши высказывания дают мне основания упрекать вас в релятивизме.
Д.П. Все зависит от того, с какой точки оценивать. В обоих приведенных случаях была как бы явно доминирующая некая нравственная оценка событий. Я возмутился не конкретно данным случаем, а попыткой доминирования нравственных узаконенных ценностей над возможностью свободной эстетической позиции. У математика Кантора есть такая теория: существуют бесконечности, но они разнятся по мощности, бесконечность нельзя сравнивать с бесконечностью. Если бы каждый оценивал какие-то явления, оговаривая мощности, оговаривая огромный пучок измерений, векторов, я бы мог со многим согласиться, но в каждом случае я противлюсь не конкретному примеру, а способу оформления, менталитету.
С.Г. А вы убеждены в том, что искусство не смыкается с реальной жизнью? Это продолжение вопроса о розах…
Д.П. Я думаю, что оно смыкается, но оно не есть прямое продолжение жизни, это все-таки достаточно разные сферы, нужен ключ перевода искусства в действительность. Есть иллюзия, что искусство – прямое продолжение яви, если не жизнеописательной ее части, то, во всяком случае, наших этических переживаний, наших политических и прочих устоев. Поскольку и то, и другое формулируется вербально, то очень легко перескочить от термина, употребляемого в пределах политологии, к этому же слову, но уже в пределах поэзии, где оно имеет другое значение и жизненное пространство. Я это очень живо чувствую, я не есть полностью в искусстве, я не есть полностью в жизни, я есть эта самая граница, этот квант перевода из одной действительности в другую.
С.Г. Раз вы сами признаете опасность смешения смысла и яви, чему виной, скажем так, простодушие людское, риск такого смешения художнику можно и учитывать, нравится ему это или нет. Тем более что мы живем в России, по которой вымысел прошелся, как паровой каток. Наверное, невежественно обвинять Маркса в случившемся в России или Ницше – в случившемся в Германии. И тем не менее какая-то доля участия их есть. Я клоню к ответственности художника.
Д.П. Вы понимаете, конечно, есть ответственность художника, но вообще-то ответственностей масса, и противоположная ответственность не менее серьезная, чем та, о которой вы сказали. Ответственность погубления искусства ради жизни такая же ответственность, как и наоборот.
С.Г. Давайте обратимся к практике. Вы, на мой взгляд, поучаствовали своим искусством в формировании духовного облика советского интеллигента. Ведь советский средний интеллигент был зрелищем достаточно ущербным, достаточно жалким. На него кричали в ЖЭКе, он слышал агрессивную абракадабру по радио и телевидению, а между тем интеллигентское подростковое чтение – это «Три мушкетера», Стивенсон, Купер, где все герои энергичные, готовые к решительному поступку, каждый – личность. Несоответствие воспитания и взрослого ежедневного поведения было у советского интеллигента огромное. Про себя-то он знал, как должен поступать мужчина, но в этом ему жизнь отказывала. Он не имел ни мужества, ни возможности претворить воспитание в жизнь. И вот тут вы со своей стилистической терпимостью дали возможность встать на ноги и выпрямиться, ровным счетом ничего для выпрямления самому не сделав. Вы ему как бы сказали: «Ты же высоколобый, ты посмейся, а не переживай. Телевизор – это один стиль, казенный, державный, а ЖЭК – это другой стиль, казенный, приблатненный, а Дюма – это третий стиль, романтический. Не из-за чего расстраиваться, это только занятная игра стилей». Вы некоторым образом санкционировали интеллигентское прозябание.
Д.П. Поскольку, помимо авангарда, я все-таки в традиции русской литературы, проблема конкретного моего нравственного участия в жизни посредством письма передо мной стояла, и я для себя ее давно сформулировал, и не совсем тем способом, каким вы ее подали. Я так понимал, что вообще у искусства основная задача, его назначение в этом мире – явить некую со всеми опасностями свободу, абсолютную свободу. На примере искусства человек видит, что есть абсолютная свобода, не обязательно могущая быть реализованной в жизни полностью. Я взял советский язык как наиболее тогда функционирующий, наиболее явный и доступный, который был представителем идеологии и выдавал себя за абсолютную истину, спущенную с небес. Человек был задавлен этим языком не снаружи, а внутри себя. Любая идеология, претендующая на тебя целиком, любой язык имеют тоталитарные амбиции захватить весь мир, покрыть его своими терминами и показать, что он – абсолютная истина. Я хотел показать, что есть свобода. Язык – только язык, а не абсолютная истина, и, поняв это, мы получим свободу.
Облачко рая43
Беседу ведет И. Манцов
1997
– Дмитрий Александрович, вы работаете одновременно с изображением и словом, каково их соотношение в современной культуре?
– Проблема взаимодействия слова с изображением актуализировалась в пределах изобразительного искусства в начале 60-х годов. Впервые она возникла в поп-арте, который вместо природы взялся изображать городскую жизнь со всем ее специфическим бытом. Оказалось, что весь быт заселен текстами: движущимися, статичными, на стеклах, на машинах и рекламных щитах. Оказалось, что мы живем в мире слов не меньше, чем в мире природы, в мире материальном. Мир заселен странными фантомами, которые производят гораздо большее эмоциональное впечатление, нежели люди и предметы.
В поп-арте они появились как элементы новой культуры: кока-кола и тому подобное. Концептуализм же актуализировал взаимоотношения между предметом и словом, именем. Обнаружилось, что слово весьма условно привязано к предмету и его значение может, что называется, «плавать», заменяться другим словом. Один предмет может быть именем другого предмета и т.д. Дело дошло до того, что стало возможным выставлять тексты вместо картин, в виде картин. Оказалось, что визуальный язык и язык вербальный – взаимопереводимы и взаимозаменимы. Вместо картин стали выставляться слова, надписи, фразы, выражения. Скажем, Кошут выставлял цитаты из Ницше, написанные на стекле.
Внешне казалось, что произошла подмена и выравнивание визуального и вербального языков, всего-навсего изменилась фактура текста. Но за этим лежала гораздо более серьезная практика, осмысленная позже. Выяснилось, что ключевой проблемой является проблема авторства. Автор как переводчик с одного текста на другой – вот самое интересное в новой культурной ситуации.
Оказалось, что ТЕКСТ – случайная, частная вещь в деятельности АВТОРА. Автор перестал быть видимым. Он стал неразличим – и визуально, и вербально, и поведенчески. Изображение, перформанс ли – это частные случаи общего существования авторства. Кардинальный отрыв автора от текста привел к тому, что автор перестал появляться в тексте, вычитываться из него. Выяснилось, что текст некоторым образом «мешает». Это был существенный перелом. Появился новый образ автора, новый способ взаимодействия с культурной средой. Все это было закамуфлировано посредством каких-то текстовых внедрений в изобразительное искусство.
Подобного уровня отделения автора от текста, абсорбции авторского поведения не произошло ни в кинематографе, ни в литературе. В кино до сих пор автор умирает в тексте, притом, что текст может быть сколь угодно сложным, компилятивным, полистилистическим. Однако, если автор появляется перед экраном, ему говорят: уйди, ты мешаешь смотреть фильм.
В современном изобразительном искусстве, если его можно так назвать, потребитель не станет смотреть картину, пока не поймет, а что за авторское поведение ему предлагают. Если картина является частью большого авторского перформанса, тогда она всего лишь элемент, и потребитель смотрит на автора. Если картина – некий презентируемый автором вымышленный герой, тогда автор тоже стоит рядом. Либо автор полностью «слипается» с текстом, тогда это – частный вариант авторского поведения. В любом случае, авторская фигура, в отличие от текста, очень важна.
Если все же отвлечься от этой основополагающей категории – авторского поведения – и спуститься на уровень текста… Думаю, для кинематографа чрезвычайно важна ситуация заселенности жизненного пространства текстами.
Имею в виду естественное вхождение слов, текстов в «картинку» фильма в качестве среды обитания. Если, скажем, для романтического кинематографа средой обитания, необходимым элементом будут пейзажи и закаты, условно говоря, то любое повествование, посвященное нашему времени или футурологическим утопиям, связано с огромным количеством текста. Эти тексты не являются авторскими. Они являются частью пластики пространства, в котором существует герой, и несут фактурную – не смысловую – нагрузку. Могут маркировать место или психологическую атмосферу. Главное – в них нет специальной идеологической нагрузки.
Мне нравится, когда тексты внедряются в изображение. (Оживляется.) Ужасно люблю смотреть титрованные кинокартины. Титры там существуют своей, отдельной жизнью.
– Вы имеете в виду немые фильмы?
– Нет, необязательно. Например, переводные титры очень интересны. Они дают вербальную версию фонограммы. На экране – странное существование выпавших в осадок слов. Они специфически живут, не соприкасаясь ни с глубиной экранного изображения, ни с его движением. Живут поперек всего действия. Автор картины на них не ориентируется. Титры существуют на экране как бы вопреки фильму. Говорят, что они мешают изображению. Пускай, я люблю буквы, предложения, бегущие по изображению. У Августа Бёме есть такой образ: ангел, летящий в аду, пребывает в своем облачке рая. Так и титры: слова, летящие в своем облачке рая в аду изображения.
Еще титры напоминают лозунги, которые висели посреди советской жизни. Как было: идешь среди серых домов, вдруг – лозунг «Вперед к победе коммунизма!». Он – какой-то ангел! Его суггестивное воздействие столь сильно, что он производит гораздо большее эмоциональное впечатление, чем это огромное пространство вокруг, застроенное камнем и бетоном. Причем это повелительное наклонение, текст вмешивается в жизнь, требует, указует.
Хорошо, когда экранное изображение покрывают компьютерные тексты. Тексты, взятые не в их собственном значении, в отрыве от семантики, когда важна пластика текста, его материальность, форма. Пластика текста – виртуальная пластика. Взаимодействие виртуальной пластики экранного текста и как бы реальной пластики киноизображения мне наиболее интересно. Будто бы текст нанесен на некое переднее стекло, и ты понимаешь, что вот эта материальность текста ближе и реальнее, чем углубленное пространство «за стеклом», где разыгрывается действие. Ты понимаешь, что пространство, где действуют персонажи, конечно же, – выдуманное. А титры, текст, ими образованный, – абсолютно материален и реален, он ничего не имитирует. А в глубине – имитационное, нереальное пространство.
К сожалению, пока кинематограф не задействовал текст. Разве что – немое кино. Но там текст слишком метафоричен, он принимает на себя функцию отсутствующей фонограммы. А полностью отпустить текст на свободу в кино никто не решался. Оговорюсь, впрочем, что я недостаточно знаком с историей кино.
Мне кажется, отделение автора от текста в кино возможно именно на этом пути, через пересмотр существующих взаимоотношений между словом, письменным текстом и изображением. Пока же автор полностью пропадает в тексте, кинематографическом тексте. Мне лично драма отношений слова и собственно кино не менее интересна, чем драматургия, сюжет, взаимодействие персонажей.
– Вот – цитата из книги Ямпольского «Видимый мир», он, в свою очередь, цитирует немецкого теоретика кино 20-х годов Леонарда: «Фильм – это последовательность изображений. Его действие изначально придумано в картинах. Он движется не поступками и не судьбами, но – изображениями… Его динамика пассивна, это динамика анонимной силы…» Далее Ямпольский комментирует: «В театре или романе герой обладает весом своего физического присутствия… В кино же появление и исчезновение героев целиком зависит от прихоти монтажа, от движения склеек и монтажных швов… Кино создает странное ощущение, что в нем первичны не судьбы и не психология человека, но – загадочный порядок движения картин. Своеобразный характер причинно-следственных связей, управляющих движением фильма, резко влияет на статус психологии в кино. Внутренняя психология отходит на второй план, вперед выдвигается некая особая внешняя психология, приобретающая свойства телесности и тем самым приближающаяся к примитивным формам сознания…»
Как вы считаете, насколько самодостаточен в кино «загадочный порядок движения картин»? И потом, «динамика анонимной силы» имеет в кино определенный характер, а вы предлагаете «отделить автора от текста», то есть – посягнуть на анонимную природу кино…
– Конечно, уровень анализа, предложенный Ямпольским, существует. Но я думаю, этот уровень – рафинированный, а не реальный. Вообще говоря, культура определяется своего рода конвенцией. Восприятие вне конвенции дается с большим трудом. Для того чтобы воспринимать фильм как смену картин, требуется профессиональная изощренность. В конце концов, разговор о телесности – тоже конвенция. И когда я говорю об «отделении автора» и тому подобных вещах, я не призываю к деконструкции кино, я говорю: есть еще один тип конвенции, который может быть очень интересен, может помочь открыть в кино нечто новое.
Конечно, профессионал понимает конвенцию массового, наивного зрителя, а зритель этот считает, что его непосредственное отношение к фильму – единственно возможное.
– Недавно заметили Павлу Лунгину, у которого вы, кстати, отметились в фильме «Такси-блюз»: дескать, он – сценарист по первой профессии в кино, а значит, делает все максимально точно – выстраивает сюжет, расставляет манки для зрителя и т.д. На что Лунгин горячо возразил: все не так, я придумываю неправильно, неточно, а фильмы держатся на чистой энергетике. Отсюда – прихотливые, истеричные ритмы и т.д. Как вы можете прокомментировать эти слова? Ведь получается следующее: человек говорит, что он не следует конвенции, но – работает на голом огне, на чистой энергетике; знает законы сюжетосложения, но не выполняет их, чтобы не мешали дышать…
– Конвенция – это культура, которая стоит у тебя за спиной и смотрит твоими глазами. Она зачастую не осознается. Конвенции подвержены даже вовсе ничего не соображающие люди. Лунгин в данном случае говорит о неких профессиональных конструктивных ходах, приемах. Конвенция – более широкое понятие, из него нельзя выйти. Интуиция всякого режиссера, в том числе Лунгина, не имеет другого пространства, кроме конвенции. Человек не может выпрыгнуть за пределы текста, который создает. Это – большая культурная работа не одного человека, а целого поколения или направления.
Кстати, кинематограф даже и не пытается работать с этим, двигаться за пределы текста, расшатывать конвенцию. Лунгин, например, подходит к материалу не рационально, не режет его ножичком на тарелке, а хватает руками. Но конвенциональный набор у него, думаю, традиционный.
– А если он или кто-то другой нарушает законы «правильного голливудского сценария»?
– Всякая культурная стратегия, сознательная или нет, имеет свой горизонт. Обычно за его пределы не ступают. Думаю, что «сознательно» работающий с материалом Дыховичный и «бессознательно» работающий Лунгин действуют в пределах одного горизонта. Их деятельность определяется тем кинематографом, который сформировался в данном регионе, со всем набором «классических», канонических картин и т.д. Не думаю, что интуиция дает возможность вырваться за горизонт. Точнее, этот прорыв должен быть осмыслен и подтвержден опытом других. В противном случае эти «прорывы за горизонт» не становятся показательными. Тогда они – просто случай. Их объясняют с точки зрения этой самой стратегии, а случай становится жертвой тех представлений, которые существуют в пределах видимости, а не «за горизонтом».
Для прорыва нужна большая культурная работа. Культура чувствует кризис и движется в новом направлении, рвется за горизонт – вот исходный посыл. В творчестве одного художника, да еще не направленного на такого рода поиски, это всегда случайность, странность, нонсенс. Так все и воспримут: коллеги, зрители.
– Вы употребили слово «реальность». Это тоже конвенциональное понятие?
– Есть несколько уровней конвенции. Реальность, данная нам, которую Гуссерль называл: «реальность в горизонте сознательного взрослого населения». То есть исключаются дети, сумасшедшие и т.п. Имеется в виду окружающее человека нечто, что опытом культуры, науки, человеческой деятельности постигается нами как некая данность. Это тоже конвенция, но это – конвенция первого уровня. Потом следует надстройка: рефлексия по поводу этой первичной конвенции, первичной «реальности». Рефлексия, которая делает «раскрой» этой реальности. Разные виды деятельности по-разному «раскрывают» первичную реальность. Химия берет тот же самый конгломерат, но на уровне молекул, физика – на уровне атомов, антропология – на уровне человека. А социология того же человека берет поперек качеств его поведения… Понятие «реальности», таким образом, расширяется. Хотя большие, идеологические скачки в осмыслении действительности происходят не так часто.
– Принято считать, что кино смотрит на жизнь, что называется, «в упор»…
– А что значит «в упор»? Оно не может смотреть «в упор».
– Имеют в виду, что кино работает с реальными людьми, реальной речевой средой и т.д.
– Хорошо, уберем монтаж, режиссера и оператора, производящих акт определенного выбора: предпочитают конкретную картинку, которая является составной частью огромной действительности. У них нет «бокового зрения». «Боковое зрение» они добавляют свое, в виде монтажа. Далее – время. Они приезжают в какой-то момент и изымают его произвольно из действительности, перенося на пленку, в фильм. Далее – люди. У людей нет «нормального» поведения, но есть – социально-имиджевое. Берут человека, что снимают в нем? То, что он сам предлагает перед камерой в данный момент. Уже акт вмешательства в континуальность нарушает целостность «реальности».
Во время просмотра – еще большая условность. Мы воспринимаем совершенно неведомую картину, выстраивая сложную систему транспонирования фильма в действительность. Конечно, искусство не отражает реальность. Культура имеет некоторые переходные модули, и мы проецируем искусство на тот или иной тип контекста. Если искусство долго функционирует в обществе, эти механизмы проекции хорошо разработаны, встроены в нас, и мы их уже не замечаем.
Когда приходит «другое» искусство, начинаются сложности. Мы говорим, что оно неправильно, так как не понимаем модулей перехода этого искусства в реальность. Потом модули таки находятся, искусство становится понятным.
Вообще, нет «чистой картинки». Вот пришел ко мне человек, показывает стихотворение. Я реагирую: это интересное стихотворение неизвестного мне акмеиста. Человек возражает: это не акмеист, это – мой знакомый. Тогда неинтересно – отвечаю я. Нет, он СПЕЦИАЛЬНО так пишет – возражает гость. Тогда интересно! – соглашаюсь я. То есть у нас нет восприятия чистого текста. Встроен механизм моментальной его квалификации: социальной, исторической, национальной и т.д. Если вынести за скобки всю огромную «нечистоту» культурной деятельности, получим «чистый текст». Но это невозможно.
Племена в Африке не видят черно-белые фотографии, для них это – мелькание пятен. А для нас это очевидное восприятие, конвенция, вошедшая в генофонд. Или – привезли в Японию выставку европейского искусства. Все очень хорошо, говорят японцы, но почему одна сторона замазана черной краской? У японцев не было школы светотени, у них линейное рисование, они не воспринимают картины адекватно. Мы видим тень на человеке через оптику искусства. Иконопись, скажем, видела на лицах совсем другие тени. Не видение формирует текст, а, наоборот, искусство заставляет все это видеть в жизни.
До романтизма не было понятия – «любоваться пейзажем». Все стали находить вокруг картинные красоты, наученные романтиками.
«Классика» или «стиль конструктивизм» – это наши рациональные построения. В реальности такого нет. То есть противопоставление более и менее «реальных» искусств – бессмысленно. Один уровень конвенции, более привычный, мы принимаем как реальный, а менее адаптированный – считаем условным.
– Возвращаясь к цитате из книги Ямпольского: вам не кажется, что в кино и литературе разнятся механизмы сюжетопорождения?
– Существует понятие «пропозиции», излюбленное, скажем, Витгенштейном. Это – некое пред-положение предметов в мире. То есть прежде чем возникнуть сюжету, есть некое расположение всего. Все существует в некоем пред-конкретном языковом состоянии, а потом, в зависимости от профессионализма или рода деятельности, оно оформляется вербально и разрабатывается, в кино – визуально.
В любом случае все описывается словами. Даже когда вы говорите про тела, телесность, вы вынуждены описать это словами. Думаю, первичный творческий акт все равно квазивербальный. Когда режиссер видит какие-то образы, все они для него – полуслова, полуобразы, полуобъекты, как и для писателя. Знаете, раньше рождался ребенок, его записывали в полк. Он дома сидит, а у него – чины растут. Вступает в полк, становится гусаром, уланом… А сидит дома – он вроде непонятно кто, но, с другой стороны, ясно – гусар, улан и т.д. Так и здесь – сюжет уже предрешен на некоем вербальном уровне.
В литературе доминирует ритмическая драматургия. В искусстве пространственном – это ритмическое изображение фигур в пространстве. В искусстве временном – ритмическое расположение фигур во времени. Скажем, в живописи и скульптуре разная ритмика. То есть и здесь, вроде бы на одной территории, – разные законы.
– Годар говорил когда-то: подобно тому, как психоанализ находится в поиске запрещенного образа, так же кино ищет запрещенное изображение. Скажем, голливудский, «хорошо сделанный» сценарий дает зрителю на выходе то, что зритель желает. То есть – здесь как раз «разрешенный» образ…
– Делая «неконвенциональное», Годар или Сорокин обнажают структуру конвенции. Именно в этом одна из задач искусства – обнажать и критиковать конвенцию. Допустим, через сорок лет посреди сеанса на экране возникнет разорванная пленка, на двадцать минут. Потом сеанс продолжится. И это может стать новой конвенцией.
Сорокин нарушает не нравственно-этические конвенции, а конвенции письма. Была такая конвенция: если письмо ведет, оно должно быть однообразно. Может совершаться все, что угодно, но стилистика должна быть цельной, единой. А Сорокин пишет сначала по соцреалистической конвенции, а потом начинается какая-то другая конвенция. Похожая ситуация в картине «От заката до рассвета». Однако, Сорокин работает в рамках развитой культуры авторского жестового поведения, он меняет коды жестче, быстрее, легче. Плюс ко всему – визуальная природа кино не допускает резкой перемены стилистики.