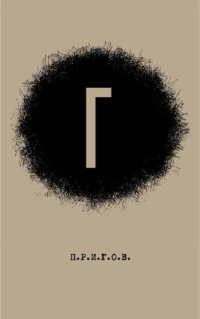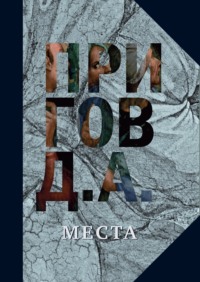Мысли
– Кино – дорогое удовольствие. «Неконвенциональный товар» плохо продается.
– В этом вся проблема. Почему изобразительное искусство опередило литературу и кино? Потому что оно производит единичные продукты, которые могут быть проданы за большую цену двум-трем потребителям. Оно не рассчитывает на миллионы. Рассчитывать на радикальность вкуса миллионов не приходится. А расчет на радикальные вкусы нескольких человек себя оправдывает. Конечно, кино не вырвется из разряда «массискусства», да и не надо, наверное.
А статус режиссеров-экспериментаторов никогда не поднимется до уровня радикальных художников, которые широко известны и почитаемы. Так же и в литературе: все люди, исповедующие радикальный подход, малоизвестны. Их нельзя сравнить со Стивеном Кингом. Зато Раушенберг – может сравниться со Стивеном Кингом по известности. Однако, сравните: что делают Стивен Кинг и Раушенберг, это, мягко говоря, разные вещи.
Есть еще академический литературный истеблишмент, это Нобелевские лауреаты. Но как можно сравнить, скажем, Бродского с Раушенбергом или с Сорокиным? Никак нельзя. Это беда и литературы, и кино, что они вписались в рынок только массовым производством.
Между прочим, художники, которые имели радикальные проекты в пределах изобразительного искусства, реализовались, скажем, в сфере видеоарта, где «разрешены» самые радикальные проекты. Поскольку они идут по разряду изобразительного искусства и покупаются как единичные объекты, то художники видеоарта престижны и успешны в коммерческом отношении. Здесь работают с изображением на том уровне, на каком кинематограф просто не может позволить себе работать.
– Категория смысла в изобразительном искусстве, кино, литературе…
– Смыслы считываются различными способами. Проблема смысла в произведении всегда смыкается с вопросом «что есть художник?». В какой предельной точке есть художник и его жест? Сегодня в изобразительном искусстве смысл связан с поведением автора. Смысл положен не в отдельной картине, он определяется поведением художника как некой креативной личности. Текст закрепляет это поведение.
Предыдущие эпохи являли смысл полностью в виде текста. В литературе, изобразительном искусстве и в кино. В кино, я думаю, смысл вычитывается из некой основополагающей конструкции, которая есть – отражение идеологии или жизнепонимания. А все остальное – случайное наполнение. Конструкция, которая задается режиссером или задается режиссеру. Это тот архетип его деятельности, вычитываемый из всех его фильмов, который можно полагать неким проектом длиной в жизнь.
А далее – возникают подсмыслы. Скажем, можно редуцировать этот смысл в качестве социокультурного поведения человека: как человек ведет себя в обществе, какие переживает трагедии и т.п. Это и есть уровень сюжетосложения. С помощью героев режиссер проигрывает эту основную драму, разыгрывает в лицах в сюжете. Как этот мир предстает режиссеру – демонстрирует «картинка». Разорванный ли, гармоничный ли; полный тайн или – наоборот – эксплицированный мир. Мир глубоких тайн или же все его загадки лежат на поверхности…
Я думаю, в кино, в конечном счете, смысл считывается с суммы всех фильмов, сделанных режиссером. Появляется в итоге некий сюжетный архетип, от которого режиссеру не уйти. Даже когда он принципиально меняется, ломается, этот слом становится смыслообразующим. Вот где положен основной смысл.
А что касается конкретного фильма, я думаю, смысл там, где его полагает режиссер. Если режиссер озабочен сюжетом, то в сюжете и есть основной смысл. Если он свои амбиции, свою страсть полагает на уровне картинки – смысл там.
У Михалкова смысл – в разработанной классической драматургии: кто кого убил, кто кого предал, кто подлец, а кто – хороший. А Ренуар, напротив, строит фильм так, что совершенно непонятно без картинки, что происходит, что важно. Он полагает важным планы, некое мерцание. У него основное содержание – в этом. Оно поддерживается драматургией, которая здесь менее важна.
– Годар возмущался: раньше актеры прыгали, бегали, лупили друг друга, падали в бассейн и т.д. То есть – реально работали на съемочной площадке. Чем дальше – тем меньше реальной работы, больше симуляции. Годар обижался, утверждая, что это подрывает основы жизнеподобия. Подмена чувств и т.д. – еще одно неизбежное следствие симуляции.
– Я думаю, это преувеличение. Истинность телесного переживания ведет к тому, чтобы фиксировать натурщиков, реальную жизнь. Но поскольку кино – изначально иллюзия, думаю, подобные претензии чрезмерны. Другое дело, если Годар посмотрел и сказал: мне не нравится, значит, автор плохо создал иллюзию. Только и всего.
Сейчас кинематограф индустриализируется. Никогда ранее, скажем, продюсер не играл в кино такой важной роли. Звезды также имеют особый статус. Они не могут играть с максимальной интенсивностью, потому что задействованы в большом количестве фильмов. Откажись от съемок, от количества – потеряешь статус кинозвезды. Если актер будет сегодня бегать и плавать в кадре, что от него останется при свете софитов, под фотоаппаратами репортеров?
Я думаю, претензия Годара – претензия предыдущей эстетики, эстетики переживания. Грубо говоря, претензии системы Станиславского к системе Брехта.
– Некоторые режиссеры, скажем, Брессон, Сокуров максимально…
– …затемняют…
– …текст. Другие – напротив – все разжевывают. А каковы ваши личные пристрастия?
– Я люблю абсолютно ясные, прозрачные сюжеты, в кино и литературе. Темный текст сегодня – это атавизм, который выражает представление о демиургическом значении текста. Сегодняшний человек достигает странных состояний не посредством поглощения текстов, а при курении марихуаны, например. Текст в качестве наркотика сегодня не работает, не актуален.
Нынешний кинематограф, который не может отделить текст от автора, весь отваливается в массискусство, где надо действовать чисто и честно. Вот – «Терминатор», честный, чистый фильм, очень глубокий, с нормальными утопиями, высокими идеями, к тому же – хорошо поданными.
– А какой сюжет вы хотели бы увидеть в нынешнем российском кино?
– Ну, населил бы Дыховичный свою «Прорву» странными существами. Скажем, в облике генерала КГБ мог бы действовать какой-нибудь оборотень… Там не хватает чего-то фантастического!
В американские картины в жанре fantasy всегда внедрены Большие Утопии, а не только проблема насилия и убийства. Образование мира, борьба с иными цивилизациями и т.п. А истории с маньяками, похоже, уходят. «Вспомнить все», «Терминатор 2», «Водный мир», «День независимости» и т.д. – все эти фильмы живут той или иной Большой Идеей, ради которой все их странное действие и происходит.
Американцы, видимо, могут искренне переживать весь этот комплекс высоких идей, Больших идей. То есть – мало придумать, надо, чтобы зритель откликнулся, внутренне отозвался. То же касается и авторов.
– Уточним: только ли в том дело, что наши постановщики профессионально несостоятельны или – главное – в нынешней России нет культурных оснований для того, чтобы делать захватывающее зрителя кино?
– Конечно, нет культурных оснований. Большие идеи представляют сегодня старые режиссеры, получившие имя в советский период. К сожалению, они не в силах вписаться в новую действительность стилистически. Фильмы, о которых говорят, типа «Прорвы», «Серпа и молота» или «Особенностей национальной охоты» – все они либо холодные стилизации, либо иронические забавы, не больше того. Недостает одушевляющей идеи! В этом беда, а не вина режиссеров и сценаристов. Ужасы превращаются на экране в холодные упражнения, экзерсисы по поводу ужасов.
Думаю, здесь могут получиться небольшие, четко продуманные фильмы на основе идей, которые внятны авторам и их потенциальным зрителям. Скажем, идея профессиональной идентификации, которой здесь никогда не было, а было, например: «отдать жизнь за Родину!» Мог бы случиться фильм типа «Инженера Гарина»: человек убивает всех ради своей профессиональной идеи…
Или – идея регионализма. Она может быть проиграна на уровне борьбы, скажем, региональной и столичной мафий. История может быть сколько угодно «жестокой», но главное – должна быть проникнута реальным пафосом регионализма. В ocнове фильма должна быть именно живая идея. Она может быть «маленькой», но непременно – живой. Скажем, идея спасения: кого-то рядом или себя самого.
Когда-то Ролану Быкову удалось вложить в картину «Чучело» неложный пафос личного достоинства. Сегодняшние фильмы лишены всякого пафоса.
Сегодня на человека в России претендуют все кому не лень: колдуны, гей-культура, националисты претендуют, либералы. Все на тебя претендуют! И все хотят навязать себя в качестве истины. То есть масса вполне реальных мини-дискурсов претендует на человека. На них можно строить сюжет, мне кажется. При советском строе было ясно, что все отношения людей в стране есть иерархическое соподчинение. Сейчас – иное. Основное отношение я обозначил бы как тотальную конвертируемость, всеобщую конвертируемость. Находить модули конвертируемости одного в другое, вот возможная задача для сценариста. Исследовать систему взаимоотношений было бы крайне увлекательно. Скажем, среди ученых твой статус известен, а кто ты среди бандитов? Какова твоя цена?
Но вообще, мне трудно сказать что-то более конкретное: я связан с кинематографом только как зритель и, так сказать, «мелкий актер». И хотел бы дальше участвовать в кино как актер «второго плана». Мне это нравится, но я не хотел бы быть актером главным – слишком большая ответственность. Ответственность перед собой. Кино для меня – «статусное» искусство, здесь не хочется халтурить. В маленькой роли я надеюсь на режиссера – он подскажет. А для главных ролей у меня нет внутренних критериев: плохо или хорошо получается?
– Вы снимались у Алексея Германа. Вам нравятся его картины, скажем, «Мой друг Иван Лапшин»?
– На мой взгляд, это один из самых лучших советских фильмов! Я понимаю так, что этот фильм больше, чем его может объяснить сам режиссер. Он объясняет его в каких-то социопсихологических терминах, а на самом деле картина замечательна тем, что она явила тип советского человека, советский менталитет. Люди сведены на уровень единиц социального быта, каких-то механических предметов. В фильме такое тесное пространство, что людям то и дело приходится перешагивать друг через друга, слова как бы и роли не играют. В кадре – переизбыток предметов. В ядре, например, все электроны на своих орбитах. Однако, при какой-то дикой энергии все электроны сваливаются на одну орбиту. Точно выстроенный мир рушится, оказываясь кашей электронов.
Так же и в «Лапшине». Мощная энергия. Советская власть свалила всех этих людей на один неразличаемый уровень, где они топчутся, перешагивают, как клопы какие-то. Вот эта визуально-двигательная метафора мне в картине важнее всего остального. Герман доводит этот мир до безумия, несмотря на то, что декларирует свою любовь к персонажам. Он хочет социально-психологической, бытовой достоверности, а на самом деле получается достоверность «набитого пространства». Шар от кровати там значит столько же, сколько человек. У Германа, мне кажется, визуально-динамические перемещения гораздо важнее всех разговоров, переживаний, так называемой драматургии. Сценарно-драматургические вещи закономерно отстают здесь от визуальной части.
– Герой в американском кино – это всегда целеустремленный, творящий свою судьбу индивид. Может быть, у нас не возник еще такой культурный тип, отсюда – отсутствие культурных оснований для полноценного сюжета?
– Согласен, и мне нравятся попытки нащупать такого героя. Скажем, телесериал «Русский транзит» любопытен с этой точки зрения. Там все против главного героя, кроме его учителя каратэ, сенсея. В результате два персонажа всех побеждают. Здесь частный человек борется не за идею, а за спасение себя. Но, в отличие от американских фильмов, не хватает скорости, ритма, интенсивность драк не та, все не то. Думаю, эта замедленность точно показывает механизм рождения персонального героя из российской каши. Медленность – здесь не что иное, как метафора медленного рождения нового социального типа.
Конечно, частным образом никто с мафией не борется, здесь вроде бы некоторая неувязка. И все же «Русский транзит» интересен своей попыткой отыскать нового героя, которого до сих пор не родило общество. Фантазмы российского населения, конечно, воспроизводят именно такого персонажа, потому что на власть надежды нет, на милицию – нет. Человека обидели, и тогда, засыпая, он представляет себя частным героем-мстителем. Раньше был другой ответ, другой фантазм: я объединю людей, пойду в милицию, побегу на пограничную заставу… Люди были включены в большую иерархическую систему, было ясно, к кому бежать. И если там, «на заставе» тоже плохой человек, враг, значит, хороший человек выше, над ним. Была такая цель: найти хорошего человека, хорошую организацию, которая тебе поможет.
Сейчас иное: вот бы я накачался, взял в руки оружие и перестрелял обидчиков. Это, кстати, путь либеральной модели общества, которое апеллирует к решительному поступку человека.
Беседа с Оксаной Натолокой
Начало 2000-х
– Иногда, взяв в руки поэтический сборник, не читаешь его от буквы до буквы, а сначала пролистываешь книгу, не вчитываясь. Тогда ощущаешь некую дополнительную эмоциональную окраску – то, что невозможно почувствовать, задерживаясь на каждой строчке. Когда я знакомилась с вашим творчеством, разговаривала о нем с литераторами, не будучи еще знакомой с вами лично, то в воображении начинал складываться образ некоего сильного человека. Самодисциплина, целеустремленность…
– Я думаю, что это просто тип интерпретации моего творческого поведения. На фоне традиционного типа поэта, типа, идущего от романтической традиции, – это гуляка, если не пьяница – то выпивоха, работа по вдохновению…
– Есенинщина, по выражению Тимура Кибирова?
– Что-то в этом роде. Поэт дома мог делать переводы, работать регулярно, но на люди являться поэтом именно в образе, которого от него ожидали, таком поп-образе. Некой романтической структуры человек – чуть-чуть нервный, экзальтированный, нерегулярный, так сказать, в своих привязанностях. Это та психофизическая структура, которая дает возможность проявиться лирическому, спонтанному, романтическому началу. Поэтому все, что является противоположно, представляется не просто как другой тип поэзии, а как некий такой жесткий человек, который не может вот себя перебороть, чтобы явиться нормальным романтическим поэтом. А я просто являю собой вообще другой тип именно не поэта и не художника, а деятеля культуры. А чем отмечен деятель культуры, как всякий деятель некой сферы, – промышленности, производства? Регулярностью своей деятельности, предсказуемостью поведения, надежностью, и прочими качествами, скажем, любого человека, задействованного в большие структуры.
– Значит, существовал «байронизм», «есенинщина», если можно так сказать… И уже, кажется, сформировался новый поведенческий тип поэта?
– Вы знаете, мне очень трудно сказать, насколько мой тип поведения внедрен и стал уже ожидаемым таким «поп-поведением».
– Мне кажется, что к поэзии «поп» нынче неприменимо…
– Все правильно, ведь мы находимся во времени, когда само занятие поэта и поэтическое поведение перестало быть центром внимания большого количества людей, оно перестало быть поп-поведением значительным. Это место занял, скажем, шоу-бизнес. Они стали поп-героями, а поэты – люди, во всем мире более ассоциирующиеся сейчас с академической сферой, университетской, сферой небольших каких-то обществ, издательств, у них совсем другое поведение, поскольку им не надо быть жестко замечаемыми. Скажем, вся литературная деятельность американская и западная, особенно поэтическая, связана именно с заниманием каких-то профессорских мест… Вообще поэт – это не социальная единица. Там на каких-то парти, приемах к тебе могут подойти и представиться: «Автор», то есть писатель. А поэт не представляется. Обычно говорят: «Профессор такого-то университета», и лишь потом выясняется, что это поэт. Либо издатель, либо редактор журнала, но не как у нас: «Я – Поэт». Это – не социальный статус. Во всем мире это произошло достаточно давно, и, я думаю, у нас так называемое поэтическое поведение уйдет в поведение просто немаркируемого занятия, которое никак не будет связано с каким-то романтическим образом поп-героя… Ну, а то, что говорят, что я, там, сильный, волевой человек, – это просто проецирование на сферу привычного романтического есенинского поведения моей регулярности, отсутствия аффектированности, и пр.
– Тем не менее, выступая год назад по телевидению, вы поглаживали по зеленому загривку большого, пушистого симпатичного крокодильчика.
– Но это же все поведение, специфическое поведение… Я могу специально вводить элементы «поп-поведения». Оно фиксировано в сфере шоу-бизнеса и немножко в сфере изобразительного искусства. Сейчас постэротическое время, постэротическая культура, когда эротика сублимирована и связана либо с жестким бодибилдингом, либо сублимацией на мягких игрушках. Это аутоэротизм, замыкание в себе, так что это у меня скорее ироническое рекламирование этого поведения. Скажем, Чиччолина ходит с мягкими игрушками… Это вполне знаково прочитываемо. Поэтому в этом нет специального вызова этому миру. Наоборот: я пытаюсь вобрать чужие поведения и раскрыть их не как искреннее, а как условное поведение. Я – деконструирую, раскрываю.
– Доводя при этом до абсурда?
– Если для этого нужен некий род абсурда. Абсурдизм не есть непременное качество моего поведения, моей эстетики. Если это мне нужно для раскрытия поведения или говорения не как истины, а просто языковой условности, я использую разные приемы.
– После вашего вечера в Крымском клубе я случайно услышала, как два весьма серьезных и очень молодых человека, стоящих у выхода, обменивались впечатлениями. Один сказал, что все это здорово, но постоянно производить подобные сборники – это, по меньшей мере, скучно. На что второй степенно заметил, что «скука, батенька мой, это составной элемент творчества Дмитрия Александровича».
– Вы понимаете, ведь скука, веселье,– это вещи достаточно условные. Скучно, может быть, несколько другое – некая рутинность, постоянность. Но ведь, в отличие от, скажем, поэтической деятельности, любая другая деятельность имеет большой слой рутинности. Балет, изобразительное искусство!! Я – скульптор? Месить глину, делать, каркас, таскать глину, делать прокладку?.. Живопись с подготовкой холста – каждодневная деятельность, она рутинна. Со стороны она кажется скучной, но когда в нее входишь, в ней открывается ритуальность, и тогда эта рутинность наполняется совсем другим значением, и даже более: без рутинности ты не можешь войти в самый смысл этой деятельности. Рутинность открывается как ритуальность и как осмысленность поведения.
– У вас выработана творческая стратегия: вы собираетесь написать более двадцати тысяч стихотворений…
– Двадцать четыре тысячи.
– Кстати, никто не мог назвать точную цифру. Говорили, что «очень, ну, о-очень много». Вы уверены, что не будете для себя неожиданны в своем творчестве? Вы прошли начальный этап, видите конечный этап, все запрограммировано, ритуал будет продолжаться вот в таком неизменном виде, может быть, обрастая какими-то незначительными деталями, до того самого победного… Или это все же декларация?
– Нет, это действительно переходит в разряд некоего ритуального поведения, которое имеет начало, середину, и конец. Это было бы нудным воспроизведением чего-то, если бы не было осмысленным проектом. Единица деятельности – проект, а не стихотворение, а стихотворение для меня – как буква. Поэтому, естественно, я пишу буквы, чтобы написать целиком стихотворение в качестве этого проекта. Дело в том, что нынешнее мышление, если его брать целиком как некую ментальность, оперирует технологиями «ноу-хау». «Ноу-хау» не имеет в виду конкретную машину, которая произведется, оно имеет в виду некую общую непогрешимую систему производства этих машин. Эта машина, другая… Важно, что они подтверждают истинность этого «ноу-хау». И совсем меняется понятие качества и ценности. Если раньше вещь, делаемая руками, имела некую рукодельную ценность, то, скажем, «ноу-хау» или технология, оперирует понятием порога, ниже которого изделие не должно опускаться. Но изделие не единица измерения, единица измерения – технологический цикл. Потом технология как бы изнашивается, начинается разработка новой технологии, и для того, кто работает в сфере технологии, вся страсть и его единица измерения – это технология. Поэтому нельзя говорить, что когда человек делал руками какую-то там карету, – он творил, а тот, кто разработал технологию, – нет: покажите, где его детище? Как одна из метафор: я разрабатываю некую «ноу-хауную» технологию, где стихотворение есть единица производства выхода технологии, которая подтверждает истинность этой технологии. Может быть, несколько технократическая модель описания моей деятельности покажется некоторым унизительной, но ведь давнишнее уподобление деятельности поэта «гранению алмаза» тоже только кажется романтическим. Если приглядеться, то гранение алмаза или там просеивание радия, собирание золотых крупиц, – примерно то же самое технологическое описание поэтического труда, просто оно соответствовало типу поведения и типу социализации своего времени. Алмазы гранились вручную, каждое стихотворение отделывалось годами, можно было в год два стихотворения написать… Действительно, были критерии качества единичной вещи, действительно верилось, что человечество так по прямой будет развиваться от одной руками сделанной вещи к другой, и что качество будет восприниматься примерно так же, по-ремесленному. Но в наше время, вы понимаете, все качественно сделанные вещи – замечательны, но они предмет не жизни, а предмет музейного потребления. Поэтому сейчас есть художественный промысел, он воспроизводит тип ручного качества, но люди, им занимающиеся, как бы в культурной резервации живут. Все, что является живой жизнью и пытается как бы прогнозировать будущее, конечно, не связано с художественным промыслом, оно связано с современными стратегиями.
– Но вы ведь начинали как традиционный поэт… Когда-то мне случайно впервые попалась ваша подборка, и, подобно тому, как в юности меня поразили «…И снова восемь ног сверкают в его блестящем животе» Заболоцкого, так ваши «Две мужские кошки» тронули и запомнились помимо воли. Мне кажется, это – самая традиционная лирика. И не та глобальная единица, а единица – первокирпичик…
– В этом нет абсолютно никакого противоречия. Когда, скажем, эта технология производит машины, это не значит, что машины – какие-то ржавые корыта. Нет, они воспроизводят определенный тип красоты. Например, поточное производство фордовских, вполне качественных машин. Действительно, единица, подтверждающая мою технологию – это стихотворение. Но оно, это стихотворение, не может быть хуже определенного уровня. Поэтому на уровне, скажем, стихотворения мои стихотворения – стихи. Хотя я, вообще-то, не занимаюсь производством, я в этом отношении <представляю> следующий уровень: я являю некий тип поведения поэта в наше время. Вот был, скажем, тип поведения поэта-мистика. Он отработан, и ты можешь быть мистиком, но в этом отношении попадаешь в художественный промысел. Можешь писать как Хлебников, как Блок, – большой разницы не имеет. Один служит медиатором между небом и землей, другой служит, скажем, медиатором между корневыми истинами и современным человеком… Ты можешь вести себя как Маяковский, воспроизводить его поэтику хуже-лучше; ты можешь хуже, чем Хлебников писать, лучше, чем Хлебников писать, но в этом отношении не изобретаешь нового художественного поведения. Я помню, как в Союзе художников, когда им разрешили писать, начали писать не хуже импрессионистов. Но писать как импрессионисты – это еще не значит быть импрессионистом, это значит воспроизводить систему поведения, письма, и восприятия мира. Поэтому еще раз говорю: я уже на другом уровне (есть уровень писания стиха, есть уровень некоей системы воспроизводства этих стихов, и последний уровень – явление некоего типа художественной личности, как она ведет себя в свое время), поэтому я думаю, что если есть подражания мне, то они будут через некоторое время таким же художественным промыслом, как и любой другой. Потому что подражают не стихам, а типу поэтического поведения в культуре. Поэтому основная задача, как я понимаю, постепенный рост поэта и осознание им этого. Как только то, что ты делаешь, становится предметом культуры, это сразу отменяет возможность людей работать в такой манере.
Еще раз говорю: культура многосоставна, поэтому в ней важно и матрешки расписывать, и писать как Мандельштам… Все это целиком такая экологическая среда культуры, в которой есть разные занятия: есть актуальное искусство, а есть искусство произведения красоты. Есть русские народные хоры, а есть актуальная музыка. Поэтому просто нужно точно понимать, чем ты занимаешься, и претензии к другим предъявлять соответственно их задачам и деятельности. Поэтому когда говорят, что есть разнообразие письма поэтического, а есть скучное занятие типа моего, то ко мне предъявляются претензии другого поэтического занятия. Скажем, когда Малевич писал свой «Черный квадрат», то с точки зрения жостовских подносов бессмысленно было ему говорить, что как здесь красиво и ярко, и как у тебя однообразно и одним цветом написано. Это разные задачи, и иллюзия, что все занимаются одним большим жизненным делом. Все занимаются разными вариантами деятельности. Актуальное искусство красотой не занимается. Это для него случайное, факультативное занятие. Актуальное искусство занимается поиском конституированного нового типа поведения художника в обществе. Вот, скажем, в каждое время художник являет запредельную свободу, он, собственно, для этого и поставлен – являть ту свободу, которая в жизни опасна, и которой нужно показать предел. Для следующего времени эта свобода поведения уже не свобода, она как бы уже актуализирована. Скажем, в пределах языка какой-то человек являет свободу, но уже через десять лет эта свобода языкового поведения становится нормой и культурным этикетом.