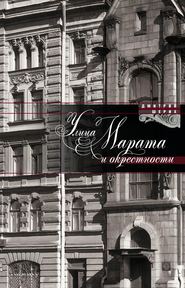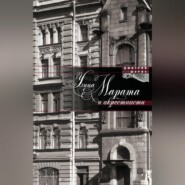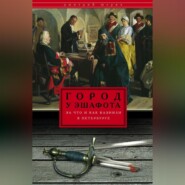По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
История Петербурга наизнанку. Заметки на полях городских летописей
Автор
Жанр
Серия
Год написания книги
2014
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Казалось бы, и здесь сомнений быть не должно. Неоднократно уже процитированная энциклопедия «Санкт-Петербург» сообщает: «Домик, состоящий из двух светлиц, разделенных сенями и спальней, был срублен 24–26.5.1703 из тесаных сосновых бревен». Историко-церковная энциклопедия «Святыни Петербурга» подбавляет подробностей насчет участия в процессе строительства самого монарха и его подданных: «Петр и солдаты выстроили домик всего за три дня, 24–26 мая 1703». Более красочно изложил канву ленинградский писатель Вольт Николаевич Суслов в журнале «Костер»: «Быстро – с 24 по 26 мая из крепких сосновых бревен срубили солдаты хоромы своему царю. Точно так, как ставили в своих деревнях избы-пятистенки».
Не сомневается, наконец, и популярный литератор Соломон Моисеевич Волков, автор книги «История культуры Санкт-Петербурга»: «Первый домик Петербурга… был срублен из обтесанных сосновых бревен самим Петром с помощью солдат за три майских дня 1703 года».
Однако все это – не более, чем байка. Если заглянуть в источники, нетрудно выяснить: дата и обстоятельства строительства домика известны нам из одного-единственного старинного документа. Там сообщено, что 24 мая «на острову, который ныне именуется Санктпетербургской, царское величество повелел рубить лес и изволил обложить дворец», а 26 мая «дворца строение работою окончилось».
Только вот беда: этот документ – не что иное, как знакомая уже читателю рукопись Петра Никифоровича Крекшина «О зачатии и здании царствующего града Санктпетербурга». Текст, на который вряд ли стоит опираться серьезному историку. А других свидетельств, что дом строился в майские дни при участии солдат, не существует в природе.
Повторю еще раз: даты и обстоятельства строительства домика – чистейшая фантазия, не имеющая под собой оснований. А потому соответствующие утверждения энциклопедий, учебников и популярных статей давно пора вывести за скобки. Или сделать хотя бы не столь категоричными.
Попробуем теперь подойти к теме с другой стороны: а нельзя ли другими путям узнать, кто и когда строил домик? Пишет же Вольт Суслов о том, что срубили его «точно так, как ставили в своих деревнях» – и ведь не с потолка же взял он это утверждение! Не с потолка. В советские годы исследователи и краеведы были уверены, что домик построен в традициях русского деревянного зодчества. Многим ленинградцам был знаком путеводитель по домику, написанный Лидией Константиновной Зязевой, и так сказано определенно: домик являет собой традиционный для Руси тип избы, а прообразы его можно найти в старинных постройках Костромской губернии.
Вот вам и конкретика: солдаты-костромичи, построившие «Первоначальный Домик» для своего государя.
Правда, эту конкретику придется опровергнуть. Еще в те советские годы некоторые специалисты удивлялись: отчего же в исконно русском доме такие широкие окна, нашему деревянному зодчеству вовсе не привычные? Выход из тупика нашли тогда изящный: сослались на позднейшие ремонты и реконструкции, изменившие облик дома.
Что ж, облик и впрямь был изменен основательно, это мы знаем. Петр мог бы и не признать свое первоначальное жилище. Только причина странностей оказалась вовсе не в смелых переделках.
На спусковой крючок нажала исследователь Наталия Четверикова: это она в 1990-е годы проанализировала отличительные черты домика и пришла к выводу: он построен в традициях скандинавской архитектуры. Во-первых, срублен домик «в шестиугольник»: выпуск торцов по углам сруба обработан в форме шестигранника, что часто встречалось в Швеции и Норвегии, но менее типично для России. Кроме того, планировка Домика – две разновеликие комнаты, соединенные сенями и разделенные по вертикали стеной – опять же типична для Швеции и Норвегии. Наконец, третье: широкие окна Домика привычны для тех же двух стран.
Такая вот сенсационная версия. И настолько основательная, что за прошедшие годы так и не нашлось веских доводов в ее опровержение. Более того: ведущие специалисты в области деревянной архитектуры признали практически в один голос, что домик не строили ни Петр, ни русские солдаты.
Его строили шведские плотники.
За первой сенсацией следует вторая: а при каких обстоятельствах такое случилось? Версия навскидку – о том, что домик строили для царя пленные шведы – легко дополняется еще парой других. А вдруг домиком Петра стала перенесенная из другого места готовая постройка? Какая-нибудь хижина из Ниеншанца или Ниена? И третий вариант, наконец: а что, если домик еще до основания Петербурга стоял на этом месте, а Петр просто использовал его для своей штаб-квартиры?
Три версии, каждая из которых имеет свои за и против.
Шведские пленные в большом количестве появились на невских берегах после Полтавской баталии 1709 года. А дотоле их пребывание в северной столице документами не зафиксировано. Что же до гарнизона Ниеншанца вместе с членами семей и всякими другими обитателями крепости и города Ниена (казалось бы, можно представить их в качестве строителей домика) – то они были еще 8 мая, до основания крепости на Заячьем острове, отправлены восвояси в Выборг. Какие же тогда пленные шведы могли строить домик?
Готовая постройка? Но мы уже знаем: домик построен по шведским канонам, тогда как типичные для приневских земель дома имели иной облик, для них характерны другая рубка и квадратные окна. К тому же данные обследования сруба домика, найденные Наталией Четвериковой в архивах Русского музея, гласят со всей очевидностью: для строительства был использован свежеповаленный и недостаточно просушенный лес. Это означало грубое нарушение технологии строительства и привело к появлению широких и глубоких разрывов в здоровых бревнах сруба. Такое могло произойти именно в том случае, если домик строили в спешке для нового хозяина приневских земель.
Против версии о переносе готовой постройки выступает и знакомый нам Петр Никифорович Крекшин. В его рукописи сообщается, что «Генерал светлейший князь Александр Данилов сын Меншиков предлагал его царскому величеству в Канецких слободах от пожару многие дома в остатке, строены по архитектуре из леса брусоваго, не соизволит ли перевесть и построить дворец. Царское величество изволил говорить: „Для того и велю на сем месте рубить лес, и из того леса строить дворец впредь для знания, в какой пустоте оный остров был…“»
Невелика цена свидетельству Крекшина, конечно, но сам по себе факт примечателен: а зачем бы Петру Никифоровичу столь однозначно опровергать перенос домика? Не иначе как такой вариант имел хождение в городе, обсуждался, считался вполне вероятным…
Отмечу, что по мнению уже упомянутого в предыдущей главе Владимира Степановича Рахманова бревна сруба Домика были еще в петровские времена пронумерованы, что скорее всего говорит об одном: его перевозили. Более того: анализ этих пометок позволил Рахманову высказать предположение, что домику к 1703 году стукнуло уже минимум двадцать лет.
Озвучим теперь третью версию происхождения домика Петра. Она проста и лаконична: домик стоял на этом месте и до основания Петербурга. Это предположение выдвинули независимо друг от друга два видных знатока петербургской старины: искусствовед Сергей Борисович Горбатенко и археолог Петр Егорович Сорокин. Изучая шведские планы приневских земель 1680 года, они заметили, что именно в этих местах существовало несколько жилых дворов, и в их числе двор шведского крестьянина (или рыбака) Марти Лейя. Сергей Борисович даже совместил старинный план с планами Петербурга, и оказалось, что расхождение на местности между домиком Петра и домом Лейя составляет около 50–70 метров. С учетом несомненной приблизительности шведского плана это позволило исследователю «идентифицировать обе постройки как находящиеся на одном месте».
Горбатенко отметил попутно еще один факт: сохранившиеся в домике цветочные росписи близки шведской народной декоративной живописи. Важно также, что семейство Лейя вело происхождение от «старого кормчего» Олафа Томессонна Лейя, переселившегося сюда из Бьёрке (Приморск) в 1609 году. Так что вполне возможно, что дом Лейя был построен в соответствии с шведскими традициями.
Что же касается спешки в строительстве… А кто сказал, что в спешке и с нарушениями правил рубили дом именно в 1703 году? Может быть, технологию нарушили раньше, при Лейя? Или старый дом шведа подвергли некоторой переделке для того, чтобы туда мог вселиться царь? А может, речь в исследовании вообще идет о новых бревнах, дополнивших собою домик после наводнения 1777 года? Уж там-то спешка наверняка имела место: не могли же оставить одну из святынь Петербурга в полуразваленном виде надолго…
Любопытно, что в старой литературе встречаются свидетельства в пользу версии номер три. Хотя основной была версия о постройке дома в мае 1703 года, некоторые мемуаристы и летописцы писали иначе. Франсиско Миранда, знаменитый борец за независимость Венесуэлы, посетивший Россию и Петербург в 1786–1787 годах, отметил в дневнике: «Посетили домик Петра I, его первое жилище здесь. Дом деревянный, и, как мне сказали, до императора в нем обитали рыбаки. Вокруг стоят столбы с низким перекрытием, так что сам дом оказывается внутри и тем самым защищен от дождя и ветра».
Отмечу: «Как мне сказали». Значит, слухи об этом впрямь ходили по столице.
Примерно то же пишет академик петербургской Академии наук Якоб Штелин в собранных им в екатерининское время «Подлинных анекдотах о Петре Великом»: «Он не нашел на сем месте ничего, кроме одной деревянной рыбачьей хижины на Петербургской стороне, в которой сперва и жил, и которая поныне еще для памяти сохранена и стоит под кровлею утвержденною на каменных столбах». Насколько академик был уверен именно в таком происхождении домика, можно судить по другим его строкам, где он описывает мемориальные вещи Петра в столице и сообщает: «напротив сего места… стояла бедная рыбачья хижина, из которой Петр Великий в 1703 году в несколько дней построил малый деревянный домик о двух покоях с сенями и кухнею».
В общем, Штелин был уверен: именно старая шведская постройка стала обиталищем царя. Даже если он ее немного переделал под свои нужды.
Такой вот поворот.
Так какая же версия верна? Стопроцентно точный ответ на этот вопрос, увы, дать невозможно. Тем более, что один из современников – член польского посольства, побывавший в Петербурге в 1720 году, – еще сильнее запутывает карты: «На этом самом месте, как я узнал, некогда было 15 хижин, населенных шведскими рыбаками. После занятия этой местности русскими деревню сожгли, а его величество царь повелел поставить для себя тут маленький домик из двух комнаток, где и жил. Домик этот еще стоит, крытый черепицей, однако без окон, но для лучшего сохранения обнесен забором».
Если прав поляк – значит, ошибочны предложения Горбатенко и Сорокина. Хотя вполне возможно, что иностранец поразумевает вовсе не конкретную деревушку вокруг двора Лейя, а поселения на более обширном пространстве. На всей нынешней Петроградской стороне. А то ведь в этом конкретном месте пятнадцати дворов никогда и не было.
Ну а ежели так – то и это свидетельство превращается в нечто весьма неопределенное.
Одно скажу с высокой степенью достоверности: скорее всего, домик Петра I старше Петербурга. А рассказ про три майских дня 1703 года можно вычеркнуть из энциклопедий и учебников твердой рукой.
Земля будущей столицы
Правда ли, что Петербург стоит на костях?
Петербург построен на костях десятков, а то и сотен тысяч людей. Этот тезис так впитался в поры русской культуры, что стал уже ее общим местом. Николай Михайлович Карамзин не сомневался: «можно сказать, что Петербург основан на слезах и трупах». У Николая Семеновича Лескова в романе «На ножах» тоже можно встретить беглое: «заложен и выстроен на костях и сваях». Наш современник писатель Михаил Николаевич Кураев столь же красноречив, сколь и эмоционален: «Едва ли Петр Первый, затевая крепость на крохотном победном островке в разгар безбрежной и не очень-то счастливой войны, мог предположить, мог помыслить хотя бы в кошмаре похмельного сна о том, что… под стенами одной только Петропавловской крепости, которой во всю ее историю так и не случится отражать врага, ляжет, по одним подсчетам, семьдесят, а по другим – и все сто тысяч подкопщиков и прочих работных людишек, то есть русских мужиков… Город рос, высился не только на краю России, но и на краю необъятной могилы, куда скидывали, стаскивали и сваливали его строителей».
Категоричен и современный литературовед профессор Борис Валентинович Аверин: «Никуда не денешься от сотен тысяч жизней, вбитых в эту болотистую почву, – они все время встают как обелиски, как души, укоряющие нас».
Никуда не денешься, это правда. И что там писатели или профессора, если почти в каждой книге, рассказывающей о строительстве северной столицы, можно прочесть о бесчисленных русских людях, переселенных Петром I на невские берега и нашедших здесь скорую смерть?
Люди гибли, что скрывать. Но вот вопрос: в каком количестве? Откуда взялись сведения про сотни тысяч погибших? Достоверны ли эти данные?
Если попробовать распутать ниточку, выяснится удивительное: первоисточником сведений о городе, построенном на костях, служат воспоминания иностранцев, побывавших в петровской России. Вообще-то обычно историки относятся к мемуарам со скепсисом, употребляют даже выражение «врет, как очевидец» – а тут, поди ж ты, поверили на все сто. Может быть, потому, что иностранные мемуаристы были единодушны и настойчивы. Уже в самых ранних воспоминаниях иностранцев о Петербурге называются цифры вплоть до сотен тысяч погибших. Вот что сообщает анонимный немецкий автор, посетивший невские берега в 1710–1711 годах: «Поскольку люди не были привычны к такой работе, жили в скверных условиях и на худом содержании, то многие – говорят, даже свыше ста тысяч человек – при этом погибли и умерли». Осторожнее высказывался швед Ларс Юхан Эренмальм, находившийся в 1710–1713 годах в российском плену, но и по его утверждению на строительстве одной только крепости Санкт-Петербург в 1703–1704 годах «было погублено свыше 50–60 тысяч человек». Примерно ту же оценку давал датский посланник Юст Юль, посетивший Россию в 1710–1712 годах.
Петр I руководит строительством Санкт-Петербурга. Гравюра XVIII века
Всех перехлестнул брауншвейгский посланник Фридрих Христиан Вебер, обитавший в России в 1714–1720 годах: он утверждал, что на строительстве Петербурга и Кроншлота погибло свыше 300 тысяч человек.
Отсюда и пошли гулять страшные данные. Журналист Владимир Осипович Михневич в своей знаменитой книге «Петербург весь на ладони» (1874) присоединился к мнению анонимного немца: «сооружение одной Петропавловской крепости стоило жизни 100 000 переселенцев». Его современник историк Василий Осипович Ключевский конкретных цифр не назвал, но был также категоричен: «Едва ли найдется в военной истории побоище, которое вывело бы из строя больше бойцов, чем сколько легло рабочих в Петербурге и Кронштадте. Петр называл новую столицу своим „парадизом“; но она стала великим кладбищем для народа».
С тех пор и поехало. Даже вполне академические историки отдали дань образу столицы, построенной на костях. В советские годы Владимир Васильевич Мавродин не усомнился: «Земля будущей столицы покоила в себе не один десяток тысяч ее строителей». Евгений Викторович Анисимов в 2003 году писал еще решительнее: «Не будет сильным преувеличением считать, что в начальный период строительства Петербурга погибло не менее 100 тысяч человек».
Но может быть, все так и обстояло на самом деле? Может, иностранцы просто зафиксировали реальное положение дел? Смертность ведь среди тех, кто строил Петербург, не могла не быть высокой. Тяжелый механический труд, неблагоприятный климат, плохие санитарные условия, отсутствие нормальной медицины… Не случайно Александр Данилович Меншиков в 1716 году писал кабинет-секретарю Петра Алексею Васильевичу Макарову, что из работающих в Петергофе и Стрельне «больных зело много и умирают непрестанно, из которых нынешним летом больше тысячи померло».
И все-таки: какими были реальные показатели смертности?
Для начала разделаемся с утверждением Фридриха Христиана Вебера. Этот дипломат, судя по всему, был вообще склонен к драматическим перехлестам. Оттого и писал, цитирую: «Люди, знающие основательно это дело, уверяют, что при возведении крепости в Таганроге у Черного моря погибло более 300 000 крестьян, и еще более на Петербургских и Кроншлотских работах, частию от голода, а частию вследствие болезней, развившихся от болотистой почвы».
Легко понять, что все это – нелепица. 300 тысяч в одном Таганроге? Одного этого утверждения достаточно, чтобы вывести источник в разряд недостоверных. Конечно, крепость у Черного моря обошлась петровской России недешево, но трехсот тысяч погибших там не набралось бы за все петровские годы. Современные историки Таганрога, даже самые критичные по отношению к Петру, называют цифры на порядок более скромные: 30 тысяч.
Вернемся теперь в нашу северную столицу. Несмотря на то, что точных данных о числе умерших строителей Петербурга не имеется, все ж таки петровская бюрократия может сослужить нам добрую службу. Хотя бы для того, чтобы оценить общую численность отряда строителей северной столицы. Входили в него солдаты петровской армии, вольные работники, каторжники – но основной контингент составляли все-таки работные люди, присланные сюда из разных губерний. Эта присылка осуществлялась по заранее утвержденным планам, показатели которых известны документально. Так и выявляется, что в 1704 году на возведение Петербурга и Шлиссельбурга направлено было 40 тысяч рабочих, годом позже – такое количество, но уже «поровну» в Петербург и Нарву, в 1706-м – 46 тысяч опять же поровну в два указанных города. Потом цифры присылаемых рабочих менялись, в некоторые годы увеличиваясь до 40 тысяч человек в один только Петербург. Важно понимать, однако, что реально прибывали на берега Невы далеко не все. Кто-то бежал по пути или уже с места строительства, кто-то заболел или даже умер в долгой дороге, а в каких-то губерниях случился банальный недобор: государственная машина и тогда не работала, как часы. Оттого и писал петербургский обер-комендант Роман Брюс Александру Даниловичу Меншикову в конце апреля 1709 года: «По наряду в нынешнее лето работным людям велено ко мне быть к городовому строению апреля к 1 числу 8000 человек, из которых по нижеписанное число токмо пришло к нам 1569 человек».
Все эти работные люди, конечно, могли болеть (в августе 1703-го Г.И. Головкин сообщал царю, что у строителей нового города «болезнь одна: понос и цынга») – но умерли далеко не все. То же относится и к солдатам, вольным работникам, каторжникам.
Не сомневается, наконец, и популярный литератор Соломон Моисеевич Волков, автор книги «История культуры Санкт-Петербурга»: «Первый домик Петербурга… был срублен из обтесанных сосновых бревен самим Петром с помощью солдат за три майских дня 1703 года».
Однако все это – не более, чем байка. Если заглянуть в источники, нетрудно выяснить: дата и обстоятельства строительства домика известны нам из одного-единственного старинного документа. Там сообщено, что 24 мая «на острову, который ныне именуется Санктпетербургской, царское величество повелел рубить лес и изволил обложить дворец», а 26 мая «дворца строение работою окончилось».
Только вот беда: этот документ – не что иное, как знакомая уже читателю рукопись Петра Никифоровича Крекшина «О зачатии и здании царствующего града Санктпетербурга». Текст, на который вряд ли стоит опираться серьезному историку. А других свидетельств, что дом строился в майские дни при участии солдат, не существует в природе.
Повторю еще раз: даты и обстоятельства строительства домика – чистейшая фантазия, не имеющая под собой оснований. А потому соответствующие утверждения энциклопедий, учебников и популярных статей давно пора вывести за скобки. Или сделать хотя бы не столь категоричными.
Попробуем теперь подойти к теме с другой стороны: а нельзя ли другими путям узнать, кто и когда строил домик? Пишет же Вольт Суслов о том, что срубили его «точно так, как ставили в своих деревнях» – и ведь не с потолка же взял он это утверждение! Не с потолка. В советские годы исследователи и краеведы были уверены, что домик построен в традициях русского деревянного зодчества. Многим ленинградцам был знаком путеводитель по домику, написанный Лидией Константиновной Зязевой, и так сказано определенно: домик являет собой традиционный для Руси тип избы, а прообразы его можно найти в старинных постройках Костромской губернии.
Вот вам и конкретика: солдаты-костромичи, построившие «Первоначальный Домик» для своего государя.
Правда, эту конкретику придется опровергнуть. Еще в те советские годы некоторые специалисты удивлялись: отчего же в исконно русском доме такие широкие окна, нашему деревянному зодчеству вовсе не привычные? Выход из тупика нашли тогда изящный: сослались на позднейшие ремонты и реконструкции, изменившие облик дома.
Что ж, облик и впрямь был изменен основательно, это мы знаем. Петр мог бы и не признать свое первоначальное жилище. Только причина странностей оказалась вовсе не в смелых переделках.
На спусковой крючок нажала исследователь Наталия Четверикова: это она в 1990-е годы проанализировала отличительные черты домика и пришла к выводу: он построен в традициях скандинавской архитектуры. Во-первых, срублен домик «в шестиугольник»: выпуск торцов по углам сруба обработан в форме шестигранника, что часто встречалось в Швеции и Норвегии, но менее типично для России. Кроме того, планировка Домика – две разновеликие комнаты, соединенные сенями и разделенные по вертикали стеной – опять же типична для Швеции и Норвегии. Наконец, третье: широкие окна Домика привычны для тех же двух стран.
Такая вот сенсационная версия. И настолько основательная, что за прошедшие годы так и не нашлось веских доводов в ее опровержение. Более того: ведущие специалисты в области деревянной архитектуры признали практически в один голос, что домик не строили ни Петр, ни русские солдаты.
Его строили шведские плотники.
За первой сенсацией следует вторая: а при каких обстоятельствах такое случилось? Версия навскидку – о том, что домик строили для царя пленные шведы – легко дополняется еще парой других. А вдруг домиком Петра стала перенесенная из другого места готовая постройка? Какая-нибудь хижина из Ниеншанца или Ниена? И третий вариант, наконец: а что, если домик еще до основания Петербурга стоял на этом месте, а Петр просто использовал его для своей штаб-квартиры?
Три версии, каждая из которых имеет свои за и против.
Шведские пленные в большом количестве появились на невских берегах после Полтавской баталии 1709 года. А дотоле их пребывание в северной столице документами не зафиксировано. Что же до гарнизона Ниеншанца вместе с членами семей и всякими другими обитателями крепости и города Ниена (казалось бы, можно представить их в качестве строителей домика) – то они были еще 8 мая, до основания крепости на Заячьем острове, отправлены восвояси в Выборг. Какие же тогда пленные шведы могли строить домик?
Готовая постройка? Но мы уже знаем: домик построен по шведским канонам, тогда как типичные для приневских земель дома имели иной облик, для них характерны другая рубка и квадратные окна. К тому же данные обследования сруба домика, найденные Наталией Четвериковой в архивах Русского музея, гласят со всей очевидностью: для строительства был использован свежеповаленный и недостаточно просушенный лес. Это означало грубое нарушение технологии строительства и привело к появлению широких и глубоких разрывов в здоровых бревнах сруба. Такое могло произойти именно в том случае, если домик строили в спешке для нового хозяина приневских земель.
Против версии о переносе готовой постройки выступает и знакомый нам Петр Никифорович Крекшин. В его рукописи сообщается, что «Генерал светлейший князь Александр Данилов сын Меншиков предлагал его царскому величеству в Канецких слободах от пожару многие дома в остатке, строены по архитектуре из леса брусоваго, не соизволит ли перевесть и построить дворец. Царское величество изволил говорить: „Для того и велю на сем месте рубить лес, и из того леса строить дворец впредь для знания, в какой пустоте оный остров был…“»
Невелика цена свидетельству Крекшина, конечно, но сам по себе факт примечателен: а зачем бы Петру Никифоровичу столь однозначно опровергать перенос домика? Не иначе как такой вариант имел хождение в городе, обсуждался, считался вполне вероятным…
Отмечу, что по мнению уже упомянутого в предыдущей главе Владимира Степановича Рахманова бревна сруба Домика были еще в петровские времена пронумерованы, что скорее всего говорит об одном: его перевозили. Более того: анализ этих пометок позволил Рахманову высказать предположение, что домику к 1703 году стукнуло уже минимум двадцать лет.
Озвучим теперь третью версию происхождения домика Петра. Она проста и лаконична: домик стоял на этом месте и до основания Петербурга. Это предположение выдвинули независимо друг от друга два видных знатока петербургской старины: искусствовед Сергей Борисович Горбатенко и археолог Петр Егорович Сорокин. Изучая шведские планы приневских земель 1680 года, они заметили, что именно в этих местах существовало несколько жилых дворов, и в их числе двор шведского крестьянина (или рыбака) Марти Лейя. Сергей Борисович даже совместил старинный план с планами Петербурга, и оказалось, что расхождение на местности между домиком Петра и домом Лейя составляет около 50–70 метров. С учетом несомненной приблизительности шведского плана это позволило исследователю «идентифицировать обе постройки как находящиеся на одном месте».
Горбатенко отметил попутно еще один факт: сохранившиеся в домике цветочные росписи близки шведской народной декоративной живописи. Важно также, что семейство Лейя вело происхождение от «старого кормчего» Олафа Томессонна Лейя, переселившегося сюда из Бьёрке (Приморск) в 1609 году. Так что вполне возможно, что дом Лейя был построен в соответствии с шведскими традициями.
Что же касается спешки в строительстве… А кто сказал, что в спешке и с нарушениями правил рубили дом именно в 1703 году? Может быть, технологию нарушили раньше, при Лейя? Или старый дом шведа подвергли некоторой переделке для того, чтобы туда мог вселиться царь? А может, речь в исследовании вообще идет о новых бревнах, дополнивших собою домик после наводнения 1777 года? Уж там-то спешка наверняка имела место: не могли же оставить одну из святынь Петербурга в полуразваленном виде надолго…
Любопытно, что в старой литературе встречаются свидетельства в пользу версии номер три. Хотя основной была версия о постройке дома в мае 1703 года, некоторые мемуаристы и летописцы писали иначе. Франсиско Миранда, знаменитый борец за независимость Венесуэлы, посетивший Россию и Петербург в 1786–1787 годах, отметил в дневнике: «Посетили домик Петра I, его первое жилище здесь. Дом деревянный, и, как мне сказали, до императора в нем обитали рыбаки. Вокруг стоят столбы с низким перекрытием, так что сам дом оказывается внутри и тем самым защищен от дождя и ветра».
Отмечу: «Как мне сказали». Значит, слухи об этом впрямь ходили по столице.
Примерно то же пишет академик петербургской Академии наук Якоб Штелин в собранных им в екатерининское время «Подлинных анекдотах о Петре Великом»: «Он не нашел на сем месте ничего, кроме одной деревянной рыбачьей хижины на Петербургской стороне, в которой сперва и жил, и которая поныне еще для памяти сохранена и стоит под кровлею утвержденною на каменных столбах». Насколько академик был уверен именно в таком происхождении домика, можно судить по другим его строкам, где он описывает мемориальные вещи Петра в столице и сообщает: «напротив сего места… стояла бедная рыбачья хижина, из которой Петр Великий в 1703 году в несколько дней построил малый деревянный домик о двух покоях с сенями и кухнею».
В общем, Штелин был уверен: именно старая шведская постройка стала обиталищем царя. Даже если он ее немного переделал под свои нужды.
Такой вот поворот.
Так какая же версия верна? Стопроцентно точный ответ на этот вопрос, увы, дать невозможно. Тем более, что один из современников – член польского посольства, побывавший в Петербурге в 1720 году, – еще сильнее запутывает карты: «На этом самом месте, как я узнал, некогда было 15 хижин, населенных шведскими рыбаками. После занятия этой местности русскими деревню сожгли, а его величество царь повелел поставить для себя тут маленький домик из двух комнаток, где и жил. Домик этот еще стоит, крытый черепицей, однако без окон, но для лучшего сохранения обнесен забором».
Если прав поляк – значит, ошибочны предложения Горбатенко и Сорокина. Хотя вполне возможно, что иностранец поразумевает вовсе не конкретную деревушку вокруг двора Лейя, а поселения на более обширном пространстве. На всей нынешней Петроградской стороне. А то ведь в этом конкретном месте пятнадцати дворов никогда и не было.
Ну а ежели так – то и это свидетельство превращается в нечто весьма неопределенное.
Одно скажу с высокой степенью достоверности: скорее всего, домик Петра I старше Петербурга. А рассказ про три майских дня 1703 года можно вычеркнуть из энциклопедий и учебников твердой рукой.
Земля будущей столицы
Правда ли, что Петербург стоит на костях?
Петербург построен на костях десятков, а то и сотен тысяч людей. Этот тезис так впитался в поры русской культуры, что стал уже ее общим местом. Николай Михайлович Карамзин не сомневался: «можно сказать, что Петербург основан на слезах и трупах». У Николая Семеновича Лескова в романе «На ножах» тоже можно встретить беглое: «заложен и выстроен на костях и сваях». Наш современник писатель Михаил Николаевич Кураев столь же красноречив, сколь и эмоционален: «Едва ли Петр Первый, затевая крепость на крохотном победном островке в разгар безбрежной и не очень-то счастливой войны, мог предположить, мог помыслить хотя бы в кошмаре похмельного сна о том, что… под стенами одной только Петропавловской крепости, которой во всю ее историю так и не случится отражать врага, ляжет, по одним подсчетам, семьдесят, а по другим – и все сто тысяч подкопщиков и прочих работных людишек, то есть русских мужиков… Город рос, высился не только на краю России, но и на краю необъятной могилы, куда скидывали, стаскивали и сваливали его строителей».
Категоричен и современный литературовед профессор Борис Валентинович Аверин: «Никуда не денешься от сотен тысяч жизней, вбитых в эту болотистую почву, – они все время встают как обелиски, как души, укоряющие нас».
Никуда не денешься, это правда. И что там писатели или профессора, если почти в каждой книге, рассказывающей о строительстве северной столицы, можно прочесть о бесчисленных русских людях, переселенных Петром I на невские берега и нашедших здесь скорую смерть?
Люди гибли, что скрывать. Но вот вопрос: в каком количестве? Откуда взялись сведения про сотни тысяч погибших? Достоверны ли эти данные?
Если попробовать распутать ниточку, выяснится удивительное: первоисточником сведений о городе, построенном на костях, служат воспоминания иностранцев, побывавших в петровской России. Вообще-то обычно историки относятся к мемуарам со скепсисом, употребляют даже выражение «врет, как очевидец» – а тут, поди ж ты, поверили на все сто. Может быть, потому, что иностранные мемуаристы были единодушны и настойчивы. Уже в самых ранних воспоминаниях иностранцев о Петербурге называются цифры вплоть до сотен тысяч погибших. Вот что сообщает анонимный немецкий автор, посетивший невские берега в 1710–1711 годах: «Поскольку люди не были привычны к такой работе, жили в скверных условиях и на худом содержании, то многие – говорят, даже свыше ста тысяч человек – при этом погибли и умерли». Осторожнее высказывался швед Ларс Юхан Эренмальм, находившийся в 1710–1713 годах в российском плену, но и по его утверждению на строительстве одной только крепости Санкт-Петербург в 1703–1704 годах «было погублено свыше 50–60 тысяч человек». Примерно ту же оценку давал датский посланник Юст Юль, посетивший Россию в 1710–1712 годах.
Петр I руководит строительством Санкт-Петербурга. Гравюра XVIII века
Всех перехлестнул брауншвейгский посланник Фридрих Христиан Вебер, обитавший в России в 1714–1720 годах: он утверждал, что на строительстве Петербурга и Кроншлота погибло свыше 300 тысяч человек.
Отсюда и пошли гулять страшные данные. Журналист Владимир Осипович Михневич в своей знаменитой книге «Петербург весь на ладони» (1874) присоединился к мнению анонимного немца: «сооружение одной Петропавловской крепости стоило жизни 100 000 переселенцев». Его современник историк Василий Осипович Ключевский конкретных цифр не назвал, но был также категоричен: «Едва ли найдется в военной истории побоище, которое вывело бы из строя больше бойцов, чем сколько легло рабочих в Петербурге и Кронштадте. Петр называл новую столицу своим „парадизом“; но она стала великим кладбищем для народа».
С тех пор и поехало. Даже вполне академические историки отдали дань образу столицы, построенной на костях. В советские годы Владимир Васильевич Мавродин не усомнился: «Земля будущей столицы покоила в себе не один десяток тысяч ее строителей». Евгений Викторович Анисимов в 2003 году писал еще решительнее: «Не будет сильным преувеличением считать, что в начальный период строительства Петербурга погибло не менее 100 тысяч человек».
Но может быть, все так и обстояло на самом деле? Может, иностранцы просто зафиксировали реальное положение дел? Смертность ведь среди тех, кто строил Петербург, не могла не быть высокой. Тяжелый механический труд, неблагоприятный климат, плохие санитарные условия, отсутствие нормальной медицины… Не случайно Александр Данилович Меншиков в 1716 году писал кабинет-секретарю Петра Алексею Васильевичу Макарову, что из работающих в Петергофе и Стрельне «больных зело много и умирают непрестанно, из которых нынешним летом больше тысячи померло».
И все-таки: какими были реальные показатели смертности?
Для начала разделаемся с утверждением Фридриха Христиана Вебера. Этот дипломат, судя по всему, был вообще склонен к драматическим перехлестам. Оттого и писал, цитирую: «Люди, знающие основательно это дело, уверяют, что при возведении крепости в Таганроге у Черного моря погибло более 300 000 крестьян, и еще более на Петербургских и Кроншлотских работах, частию от голода, а частию вследствие болезней, развившихся от болотистой почвы».
Легко понять, что все это – нелепица. 300 тысяч в одном Таганроге? Одного этого утверждения достаточно, чтобы вывести источник в разряд недостоверных. Конечно, крепость у Черного моря обошлась петровской России недешево, но трехсот тысяч погибших там не набралось бы за все петровские годы. Современные историки Таганрога, даже самые критичные по отношению к Петру, называют цифры на порядок более скромные: 30 тысяч.
Вернемся теперь в нашу северную столицу. Несмотря на то, что точных данных о числе умерших строителей Петербурга не имеется, все ж таки петровская бюрократия может сослужить нам добрую службу. Хотя бы для того, чтобы оценить общую численность отряда строителей северной столицы. Входили в него солдаты петровской армии, вольные работники, каторжники – но основной контингент составляли все-таки работные люди, присланные сюда из разных губерний. Эта присылка осуществлялась по заранее утвержденным планам, показатели которых известны документально. Так и выявляется, что в 1704 году на возведение Петербурга и Шлиссельбурга направлено было 40 тысяч рабочих, годом позже – такое количество, но уже «поровну» в Петербург и Нарву, в 1706-м – 46 тысяч опять же поровну в два указанных города. Потом цифры присылаемых рабочих менялись, в некоторые годы увеличиваясь до 40 тысяч человек в один только Петербург. Важно понимать, однако, что реально прибывали на берега Невы далеко не все. Кто-то бежал по пути или уже с места строительства, кто-то заболел или даже умер в долгой дороге, а в каких-то губерниях случился банальный недобор: государственная машина и тогда не работала, как часы. Оттого и писал петербургский обер-комендант Роман Брюс Александру Даниловичу Меншикову в конце апреля 1709 года: «По наряду в нынешнее лето работным людям велено ко мне быть к городовому строению апреля к 1 числу 8000 человек, из которых по нижеписанное число токмо пришло к нам 1569 человек».
Все эти работные люди, конечно, могли болеть (в августе 1703-го Г.И. Головкин сообщал царю, что у строителей нового города «болезнь одна: понос и цынга») – но умерли далеко не все. То же относится и к солдатам, вольным работникам, каторжникам.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: