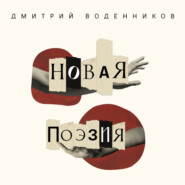По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Стихи обо всем
Жанр
Серия
Год написания книги
2020
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
А ты гордись, что в наши времена —
горчайших яблок, поздних подозрений —
тебе достался целый мир, и я,
и густо-розовый
безвременник осенний.
Я развернусь лицом к тебе – опять,
и – полный нежности, тревоги и печали —
скажу: «Не знали мы,
что значит – погибать,
не знали мы, а вот теперь – узнали».
И я скажу: «За эти времена,
за гулкость яблок и за вкус утраты —
не как любовника —
(как мать, как дочь, сестра!) —
как современника – утешь меня, как брата».
И я скажу тебе,
что я тебя – люблю,
и я скажу тебе, что ты – моё спасенье,
что мы погибли (я понятно – говорю?),
но – сдерживали – гибель – как умели.
Так вот во что створожилась любовь
Так вот во что – створожилась любовь:
сначала ела, пела, говорила,
потом, как рыба снулая, застыла,
а раньше – как животное рвалось.
А кто-нибудь – проснется поутру,
как яблоня – в неистовом цветенье,
с одним сплошным, цветным стихотвореньем,
с огромным стихтворением – во рту.
И мы – проснемся, на чужих руках,
и быть желанными друг другу поклянемся,
и – как влюбленные – в последний раз упремся —
цветочным ржаньем – в собственных гробах.
И я – проснусь, я все ж таки проснусь,
цветным чудовищем, конем твоим железным,
и даже там, где рваться бесполезно,
я все равно в который раз – рванусь.
Как все, как все – неоспоримой кровью,
как все – своих не зная берегов,
сырой землею и земной любовью,
как яблоня – набитый до краев.
«Было горло красненьким, голодным, прогорклым…»
Было горло красненьким, голодным, прогорклым,
горькое, как масло, слепое, жадное горло —
жалким и жадным горлышко, как рыбешка, было,
всех проглотила жадная жалкая рыба.
А ты беги отсюда, вон пошел, скотина,
хватай за жабры и бросай, как палку.
Но уже не рыба – слышишь, не голос
и запах рыбный,
а змея цветущая, голод ее жалкий.
Уж и вьется уж, всех сожрал, мокрый:
нет у него теперь ни снохи, ни свекрови,
ни свекра.
Грабли взял – опоздал: не жало и жабры,
а глядит на тебя несчастная морда жабы.
Ам, – сказала жаба и съела тебя. Странно,
почему она плачет жемчужно и с тоски зеленей
лука,
почему она плачет жемчужно и ломает зеленые
руки:
нет у жабы ни брата, ни мамы,
ни любимого, ни любимой – всех она съела, сука.
Всех она заманила в свое горькое, горькое горло,
в рыбку свою, в свою змеиную трубку
и свистит теперь дудкой, и ей отвечает гулко,
как в органе, то одно, то другое горло.
А твой звук – самый нежный, самый высокий,
лежи без муки, пой высоко – будет
плакать тебе: скоро жаба разбрызжет дольки,
полетят, как ракета, ноги ее и руки,
полетят, как ракета, руки ее и ноги,
выйдешь ты из нее, выйдут другие люди.
Май, – скажут, – ай; май, куличи да пасхи,
победили мы суку эту, рыбу, змею, жабу,
будем лапками в лапту играть; царские примерять глазки.
А у меня горло болит: жалко жабу.
Взял я мертвое горло, склизкую трубку в тряпку
(тошнило меня, тряпкою взял, боялся),
вырыл ямку и горло укрыл в грядку:
спи спокойно, недолго уже осталось.