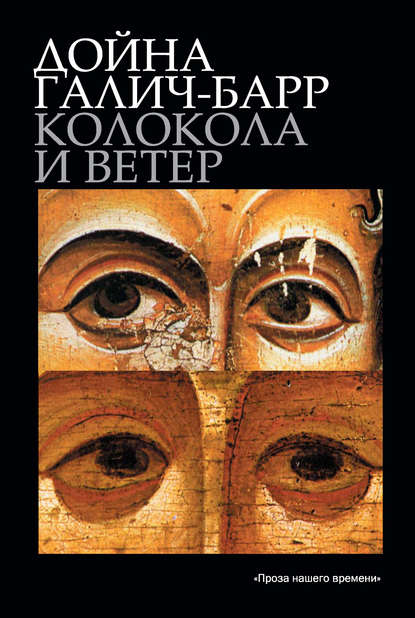По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Колокола и ветер
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Не помню, когда мы вернулись в Америку.
Семьи наши были очень близки. Мой отец учился в Америке, а отец Николы – гениальный изобретатель и лучший студент-химик Белградского университета – получил американскую стипендию. Они говорили на одном языке, у них была одна вера, одни интересы. Позднее отец Николы, сначала в Югославии, а потом и за границей, наладил производство медного купороса. Кроме того, он владел виноградниками в Европе и на родине. Родители Николы были экспортерами изысканных вин и любителями искусств.
Мать не разрешила Николе ходить в школу, боясь, что он заболеет. Позднее я поняла, что у нее были проблемы с мужем. Она решала их, удерживая сына подле себя, как будто знала: пока сын здесь, до развода дело не дойдет. Ему было позволено дружить только со мной. Он никогда не спорил, в домашних воспитателях обрел интересных учителей и наставников и, думаю, был счастлив.
Николе было пятнадцать лет, когда он утонул. Он много путешествовал, был образован, ласков в обхождении со всеми. Знакомил меня с европейской литературой и музыкой. Был моим советчиком во всем. Я слушала друга и удивлялась его познаниям. В разлуке нас сближала переписка. В каждом его письме была картинка – какое-нибудь воспоминание о наших путешествиях, а возле подписи всегда белая маргаритка. Мне казалось, я совсем дуреха в сравнении с ним. Семьи планировали совместные путешествия по свету. Никола хорошо знал, что именно нам надо посмотреть.
Не сердитесь, я хочу побыть одна. Нет, я не буду плакать, он не хотел бы этого. Без него рухнуло все, я постоянно думаю о нем, все начинаю с его имени, особенно здесь, вблизи монастыря.
8
И смерть умирает
Вспоминаю наше последнее путешествие в Маун, центр сафари, незадолго до этой трагедии. Мы посетили Африку зимой, в мои школьные каникулы, в сезон дождей. Реки здесь только тогда полноводны, в другое время – невыносимая сушь и тропическая жара. Маун находится в верхней части дельты Окаванго, где мы, туристы, развлекались сафари.
Никогда не забуду, какая там была заря, каким светом занимался день. Солнце – огромный огненный мяч – появлялось на горизонте и, меняя цвет, постепенно уменьшалось. Мы любовались самой большой дельтой на свете. Всласть катались на длинных лодках, называемых мокорои, разглядывали растения, гиппопотамов, антилоп и бизонов. Животные не вызывали у меня страха. Вода была чистая. Заросли папируса создавали специфический колорит: все было словно заштриховано золотом. Мы наслаждались тишиной и красотой дикой природы. Когда мы добрались до края дельты, где водятся крокодилы, Никола держал меня за руку и ободрял:
– Я спасу тебя, ты же знаешь, я отличный пловец и никогда не допущу, чтобы с тобой что-нибудь случилось.
Мне нравились эти слова. Я верила, что он от всего может меня защитить. Нас обоих удивило, что огромная дельта не впадает в океан. Мы смотрели в небо: там, прямо над нами, кружили орлы и со скоростью, неуловимой для камеры, обрушивались вниз, чтоб ловко выхватить рыбу из воды. Я дрожала и ежилась перед этой картиной.
– Смотри, Никола, природа и здесь подтверждает: позволено убивать, чтобы пропитаться и продолжить род. Один вид животных нападает на другой, совсем как мы, люди. Только мы убиваем и животных, и друг друга, – сказала я ему. – Я вижу здесь и красоту, и смерть.
– Зачем ты столько думаешь о смерти? – удивился он.
На миг мы умолкли. Мы смотрели, как эта красивая, богатейшая дельта, которая восхищает и туристов, и местных жителей, исчезает, задыхаясь в песке, словно ее никогда не бывало. Это потрясло нас обоих.
– Все умирает, даже смерть умирает, перестает существовать, – сказал Никола. – Я не боюсь, ведь мы и так преходящи. Ты пишешь об этом в своих стихах. Говоришь, что лучший цветок иногда умирает и вянет рано. Что здоровые деревья рубят, чтобы строить дома, что войны это грехи вождей, порой даже целых религий. Но ты никогда не говорила о смерти человека. Ты веришь, что душа живет и Бог решает, когда мы должны ее возвратить, ибо она, поистине, дана человеку взаймы. И эта земля, на которую мы смотрим, живет и умирает, преображается. Говорят, она создана термитами – они строят дома из прочного цемента; эта неровная поверхность, эти холмики – кладбища термитов. Я читал, многие верят, что в этой земле есть алмазы. Смертью термитов создана такая красота, и здесь же для кого-то – возможность разбогатеть. Подумай, что сотворят геологические изыскания с этой удивительной дельтой, и радуйся, что видела ее еще нетронутой.
Смерть друга привела меня в смятение, я стала всего бояться. «Все, кого я люблю, умрут», – писала я в дневнике. Я ощущала себя бессильной перед этим напором, который лишает дыхания, гасит все электрические импульсы в умирающем мозгу. Когда снимают электроэнцефалограмму, линия на бумаге регистрирует состояние мозга: прямая линия указывает, что человек мертв.
Я видела его темно-синие глаза в каждом цветке, в звездах, в глазах ангелов и святых. Это была какая-то форма бреда, транса, усиливавшего мою тягу к иконописи, фрескам и мозаикам.
Почти на каждой моей иконе или фреске есть ангел с его лицом и глазами. Если б вы знали Николу, вы бы узнали его и в нынешних моих работах. Время не измеряется календарями и тиканьем часов. Как личность я стала частью того времени, паломницей в прошлое.
Возможно, благодаря вашим замечаниям, размышлениям, музыке, я сумею себя понять. Почему, когда я уходила все глубже в себя, вера во мне росла, отражаясь не только в молитвах, но и в художественной работе? Словно все мои чувства, кроме зрения, умерли вместе с Николой. Я даже месяцами не слушала музыку, хотя она всегда была для меня приятной компанией. Или я стала неисправимой чудачкой?
Родители думали, что моя религиозная страсть – нечто вроде творческого безумия и результат депрессии… Должно быть, я хотела объявить войну этой роковой смерти, утешиться сознанием, что она не сильнее, чем Бог и душа. Смерть не может отнять душу. Она отнимает только тело, которое принадлежит ей, потому что оно земное, как сама смерть. Так, значит, и смерть умирает?!
9
Композитор
Слышите: звякают колокольчики овец в стадах, в долине играет губная гармошка. Обычно слышна свирель. Наверно, это какой-то другой пастух. Смотрите: вон группа детишек – щебечут, как стайка птиц. А как скачут, пытаются перепрыгнуть через лужицы, оставленные порывистым дождем. Дождь хлынул с неба как водопад. О чем они думают, когда видят на горизонте радугу? Они так любят ее рисовать. Потом радуга исчезает с рисунков: волшебные краски созданы преломлением света – слишком разумное объяснение. Чистая невинность детства, верящего в сказки, по мере взросления исчезает. Ускользает мечта и природная любознательность. Мы возвращаемся к ним, когда устаем от жизни, но неискренне и безуспешно. Мы старимся оттого, что перестаем мечтать, оттого, что, потеряв часть детских картинок, потеряли и естественность взгляда на мир. Хорошо старикам, не утратившим искренности: им принадлежит царство небесное.
Я думала о вас и слушала, что говорят другие, когда ходила в библиотеку.
Здешний народ не воспринимает вас как зрелое существо – вы возитесь со своей музыкой вместо того, чтоб заниматься конкретной работой. Некоторые думают, что вы отстали в развитии, хотя все говорят о музыке, которая доносится из вашего дома. Спрашивают, почему она такая серьезная и печальная, хотя окрестные села так смиренны, спокойны, красивы, а монастырь так близко? По пути в монастырь они проходят мимо моего дома и иногда останавливаются послушать. Для них смысл музыки – наслаждение, а не размышление, поэтому они вас избегают. Чудак, говорят они, но уважают ваши познания пчеловода.
Музыка – ваша любовь – восполняет рассказы о судьбах, как мои изобразительные работы, пронизанные верой, но об этом я им ничего не сказала. Может быть, в искусстве есть чуждая им печаль; непонятный звук вызывает страх, как все, что мало знакомо. Они привыкли к песнопениям и звону колоколов, к веселой свадебной народной музыке. Мы, должно быть, кажемся им странными людьми, подверженными душевным расстройствам.
Из-за вашего аристократизма в поведении и одежде (как будто вы всегда готовы пойти на концерт или в оперу), из-за стиля жизни местное население еще больше вас замечает. Вы отличаетесь от всех нас, как заплутавшая птица отличается от остальных. Здесь, вдали от цивилизации, в вас видят чужака, который блуждает в поисках неведомо чего. Может быть, музыка магически влечет вас через эти леса к таинственному приюту, которого нам никогда не открыть? Вы не подходите к этим местам своим внешним видом, но благодаря музыке вы – часть здешнего пейзажа. Думаю, монахини правы: этот мирный фон – колокольца овечьих стад, звон церковных колоколов, тишайшее пение – упорядочивает все те тона, что вас преследуют. Еще они говорят, что ваша душа в смятении и потому ваша музыка печальна. Я поверила им и подумала: хорошо, что вы не сочиняете опер, ведь, вероятней всего, жизнь и роль вашей дивы была бы трагична, как у всех героинь в операх старых итальянских, французских и немецких композиторов.
Только Пуччини своей музыкой сумел в тяжелейший эпизод внести теплую, чувственную и романтичную поэзию – вопреки либретто, трагизму сцены, когда Тоска убивает Скарпио. Даже в известной арии нет ничего трагического. Зная, что ее возлюбленного мучают в соседней комнате, Тоска решает спасти его, удовлетворив желание Скарпио. Похоже, что итальянские композиторы превыше всего ценят красоту звуков, и потому ни оркестр, ни ария Тоски не передают ее действительных чувств. Сценическое действие и музыка тут разминулись, потому что красота выше патологии. А вот Вагнер сопровождает трагические сцены столь же трагической, мрачной музыкой.
Каким было бы ваше либретто? Может быть, ваша героиня не умрет? Может быть, ее судьба не будет похожа на судьбу Мими? Ваш герой не будет нищ и голоден – как Родольфо в «Богеме» (он обогревает свою комнату, как Пуччини, когда был бедным студентом, сжигая свои рукописи). Когда я слушаю «Богему», как только поднимается занавес, я вспоминаю жизнь Джакомо Пуччини, бедного, изголодавшегося студента Миланской консерватории, замерзающего в мансарде, того Пуччини, на которого так похож Родольфо в опере. Именно эта фаза бедности, говорил он, больше всего связала его с Богом и породила незабываемую музыку.
Вы молчите, не раскрываете мне содержания своих опер, а может, вообще над операми не работаете, но я слышу их в становлении, по крайней мере такое у меня предчувствие, судя по некоторым ариям, доносящимся из вашего дома. В этих операх будут вероломные соблазны, трагедии человека в век лагерей, призыв, обращенный к небу, моление о помощи и прощении.
Иногда я подкрадываюсь и, незамеченная, заглядываю в ваше окно, выходящее в сад, на восток, где течет сельский ручей – дети перепрыгивают через него, чтобы скорей дойти до школы. Вы часто меняете маршруты своих долгих утренних прогулок и, возвращаясь с полевыми цветами, без слов оставляете их у моего порога.
Охотней всего вы собираете белые маргаритки, их белизна, с темной чашечкой, дороже вам, чем другие краски этого цветка. Поля здесь покрыты цветочной белизной, подобной чистым, невинным душам монахинь.
Почему вы так любите белый цвет? В нем столько оттенков, невидимых глазу. Белый никогда не бывает одинаков, эту иллюзию создают наши чувства. Вы всегда оставляете и свежий базилик – он растет в изобилии в вашем саду. Откуда вам известно, что именно в нем я ощущаю аромат Николиной души?
Цветы вянут, но иногда засушенный цветок живет в воспоминании того, кто его сорвал, или того, кто был счастлив, когда его получил. Мой гербарий полон. Он вроде дневника, только цветок и я изменяем его взглядом и прикосновением. В нем есть и белая маргаритка из Эфиопии, которую Никола сорвал для меня во время нашего последнего путешествия. Это был первый букет, который я получила.
Недавно меня спросили, что я буду делать, где буду жить, когда завершу работу для монастыря. Я искренне не знала, что ответить. Отъезд в Америку меня пугает, и я откладываю решение. Чего я боюсь на этом старом новом пути, спросите вы. Может быть, одиночества, неизвестности, возвращения к медицине, которая отнимает время, тогда как душа жаждет творить. Может быть, я боюсь искушений, вызывающих телесные и душевные расстройства, или понимания того, что пора собраться с силами и начать искать Андреяну, а это будет нелегко. Но вы еще не знаете, кто она и почему я ее ищу.
Ждете ли вы моей встречи с Андреяной, считая, что это положит конец разговорам-исповедям и пойдет новая жизнь, в которой «слушатель» уже не будет мне нужен? Вы уверены, что только тогда я достигну полной свободы – душа начнет ветвиться, не отягощенная прошлым, в котором она столькому научилась? Или ваше желание, точно соответствующее вашим свойствам, – исчезнуть?
Вы откроете мне, кто вы. Реальность вы или существуете только в фантазии и музыке? А пока продолжим дознание – будьте здесь. Я не способна понять себя, тем более вас, и потому вы хотите «быть только слушателем». Вот и все, что вы когда-либо сказали! Вы не спросили моего имени, но думаю, вы его знаете и, может быть, полагаете, что оно не настоящее. Я тоже не знаю вашего настоящего имени. Я зову вас Спутником, хотя знаю, что им-то вы как раз и не можете быть. Неужели и сокрытие имени – защита от прошлого, от которого мы бежим, или от настоящего, которого мы боимся? Вы молчите, молчите… я не хочу никакого ответа!
Вы кажетесь приветливей, когда занимаетесь пчеловодством. Тогда я убеждена, что вы действительно существуете. Кажется, опять я сказала что-то, что вызвало ваше недоверие. Видно по вашему лицу. Но я сказала правду.
Об увлекательном мире пчел я довольно много знаю от своего дяди. Они реагируют на жару и сушь. Если рамки, чтоб отцедить подсолнечный мед, вынуть в августе, можно вызвать у них эмоциональную реакцию, как у нас, людей. Растения перестают выделять нектар в конце лета, особенно если лето засушливое. Пчелы становятся нервозными и агрессивными. Их мучает жажда, но вода не может ее утолить. Им не хватает нектара, которого они жаждут, ради которого могут и убить. Чтобы их успокоить и предотвратить массовое убийство, надо приоткрыть один из ульев. Их привлечет запах меда, и они, громко жужжа, облепят улей черной тучей, пытаясь прорваться сквозь щели и добраться до меда. Начнется сражение. Грабеж увеличит число убийств, в этой схватке будет много жертв. Обычно пчелиная война происходит днем. Многие умирают на войне, как люди. Когда темнеет, если они не успокоятся, вы поливаете их водой. Многие гибнут и при вашем способе умиротворения. Но если вы опоздаете, начнутся нападения на другие ульи, и весь пчельник превратится в погост. Я слышала, как вы сказали: счастье, когда в войне участвует только один улей.
Войны людей немногим отличаются от пчелиных. Вся человеческая история – грабеж и защита от захватчиков. Вы остро осознаете это, но не допускаете, чтоб вами овладел хаос, не позволяете себе пасть духом. Я видела, как вы молились, здесь, возле других ульев, на которые никто не нападал. Я заметила, два раза в год вы переселяете пчелиные семьи, не трогаете лишь несколько ульев. Это происходит весной, в пору цветения акации, и позднее, когда цветут подсолнухи. Вы это называете – «новый взяток»: каждый улей дает особый мед. В это время вы меня не навещаете целыми днями, и я меньше пишу. Я не слышу музыки из вашего дома, его окна темны, призрачны, неприветливы. Весной на вашем большом участке цветет белый клевер и одуванчики. Луговые цветы, яблоневый, сливовый, липовый цвет дают взяток, богатый пыльцой. Много и других весенних цветов, фруктовых и прочих деревьев. По-моему, самый вкусный и ароматный – мед с полевых цветов и липы.
Вы заботитесь о пчелах так, словно это ваша семья. Иногда зимой подкармливаете ульи сахарномедовыми лепешками – вы делаете их, когда температура сильно падает, потому что матка начинает опять откладывать яйца, ей необходимо питание. Вы сказали игуменье, что весной хорошая матка похожа на розу. Значит, ее облик – знак красоты, здорового труда и радости в улье? Пчелы принимают облик розы – царицы цветов – только в здоровом улье. В некоторых ульях нет матки, и там заводятся ложные матки, в сущности – рабочие пчелы: они питаются маточным молочком, чтобы активизировать свои органы кладки яиц. Строят маточники над личинками трутней, поскольку у них нет гормона феромона, который есть только у маток. Значит ли это, что и у пчел есть классовые и гормональные различия, разные судьбы, обманы, неосуществленные желания – родить, изменить себя, ложно себя подать, – как у людей?
Вы лечите эту проблему, как врач, «шоковой терапией» – закладывая новый маточник на сотах с личинками пчел-работниц на ранней стадии. Мнимые матки встревожены: их игнорируют – это для них знак, что настоящая матка здесь. Это было бы почти грешным деянием, но через несколько дней вы подсаживаете молодую оплодотворенную матку, больной улей выздоравливает и дает отличный мед. Так оправданы ложь и обман. А были бы такие приемы и обман оправданы, если бы их применяли при кризисах ослабленных наций и семей? Вы избегаете моего взгляда, когда я обвиняю вас в манипуляции!
Глядя на вашу работу и читая о мире пчел, я впервые понимаю, что пчеловодство требует терпения, любви и знаний. Смотрю на вас и удивляюсь. Вы включаете им музыку, иногда и поете, когда собираете мед отдельно от каждого взятка. Они вас не жалят, любят вас, музыка их словно гипнотизирует. Ваш голос и нежное прикосновение ваших рук они принимают как влюбленная женщина; даже с нежностью касаются вашего лица и рук, часто ничем не прикрытых. Они знают вас лучше, чем я! Также они умеют выбрать лучший, ароматный цвет и его нектар усердно превращают в мед!
Есть что-то святое, чистое, богоугодное в меде, недаром им угощают гостей в знак приветствия, особенно в монастырях. Может быть, вы не согласитесь, но мне кажется, что жизнь пасеки похожа на человеческие отношения, поэтому я их сравниваю. Ведь и у пчел, если оплодотворение совершается между родственниками, происходит дегенерация, гибель всего улья. Вы пробудили во мне желание читать о пчелах. Я знаю, что не могла бы заниматься разведением пчел и добычей меда. Ведь и для этой профессии, называемой «апитехно-логия», недостаточно знаний, требуется Божий дар. Есть что-то благородное, возвышенное в разведении пчел и уходе за ними. Мне кажется, что пчеловоды, это относится и к вам, шепчут пчелам какие-то слова, которых мы, остальные, слышать не можем. Вы пестуете их, одаряя своим вниманием и музыкой. Может, и звук монастырских колоколов благословляет их полезный труд?
Вы впитываете все, что переживаете и видите, вы ходите с этой драгоценной ношей в одиночестве – лишь со своей музыкой. Вы своего рода отшельник, вам нужно уединение, ваше общество – пчелы и тишина. Мы похожи: и я люблю тишину, колокола и ветер. Я угощу вас вашим подсолнечным медом, который так люблю, не столько за вкус и цвет, сколько оттого, что люблю подсолнухи: эти цветы обращают свою корону к солнцу и небу.
Не думали ли вы когда-нибудь посвятить себя монашеской жизни? Эта мысль иногда ненадолго меня увлекает, но я знаю, что вы все еще носите в себе жажду земных страстей и у вас нет сил, а возможно, и желания от нее освободиться. Иногда мои помыслы грешны, полны злобы и зависти. Это слабость, знак того, что я еще недостаточно обращена к Богу, блуждаю во тьме, уводящей в бездну души, чтобы мучить, манить и терзать мне сердце. Я сознаю, что недостаточно научилась в монастыре тому, что есть истинные ценности. У меня все еще есть потребность в удобствах, я эгоистична, скромность монахинь и удаленность от жизни пугают меня так же, как счастье. Я не готова к счастью, не понимаю, в какой форме оно приходит. В детстве, кажется, у меня был более точный критерий ценности – давать, помогать, – чем потом, в браке, когда я ждала от жизни счастья, а от мужа – что он сделает меня счастливой, и жила в его тени. Не спрашивайте, сколько мне лет, и не говорите, сколько вам, не говорите, откуда вы и чего ищете здесь, среди сестер-монахинь, в монастыре, скрытом в лесу от шума цивилизации и людей. Какую тайну носите вы в своих проницательных глазах и душе, исповедуясь только колоколам и ветру?
10
Колокола и ветер
Не прячемся ли мы – как тени старых деревьев, которые счастливы, когда под ними пробежит олень или серна, – в ожидании, что нечто изменит ход нашей судьбы, войдет в нашу жизнь, принесет смирение, пробудит ощущение, что мы живы? Нас не страшит, что и мы уйдем, но пугает то, что мы можем принадлежать другому. Любовь – наше первое умирание, что иррационально, ведь, любя, мы передаем себя другому. Или это боязнь умереть в другом, тогда как подсознательно мы эгоистически храним свое умирание как собственность? Без этого смерть не страшит нас, хотя мы не существуем без другого. Не кажется ли вам, что верующие люди избегают всякой связи, тем самым охраняя свою веру в воскресение?
Любовь меня покидала чаще, чем я покидала ее. Вам уже известно это из моей исповеди. Вселившийся однажды страх повелевает бежать от мира, от себя, от близости человеческого бытия и тесного общения с людьми. Если б я верила, что вы действительно существуете, – я убежала бы и от вас.
Семьи наши были очень близки. Мой отец учился в Америке, а отец Николы – гениальный изобретатель и лучший студент-химик Белградского университета – получил американскую стипендию. Они говорили на одном языке, у них была одна вера, одни интересы. Позднее отец Николы, сначала в Югославии, а потом и за границей, наладил производство медного купороса. Кроме того, он владел виноградниками в Европе и на родине. Родители Николы были экспортерами изысканных вин и любителями искусств.
Мать не разрешила Николе ходить в школу, боясь, что он заболеет. Позднее я поняла, что у нее были проблемы с мужем. Она решала их, удерживая сына подле себя, как будто знала: пока сын здесь, до развода дело не дойдет. Ему было позволено дружить только со мной. Он никогда не спорил, в домашних воспитателях обрел интересных учителей и наставников и, думаю, был счастлив.
Николе было пятнадцать лет, когда он утонул. Он много путешествовал, был образован, ласков в обхождении со всеми. Знакомил меня с европейской литературой и музыкой. Был моим советчиком во всем. Я слушала друга и удивлялась его познаниям. В разлуке нас сближала переписка. В каждом его письме была картинка – какое-нибудь воспоминание о наших путешествиях, а возле подписи всегда белая маргаритка. Мне казалось, я совсем дуреха в сравнении с ним. Семьи планировали совместные путешествия по свету. Никола хорошо знал, что именно нам надо посмотреть.
Не сердитесь, я хочу побыть одна. Нет, я не буду плакать, он не хотел бы этого. Без него рухнуло все, я постоянно думаю о нем, все начинаю с его имени, особенно здесь, вблизи монастыря.
8
И смерть умирает
Вспоминаю наше последнее путешествие в Маун, центр сафари, незадолго до этой трагедии. Мы посетили Африку зимой, в мои школьные каникулы, в сезон дождей. Реки здесь только тогда полноводны, в другое время – невыносимая сушь и тропическая жара. Маун находится в верхней части дельты Окаванго, где мы, туристы, развлекались сафари.
Никогда не забуду, какая там была заря, каким светом занимался день. Солнце – огромный огненный мяч – появлялось на горизонте и, меняя цвет, постепенно уменьшалось. Мы любовались самой большой дельтой на свете. Всласть катались на длинных лодках, называемых мокорои, разглядывали растения, гиппопотамов, антилоп и бизонов. Животные не вызывали у меня страха. Вода была чистая. Заросли папируса создавали специфический колорит: все было словно заштриховано золотом. Мы наслаждались тишиной и красотой дикой природы. Когда мы добрались до края дельты, где водятся крокодилы, Никола держал меня за руку и ободрял:
– Я спасу тебя, ты же знаешь, я отличный пловец и никогда не допущу, чтобы с тобой что-нибудь случилось.
Мне нравились эти слова. Я верила, что он от всего может меня защитить. Нас обоих удивило, что огромная дельта не впадает в океан. Мы смотрели в небо: там, прямо над нами, кружили орлы и со скоростью, неуловимой для камеры, обрушивались вниз, чтоб ловко выхватить рыбу из воды. Я дрожала и ежилась перед этой картиной.
– Смотри, Никола, природа и здесь подтверждает: позволено убивать, чтобы пропитаться и продолжить род. Один вид животных нападает на другой, совсем как мы, люди. Только мы убиваем и животных, и друг друга, – сказала я ему. – Я вижу здесь и красоту, и смерть.
– Зачем ты столько думаешь о смерти? – удивился он.
На миг мы умолкли. Мы смотрели, как эта красивая, богатейшая дельта, которая восхищает и туристов, и местных жителей, исчезает, задыхаясь в песке, словно ее никогда не бывало. Это потрясло нас обоих.
– Все умирает, даже смерть умирает, перестает существовать, – сказал Никола. – Я не боюсь, ведь мы и так преходящи. Ты пишешь об этом в своих стихах. Говоришь, что лучший цветок иногда умирает и вянет рано. Что здоровые деревья рубят, чтобы строить дома, что войны это грехи вождей, порой даже целых религий. Но ты никогда не говорила о смерти человека. Ты веришь, что душа живет и Бог решает, когда мы должны ее возвратить, ибо она, поистине, дана человеку взаймы. И эта земля, на которую мы смотрим, живет и умирает, преображается. Говорят, она создана термитами – они строят дома из прочного цемента; эта неровная поверхность, эти холмики – кладбища термитов. Я читал, многие верят, что в этой земле есть алмазы. Смертью термитов создана такая красота, и здесь же для кого-то – возможность разбогатеть. Подумай, что сотворят геологические изыскания с этой удивительной дельтой, и радуйся, что видела ее еще нетронутой.
Смерть друга привела меня в смятение, я стала всего бояться. «Все, кого я люблю, умрут», – писала я в дневнике. Я ощущала себя бессильной перед этим напором, который лишает дыхания, гасит все электрические импульсы в умирающем мозгу. Когда снимают электроэнцефалограмму, линия на бумаге регистрирует состояние мозга: прямая линия указывает, что человек мертв.
Я видела его темно-синие глаза в каждом цветке, в звездах, в глазах ангелов и святых. Это была какая-то форма бреда, транса, усиливавшего мою тягу к иконописи, фрескам и мозаикам.
Почти на каждой моей иконе или фреске есть ангел с его лицом и глазами. Если б вы знали Николу, вы бы узнали его и в нынешних моих работах. Время не измеряется календарями и тиканьем часов. Как личность я стала частью того времени, паломницей в прошлое.
Возможно, благодаря вашим замечаниям, размышлениям, музыке, я сумею себя понять. Почему, когда я уходила все глубже в себя, вера во мне росла, отражаясь не только в молитвах, но и в художественной работе? Словно все мои чувства, кроме зрения, умерли вместе с Николой. Я даже месяцами не слушала музыку, хотя она всегда была для меня приятной компанией. Или я стала неисправимой чудачкой?
Родители думали, что моя религиозная страсть – нечто вроде творческого безумия и результат депрессии… Должно быть, я хотела объявить войну этой роковой смерти, утешиться сознанием, что она не сильнее, чем Бог и душа. Смерть не может отнять душу. Она отнимает только тело, которое принадлежит ей, потому что оно земное, как сама смерть. Так, значит, и смерть умирает?!
9
Композитор
Слышите: звякают колокольчики овец в стадах, в долине играет губная гармошка. Обычно слышна свирель. Наверно, это какой-то другой пастух. Смотрите: вон группа детишек – щебечут, как стайка птиц. А как скачут, пытаются перепрыгнуть через лужицы, оставленные порывистым дождем. Дождь хлынул с неба как водопад. О чем они думают, когда видят на горизонте радугу? Они так любят ее рисовать. Потом радуга исчезает с рисунков: волшебные краски созданы преломлением света – слишком разумное объяснение. Чистая невинность детства, верящего в сказки, по мере взросления исчезает. Ускользает мечта и природная любознательность. Мы возвращаемся к ним, когда устаем от жизни, но неискренне и безуспешно. Мы старимся оттого, что перестаем мечтать, оттого, что, потеряв часть детских картинок, потеряли и естественность взгляда на мир. Хорошо старикам, не утратившим искренности: им принадлежит царство небесное.
Я думала о вас и слушала, что говорят другие, когда ходила в библиотеку.
Здешний народ не воспринимает вас как зрелое существо – вы возитесь со своей музыкой вместо того, чтоб заниматься конкретной работой. Некоторые думают, что вы отстали в развитии, хотя все говорят о музыке, которая доносится из вашего дома. Спрашивают, почему она такая серьезная и печальная, хотя окрестные села так смиренны, спокойны, красивы, а монастырь так близко? По пути в монастырь они проходят мимо моего дома и иногда останавливаются послушать. Для них смысл музыки – наслаждение, а не размышление, поэтому они вас избегают. Чудак, говорят они, но уважают ваши познания пчеловода.
Музыка – ваша любовь – восполняет рассказы о судьбах, как мои изобразительные работы, пронизанные верой, но об этом я им ничего не сказала. Может быть, в искусстве есть чуждая им печаль; непонятный звук вызывает страх, как все, что мало знакомо. Они привыкли к песнопениям и звону колоколов, к веселой свадебной народной музыке. Мы, должно быть, кажемся им странными людьми, подверженными душевным расстройствам.
Из-за вашего аристократизма в поведении и одежде (как будто вы всегда готовы пойти на концерт или в оперу), из-за стиля жизни местное население еще больше вас замечает. Вы отличаетесь от всех нас, как заплутавшая птица отличается от остальных. Здесь, вдали от цивилизации, в вас видят чужака, который блуждает в поисках неведомо чего. Может быть, музыка магически влечет вас через эти леса к таинственному приюту, которого нам никогда не открыть? Вы не подходите к этим местам своим внешним видом, но благодаря музыке вы – часть здешнего пейзажа. Думаю, монахини правы: этот мирный фон – колокольца овечьих стад, звон церковных колоколов, тишайшее пение – упорядочивает все те тона, что вас преследуют. Еще они говорят, что ваша душа в смятении и потому ваша музыка печальна. Я поверила им и подумала: хорошо, что вы не сочиняете опер, ведь, вероятней всего, жизнь и роль вашей дивы была бы трагична, как у всех героинь в операх старых итальянских, французских и немецких композиторов.
Только Пуччини своей музыкой сумел в тяжелейший эпизод внести теплую, чувственную и романтичную поэзию – вопреки либретто, трагизму сцены, когда Тоска убивает Скарпио. Даже в известной арии нет ничего трагического. Зная, что ее возлюбленного мучают в соседней комнате, Тоска решает спасти его, удовлетворив желание Скарпио. Похоже, что итальянские композиторы превыше всего ценят красоту звуков, и потому ни оркестр, ни ария Тоски не передают ее действительных чувств. Сценическое действие и музыка тут разминулись, потому что красота выше патологии. А вот Вагнер сопровождает трагические сцены столь же трагической, мрачной музыкой.
Каким было бы ваше либретто? Может быть, ваша героиня не умрет? Может быть, ее судьба не будет похожа на судьбу Мими? Ваш герой не будет нищ и голоден – как Родольфо в «Богеме» (он обогревает свою комнату, как Пуччини, когда был бедным студентом, сжигая свои рукописи). Когда я слушаю «Богему», как только поднимается занавес, я вспоминаю жизнь Джакомо Пуччини, бедного, изголодавшегося студента Миланской консерватории, замерзающего в мансарде, того Пуччини, на которого так похож Родольфо в опере. Именно эта фаза бедности, говорил он, больше всего связала его с Богом и породила незабываемую музыку.
Вы молчите, не раскрываете мне содержания своих опер, а может, вообще над операми не работаете, но я слышу их в становлении, по крайней мере такое у меня предчувствие, судя по некоторым ариям, доносящимся из вашего дома. В этих операх будут вероломные соблазны, трагедии человека в век лагерей, призыв, обращенный к небу, моление о помощи и прощении.
Иногда я подкрадываюсь и, незамеченная, заглядываю в ваше окно, выходящее в сад, на восток, где течет сельский ручей – дети перепрыгивают через него, чтобы скорей дойти до школы. Вы часто меняете маршруты своих долгих утренних прогулок и, возвращаясь с полевыми цветами, без слов оставляете их у моего порога.
Охотней всего вы собираете белые маргаритки, их белизна, с темной чашечкой, дороже вам, чем другие краски этого цветка. Поля здесь покрыты цветочной белизной, подобной чистым, невинным душам монахинь.
Почему вы так любите белый цвет? В нем столько оттенков, невидимых глазу. Белый никогда не бывает одинаков, эту иллюзию создают наши чувства. Вы всегда оставляете и свежий базилик – он растет в изобилии в вашем саду. Откуда вам известно, что именно в нем я ощущаю аромат Николиной души?
Цветы вянут, но иногда засушенный цветок живет в воспоминании того, кто его сорвал, или того, кто был счастлив, когда его получил. Мой гербарий полон. Он вроде дневника, только цветок и я изменяем его взглядом и прикосновением. В нем есть и белая маргаритка из Эфиопии, которую Никола сорвал для меня во время нашего последнего путешествия. Это был первый букет, который я получила.
Недавно меня спросили, что я буду делать, где буду жить, когда завершу работу для монастыря. Я искренне не знала, что ответить. Отъезд в Америку меня пугает, и я откладываю решение. Чего я боюсь на этом старом новом пути, спросите вы. Может быть, одиночества, неизвестности, возвращения к медицине, которая отнимает время, тогда как душа жаждет творить. Может быть, я боюсь искушений, вызывающих телесные и душевные расстройства, или понимания того, что пора собраться с силами и начать искать Андреяну, а это будет нелегко. Но вы еще не знаете, кто она и почему я ее ищу.
Ждете ли вы моей встречи с Андреяной, считая, что это положит конец разговорам-исповедям и пойдет новая жизнь, в которой «слушатель» уже не будет мне нужен? Вы уверены, что только тогда я достигну полной свободы – душа начнет ветвиться, не отягощенная прошлым, в котором она столькому научилась? Или ваше желание, точно соответствующее вашим свойствам, – исчезнуть?
Вы откроете мне, кто вы. Реальность вы или существуете только в фантазии и музыке? А пока продолжим дознание – будьте здесь. Я не способна понять себя, тем более вас, и потому вы хотите «быть только слушателем». Вот и все, что вы когда-либо сказали! Вы не спросили моего имени, но думаю, вы его знаете и, может быть, полагаете, что оно не настоящее. Я тоже не знаю вашего настоящего имени. Я зову вас Спутником, хотя знаю, что им-то вы как раз и не можете быть. Неужели и сокрытие имени – защита от прошлого, от которого мы бежим, или от настоящего, которого мы боимся? Вы молчите, молчите… я не хочу никакого ответа!
Вы кажетесь приветливей, когда занимаетесь пчеловодством. Тогда я убеждена, что вы действительно существуете. Кажется, опять я сказала что-то, что вызвало ваше недоверие. Видно по вашему лицу. Но я сказала правду.
Об увлекательном мире пчел я довольно много знаю от своего дяди. Они реагируют на жару и сушь. Если рамки, чтоб отцедить подсолнечный мед, вынуть в августе, можно вызвать у них эмоциональную реакцию, как у нас, людей. Растения перестают выделять нектар в конце лета, особенно если лето засушливое. Пчелы становятся нервозными и агрессивными. Их мучает жажда, но вода не может ее утолить. Им не хватает нектара, которого они жаждут, ради которого могут и убить. Чтобы их успокоить и предотвратить массовое убийство, надо приоткрыть один из ульев. Их привлечет запах меда, и они, громко жужжа, облепят улей черной тучей, пытаясь прорваться сквозь щели и добраться до меда. Начнется сражение. Грабеж увеличит число убийств, в этой схватке будет много жертв. Обычно пчелиная война происходит днем. Многие умирают на войне, как люди. Когда темнеет, если они не успокоятся, вы поливаете их водой. Многие гибнут и при вашем способе умиротворения. Но если вы опоздаете, начнутся нападения на другие ульи, и весь пчельник превратится в погост. Я слышала, как вы сказали: счастье, когда в войне участвует только один улей.
Войны людей немногим отличаются от пчелиных. Вся человеческая история – грабеж и защита от захватчиков. Вы остро осознаете это, но не допускаете, чтоб вами овладел хаос, не позволяете себе пасть духом. Я видела, как вы молились, здесь, возле других ульев, на которые никто не нападал. Я заметила, два раза в год вы переселяете пчелиные семьи, не трогаете лишь несколько ульев. Это происходит весной, в пору цветения акации, и позднее, когда цветут подсолнухи. Вы это называете – «новый взяток»: каждый улей дает особый мед. В это время вы меня не навещаете целыми днями, и я меньше пишу. Я не слышу музыки из вашего дома, его окна темны, призрачны, неприветливы. Весной на вашем большом участке цветет белый клевер и одуванчики. Луговые цветы, яблоневый, сливовый, липовый цвет дают взяток, богатый пыльцой. Много и других весенних цветов, фруктовых и прочих деревьев. По-моему, самый вкусный и ароматный – мед с полевых цветов и липы.
Вы заботитесь о пчелах так, словно это ваша семья. Иногда зимой подкармливаете ульи сахарномедовыми лепешками – вы делаете их, когда температура сильно падает, потому что матка начинает опять откладывать яйца, ей необходимо питание. Вы сказали игуменье, что весной хорошая матка похожа на розу. Значит, ее облик – знак красоты, здорового труда и радости в улье? Пчелы принимают облик розы – царицы цветов – только в здоровом улье. В некоторых ульях нет матки, и там заводятся ложные матки, в сущности – рабочие пчелы: они питаются маточным молочком, чтобы активизировать свои органы кладки яиц. Строят маточники над личинками трутней, поскольку у них нет гормона феромона, который есть только у маток. Значит ли это, что и у пчел есть классовые и гормональные различия, разные судьбы, обманы, неосуществленные желания – родить, изменить себя, ложно себя подать, – как у людей?
Вы лечите эту проблему, как врач, «шоковой терапией» – закладывая новый маточник на сотах с личинками пчел-работниц на ранней стадии. Мнимые матки встревожены: их игнорируют – это для них знак, что настоящая матка здесь. Это было бы почти грешным деянием, но через несколько дней вы подсаживаете молодую оплодотворенную матку, больной улей выздоравливает и дает отличный мед. Так оправданы ложь и обман. А были бы такие приемы и обман оправданы, если бы их применяли при кризисах ослабленных наций и семей? Вы избегаете моего взгляда, когда я обвиняю вас в манипуляции!
Глядя на вашу работу и читая о мире пчел, я впервые понимаю, что пчеловодство требует терпения, любви и знаний. Смотрю на вас и удивляюсь. Вы включаете им музыку, иногда и поете, когда собираете мед отдельно от каждого взятка. Они вас не жалят, любят вас, музыка их словно гипнотизирует. Ваш голос и нежное прикосновение ваших рук они принимают как влюбленная женщина; даже с нежностью касаются вашего лица и рук, часто ничем не прикрытых. Они знают вас лучше, чем я! Также они умеют выбрать лучший, ароматный цвет и его нектар усердно превращают в мед!
Есть что-то святое, чистое, богоугодное в меде, недаром им угощают гостей в знак приветствия, особенно в монастырях. Может быть, вы не согласитесь, но мне кажется, что жизнь пасеки похожа на человеческие отношения, поэтому я их сравниваю. Ведь и у пчел, если оплодотворение совершается между родственниками, происходит дегенерация, гибель всего улья. Вы пробудили во мне желание читать о пчелах. Я знаю, что не могла бы заниматься разведением пчел и добычей меда. Ведь и для этой профессии, называемой «апитехно-логия», недостаточно знаний, требуется Божий дар. Есть что-то благородное, возвышенное в разведении пчел и уходе за ними. Мне кажется, что пчеловоды, это относится и к вам, шепчут пчелам какие-то слова, которых мы, остальные, слышать не можем. Вы пестуете их, одаряя своим вниманием и музыкой. Может, и звук монастырских колоколов благословляет их полезный труд?
Вы впитываете все, что переживаете и видите, вы ходите с этой драгоценной ношей в одиночестве – лишь со своей музыкой. Вы своего рода отшельник, вам нужно уединение, ваше общество – пчелы и тишина. Мы похожи: и я люблю тишину, колокола и ветер. Я угощу вас вашим подсолнечным медом, который так люблю, не столько за вкус и цвет, сколько оттого, что люблю подсолнухи: эти цветы обращают свою корону к солнцу и небу.
Не думали ли вы когда-нибудь посвятить себя монашеской жизни? Эта мысль иногда ненадолго меня увлекает, но я знаю, что вы все еще носите в себе жажду земных страстей и у вас нет сил, а возможно, и желания от нее освободиться. Иногда мои помыслы грешны, полны злобы и зависти. Это слабость, знак того, что я еще недостаточно обращена к Богу, блуждаю во тьме, уводящей в бездну души, чтобы мучить, манить и терзать мне сердце. Я сознаю, что недостаточно научилась в монастыре тому, что есть истинные ценности. У меня все еще есть потребность в удобствах, я эгоистична, скромность монахинь и удаленность от жизни пугают меня так же, как счастье. Я не готова к счастью, не понимаю, в какой форме оно приходит. В детстве, кажется, у меня был более точный критерий ценности – давать, помогать, – чем потом, в браке, когда я ждала от жизни счастья, а от мужа – что он сделает меня счастливой, и жила в его тени. Не спрашивайте, сколько мне лет, и не говорите, сколько вам, не говорите, откуда вы и чего ищете здесь, среди сестер-монахинь, в монастыре, скрытом в лесу от шума цивилизации и людей. Какую тайну носите вы в своих проницательных глазах и душе, исповедуясь только колоколам и ветру?
10
Колокола и ветер
Не прячемся ли мы – как тени старых деревьев, которые счастливы, когда под ними пробежит олень или серна, – в ожидании, что нечто изменит ход нашей судьбы, войдет в нашу жизнь, принесет смирение, пробудит ощущение, что мы живы? Нас не страшит, что и мы уйдем, но пугает то, что мы можем принадлежать другому. Любовь – наше первое умирание, что иррационально, ведь, любя, мы передаем себя другому. Или это боязнь умереть в другом, тогда как подсознательно мы эгоистически храним свое умирание как собственность? Без этого смерть не страшит нас, хотя мы не существуем без другого. Не кажется ли вам, что верующие люди избегают всякой связи, тем самым охраняя свою веру в воскресение?
Любовь меня покидала чаще, чем я покидала ее. Вам уже известно это из моей исповеди. Вселившийся однажды страх повелевает бежать от мира, от себя, от близости человеческого бытия и тесного общения с людьми. Если б я верила, что вы действительно существуете, – я убежала бы и от вас.