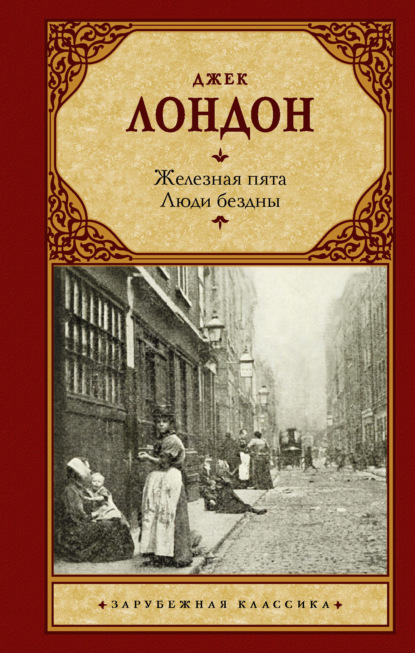По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Железная пята. Люди бездны
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Среди нас присутствует представитель рабочего класса. Не сомневаюсь, что мы можем услышать от него много нового и поучительного. Попросим же мистера Эвергарда высказаться.
Все любезно поддержали это предложение. Их преподобия с таким снисходительным видом приготовились слушать молодого оратора, что только-только не хлопали его по плечу. Я заметила, что Эрнест это чувствует и потешается в душе. Он медленно обвел глазами весь стол, и я опять уловила в них искорки смеха.
– Я не искушен в учтивостях церковных словопрений, – начал он и замялся, по-видимому, борясь с робостью и смущением.
– Просим, просим! – раздалось со всех сторон, а доктор Гаммерфилд сказал:
– Мы приветствуем слово истины, от кого бы оно ни исходило. – И прибавил: – Если оно сказано от чистого сердца.
– Так, по-вашему, истина может исходить и не от чистого сердца? – усмехнулся Эрнест.
Доктор Гаммерфилд оторопел, однако вышел из положения:
– Даже лучшие из нас ошибаются, молодой человек, даже лучшие…
Тон Эрнеста мгновенно изменился. Сейчас это был совсем другой человек.
– Отлично, – сказал он резко. – Тогда начну с того, что все вы жестоко ошибаетесь. Никто из вас понятия не имеет о рабочем классе. Мало того, вы на него клевещете. Ваша социология так же порочна и бесплодна, как и весь ваш метод мышления.
Поражали не столько слова, сколько тон, каким они были сказаны. При звуках этого голоса я встрепенулась. В нем было столько же смелости, сколько и во взгляде Эрнеста. Он звучал как призывный горн и отозвался во мне глубоким волнением. Да и все за столом оживились. Безразличие и сонливость как рукой сняло.
– В чем же, молодой человек, выражается бесплодность и вопиющая порочность нашего метода мышления? – вскинулся Гаммерфилд; ни в его голосе, ни в тоне не осталось и следа прежнего добродушия.
– Вы, господа, метафизики! С помощью метафизики вы можете доказать все, что вашей душе угодно. А доказав, вывести черным по белому, что все остальные метафизики ошибаются, после чего вам останется только почить на лаврах. В сфере мысли вы совершеннейшие анархисты. Вы рехнувшиеся изобретатели космогонических систем. Каждый из вас обитает в собственной вселенной, оборудованной по его собственному вкусу и разумению. Вы плохо представляете себе окружающий мир, вашим измышлениям нет места в реальном мире, разве что в качестве примера умственной аберрации.
Знаете ли вы, о чем я думал, сидя за этим столом и слушая ваши бесконечные разговоры? Вы мне напомнили средневековых схоластов, которые самым серьезным образом исследовали и обсуждали животрепещущий вопрос о том, сколько ангелов может уместиться на острие иглы. Вы, дражайшие сэры, так же далеки от интеллектуальной жизни двадцатого столетия, как индеец-шаман, десять тысяч лет назад творивший заклинания в глуши девственного леса.
Казалось, Эрнест охвачен негодованием. Лицо его пылало, глаза метали молнии, в губах и подбородке чувствовалась сосредоточенная ярость. Но такова была его манера спорить – он старался разжечь противника, вывести его из себя. Его размашистые, разящие удары, сокрушительные, как удары кузнечного молота, лишали собеседника самообладания. Это и случилось с нашими гостями. Епископ Морхауз наклонился вперед и ловил каждое слово Эрнеста. Лицо доктора Гаммерфилда побагровело от возмущения и гнева. Возмущение овладело всеми, хотя кое-кто улыбался иронически, с видом насмешливого превосходства. Что касается меня, то я наслаждалась общим смятением. Искоса поглядывая на отца, я видела, что он от души радуется действию бомбы, которая его стараниями попала в нашу столовую.
– Вы выражаетесь крайне туманно, – прервал оратора доктор Гаммерфилд. – Что, собственно, вы хотите сказать, называя нас метафизиками?
– Я называю вас метафизиками потому, что вы рассуждаете как метафизики, – отвечал Эрнест. – Весь ход ваших рассуждений противоречит научному мышлению. Ваши выводы взяты с потолка. Вы можете доказать все, что вам угодно, и это совершенно впустую, так как каждый из вас всегда остается при особом мнении. Вы ищете объяснения Вселенной и самих себя в собственном сознании. Но скорее вы оторветесь от земли, ухватив себя за уши, чем объясните сознание сознанием.
– Я не совсем понимаю, – отозвался епископ Морхауз. – Ведь если говорить о явлениях духовного мира, то все они относятся к области метафизики. Самая точная и убедительная из наук – математика – тоже чистейшая метафизика. Мысль ученого всегда воспаряет в метафизику. С этим-то вы согласны?
– Я согласен, что вы не понимаете, как сами сказали, – возразил Эрнест. – Метафизик в своих рассуждениях пользуется дедуктивным методом, исходит из ложных предпосылок. Ученый же пользуется индуктивным методом, исходит из данных опыта. Метафизик от теории идет к фактам, ученый от фактов – к теории. Метафизик, отправляясь от себя, хочет объяснить весь мир. Ученый, познавая мир, познает самого себя.
– Хвала Создателю, мы не ученые, – самодовольно осклабился доктор Гаммерфилд.
– Кто же вы? – обратился к нему Эрнест.
– Философы.
– Вот именно, – рассмеялся Эрнест. – Вы оторвались от твердой, устойчивой земли и витаете в облаках, а между тем ваш летательный аппарат – это одна словесность. Но, может быть, вы спуститесь на землю и скажете мне, только поточнее, что называете философией?
– Философия – это… – Доктор Гаммерфилд откашлялся. – Это нечто, что не поддается объяснению и доступно только людям того склада ума, который можно назвать философским. Ограниченный ученый, уткнувшийся в свою пробирку, никогда не поймет, что такое философия.
Но Эрнест презрел этот выпад. Его обычным приемом было бить противника его же оружием, что он теперь и сделал с видом самого братского расположения.
– В таком случае, надеюсь, вы поймете то определение философии, которое я намерен вам предложить. Но только предупреждаю: вам придется либо его опровергнуть, либо сложить оружие и отныне оставаться метафизиком про себя. Философия – это всего лишь наиболее объемлющая из наук. По своему методу она нисколько не отличается от любой точной науки, равно как и от всех наук вместе взятых. Пользуясь этим методом, а именно методом индуктивным, философия объединяет все знания в одну великую науку. По словам Спенсера, данные каждой отдельной науки представляют собой частицу единого знания. Философия же объединяет те познания, которые составляют вклад отдельных наук. Философия есть, таким образом, наука наук, наука в точном смысле слова, если хотите. Ну, что скажете о моем определении?
– Похвально, весьма похвально, – промямлил доктор Гаммерфилд.
Но Эрнест был неумолим.
– Не забывайте, – предостерег он, – что от этого определения не поздоровится вашей метафизике; раз вы его не опровергаете, значит, вы побитый метафизик и вам больше не подобает выступать на этом поприще. Придется вам теперь перейти на положение метафизика в отставке или искать изъяна в моих рассуждениях, до тех пор пока вас не осенит счастливая догадка.
Эрнест ждал ответа. Наступило тягостное молчание, особенно томительное для доктора Гаммерфилда. Он, видимо, был даже не столько задет, сколько озадачен. Аргументы Эрнеста, увесистые, как удары кузнечного молота, оглушили его. Прямые и открытые методы спора были ему, очевидно, в новинку. Почтенный доктор жалобно оглядел своих сотрапезников, но ни один не пришел ему на помощь. Я заметила, что папа смеется, закрывшись салфеткой.
– Существует и другой метод дискредитации метафизиков, – продолжал Эрнест, когда поражение доктора Гаммерфилда стало для всех очевидным. – Это судить о них по их делам. Что сделали для человечества метафизики, кроме того, что пичкали его всякими бреднями и выдавали ему свои собственные тени за богов? Развлекали его на все лады? Согласен. Но какую они принесли ощутимую пользу? Они разводили философию – да простится мне неправильное употребление этого слова – по поводу того, что сердце есть вместилище страстей, в то время как ученые исследовали законы кровообращения. Они провозглашали, что голод и чума – это кары небесные, между тем как ученые строили элеваторы и проводили в городах канализацию. Они создавали богов по своему образу и подобию, в то время как ученые строили мосты и прокладывали дороги. Они заявляли, что Земля – пуп Вселенной, а ученые в это время открывали Америку и исследовали пространство в поисках новых звезд и законов, управляющих движением звезд. Словом, метафизики ничего – ровным счетом ничего – не сделали для человечества. По мере того как наука двигалась вперед, метафизики шаг за шагом сдавали свои позиции. Но как только новые научные данные опрокидывали их субъективные теории, они выдумывали новые субъективные теории, предусмотрительно расчистив в них местечко для новооткрытых данных. Этим они и будут пробавляться до скончания века. Метафизики, господа, – это шаманы. Разница между вами и эскимосами, чей бог носит оленью шкуру и питается ворванью, – это тысячелетиями накопленный опыт, и только.
– Мысль Аристотеля владычествовала в Европе двенадцать столетий, – напыщенно провозгласил доктор Боллингфорд. – Хотя Аристотель был метафизиком.
Сказав это, он обвел глазами присутствующих, с удовлетворением отмечая сочувственные улыбки и одобрительные кивки.
– Ваш пример неудачен, – возразил Эрнест. – Вы ссылаетесь на самый темный период истории. Он так и называется: «темное Средневековье». Это был период, когда метафизика подавила науку. Физику она свела к поискам философского камня, химию – к алхимии, астрономию – к астрологии. Ваше «владычество Аристотелевой мысли» – битая карта!
Доктор Боллингфорд явно приуныл. Затем лицо его прояснилось.
– Да, все ужасы, которые вы нам изобразили, бесспорно, имели место. Но согласитесь, что та же метафизика заключала в себе и силы, которые вывели человечество из мрака Средневековья к свету последующих столетий.
– Метафизика тут ни при чем, – отрезал Эрнест.
– Как? – вскричал доктор Гаммерфилд. – Разве умозрительная философия и спекулятивное мышление не породили эру кругосветных путешествий и великих открытий?
Эрнест с улыбкой повернулся к нему.
– Дражайший сэр, вас, помнится, лишили права публичных выступлений. Ведь вы так и не опровергли мое определение философии. Вы теперь у нас на птичьих правах, но так как это участь всех метафизиков, я, так и быть, прощаю вас. Повторяю: не метафизика породила эру великих открытий. Хлеб насущный, шелка, драгоценности, золото, наконец, закрытие сухопутных путей в Индию – вот то, что заставило человека пуститься в плавание к далеким берегам. После падения Константинополя в тысяча четыреста пятьдесят третьем году турки закрыли караванные пути, по которым европейские купцы ездили в Индию. Пришлось искать новые пути. Вот чем было вызвано развитие мореплавания. Вот чем было вызвано и путешествие Колумба. Вы найдете это в любом учебнике истории. А заодно были добыты новые данные о размерах, форме и строении Земли, в результате чего система Птолемея полетела вверх тормашками.
Доктор Гаммерфилд фыркнул.
– Вы не согласны? – обратился к нему Эрнест. – В чем же, скажите, я не прав?
– Я не согласен, вот и все, – огрызнулся доктор Гаммерфилд. – Эта тема завела бы нас слишком далеко в дебри философии.
– Науке не страшны никакие дебри и никакие дали, – кротко ответил Эрнест. – Потому-то она и добилась кой-чего. Потому-то она и открыла Америку.
Я не стану описывать весь вечер, хотя для меня нет большей радости, чем вспоминать каждую подробность моего первого знакомства с Эрнестом Эвергардом.
Битва продолжалась все с тем же ожесточением, и наши гости все больше багровели и кипятились, особенно когда Эрнест стал честить их такими словами, как «горе-философы», «очковтиратели» и тому подобное. И все время он отсылал их к фактам. «Факт, сударь, неопровержимый факт!» – восклицал он торжествующе, уложив противника на обе лопатки. Факты были его оружием. И он засыпал ими противника, загонял в ловушки и ямы, обрушивал на него смертоносный огонь фактов.
– Вы, очевидно, молитесь фактам, – съязвил доктор Гаммерфилд.
– Нет бога, кроме факта, и мистер Эвергард – пророк его, – вторил ему доктор Боллингфорд.
Эрнест весело кивнул в знак согласия.
– Я как тот техасец, – сказал он и, заметив, что от него ждут разъяснений, продолжил: – Уроженец штата Миссури всегда скажет вам: «Не поверю, пока сам не увижу», – техасец же скажет: «Не поверю, пока не подержу в руках». Из чего следует, что он отнюдь не метафизик.