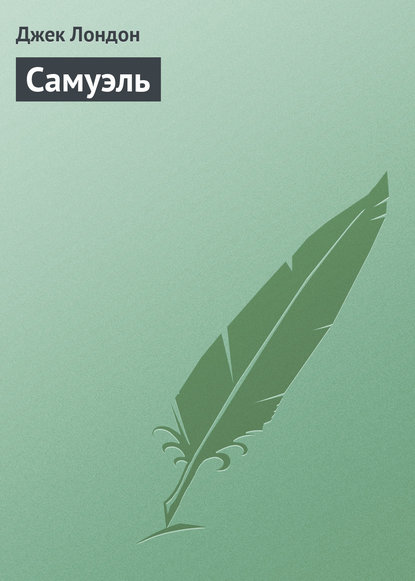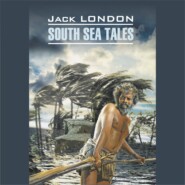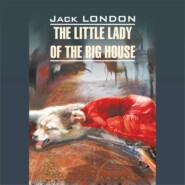По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Самуэль
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
«Клади руль, черт тебя дери! Оглох ты, что ли? Клади руль!»
Очевидно, пьяным везет, потому что иначе ничем нельзя объяснить, каким образом «Стэрри Грэйс» шел при такой погоде, не зачерпнув ни одного ведра воды, хотя нужно сказать, что помощники старались вовсю, а матросы носились как сумасшедшие. Капитан самодовольно хихикнул и отправился в каюту, чтобы хлопнуть еще виски. Он, очевидно, решил всех нас этим поразить, ибо самое большое судно не могло бы идти при такой буре. Я в жизни не видал ничего подобного. Нельзя даже вообразить, что творилось на море, а я ведь плаваю уже сорок лет, начав еще мальчишкой. Ей-богу, это было нечто неслыханное.
Младший помощник побледнел как смерть. Простояв на мостике полчаса, он спустился вниз и послал себе на смену Самуэля. Ах, какой моряк был этот Самуэль! Но даже он с трудом выдерживал.
Он глядел по сторонам и думал, что предпринять, и ничего не мог придумать. Прежде чем судно могло бы взять правильный курс, с него смыло бы всю команду и его разбило бы вдрызг. Ничего не оставалось, как продолжать идти дальше. Мы все равно знали, что всем нам пришла крышка, и что если ветер усилится, всех нас смоет в море.
Я, кажется, сказал, что бог послал эту бурю. Нет! Скорее ее накликал на нас сам дьявол. Я видал виды на своем веку, смею вас уверить, но я бы не хотел вторично пережить такую бурю. Никто не решался оставаться в каюте. На палубе тоже никого не было. Все матросы столпились на мостике и наблюдали, держась за что попало. Трое помощников стояли на корме, и только эта пьяная скотина капитан валялся внизу в каюте.
Вдруг я вижу, что на расстоянии мили от нас поднимается такая огромная волна, какой я никогда в жизни не видал. Трое помощников, стоявшие рядом со мною, тоже заметили ее приближение, и все мы начали молиться, чтобы она не обрушилась на нас. Но, очевидно, не так-то было угодно богу. Перед самым носом судна волна вдруг взвилась чуть ли не до неба, подобно огромной горе, при чем штурманы бросились в разные стороны, второй и третий помощники полезли на бизань-мачту, но старший помощник – Самуэль Хэнэн – ах, какой был храбрый человек! – бросился к рулевым, чтобы помочь им. Он не думал о себе, а думал только о спасении судна.
Двое рулевых были привязаны к штурвалу, но он хотел их заменить на тот случай, если бы они погибли. И вот тут-то волна и обрушилась на нас. Мы, стоя на мостике, не могли видеть кормы, масса воды в тысячу тонн залила ее. Эта волна начисто смыла все и утащила всех за собою – и двух помощников, которые полезли на бизань-мачту, и Самуэля Хэнэна, и двух рулевых у штурвала, и самый штурвал. Мы больше никогда не видели их. Судно наше стало кружиться волчком, причем утонули еще два матроса, бывшие с нами на мостике. Потом на корме мы нашли труп плотника, превращенного в какой-то кисель. У него не осталось ни одном целой косточки.
Тут-то и начинается самое удивительное, рисующее в ярких красках своеобразный героизм этой женщины. Маргарет Хэнэн было сорок семь лет, когда она узнала о гибели Самуэля. И вот через некоторое время по острову Мак-Джиллю распространился удивительный слух. Это было невероятно! Никто не хотел верить. Доктор Холл фыркал, и все смеялись, словно это была просто-напросто остроумная шутка. Узнали, что сплетня исходит от Сары Дэк – служанки Хэнэн, жившей в их доме. Все тотчас решили, что Сара Дэк просто врет, хотя сама она клялась и божилась, что все это правда. Кто-то решился даже спросить однажды самого Тома Хэнэн, но тот только ругался и чертыхался в ответ.
Сплетня затихла на то время, когда весь остров был занят обсуждением гибели «Гренобля» в Китайском море. На «Гренобле» погибли все офицеры и весь экипаж, половина которого состояла из уроженцев Мак-Джилля. Но потом сплетня снова воскресла. Сара Дэк продолжала настаивать. Том Хэнэн начал смотреть все мрачнее и мрачнее, и даже доктор Холл, побывав у Хэнэн, перестал фыркать. Ну, тут уж весь остров встрепенулся, и у всех стали чесаться языки. Это было против всех законов божеских и человеческих. Никогда еще не было ничего подобного. Когда наступил срок, и нельзя было уже сомневаться в правдивости показаний Сары Дэк, все в один голос решили, подобно боцману «Стэрри Грэйс», что тут не обошлось без черта. Сара Дэк рассказывала, между прочим, что Маргарэт Хэнэн была убеждена в том, что у нее родится мальчик.
«Я родила одиннадцать детей, – говорила она, – шестерых девочек и пятерых мальчиков. Во всем должен быть ровный счет. Шесть мальчиков и шесть девочек – вот вам и ровный счет. Я уверена, что у меня будет мальчик. Это так же несомненно, как то, что солнце встает каждое утро».
И действительно, родился мальчик, и притом какой-то удивительный. Доктор Холл восхищался его крепким и здоровым сложением и даже написал статью в «Дублинском Медицинском Обозрении», где указывал, что это был самый интересный случай в его практике за последние несколько лет. Сара Дэк всем рассказывала о невероятном весе ребенка, и опять ей никто не верил, и все говорили, что она привирает. Но когда ее слова были подтверждены доктором Холлом, который сам взвешивал и осматривал ребенка, то жители Мак-Джилля поневоле прикусили язык и должны были уже верить всем слухам, которые распространяла Сара Дэк о росте и аппетите ребенка. И однажды Маргарэт Хэнэн снесла мальчика в Бельфаст и назвала его при крещении Самуэлем.
– Это был не ребенок, а золото, – говорила мне Сара Дэк.
Я познакомился с Сарой Дэк, когда она была уже почтенной старушкой, лет шестидесяти, причем ей сопутствовала такая трагическая и необыкновенная репутация, что если бы ее язык болтал еще десятки лет, то и тогда она продолжала бы оставаться героиней всех местных кумушек.
– Да, не ребенок, а золото, – повторяла Сара Дэк. – Он никогда не капризничал, а сидел себе спокойно на солнышке, пока, бывало, не проголодается. А какой он был сильный! Он сжимал ручками, как взрослый мужчина. Через несколько часов после рождения он так схватил меня, что я закричала от боли. И какое у него было превосходное здоровье! Он спал, ел, рос и никому не мешал. Он ни разу никого не разбудил ночью, даже когда у него прорезывались, зубы. А Маргарэт носила его на руках и все говорила, что второго такого красавца нет во всем Соединенном Королевстве.
А как он рос! Как быстро он рос и как много ел! В год он был ростом с иного двухлетнего. Только в ходьбе и в разговоре он почему-то отставал. Ползал на четвереньках, издавал горлом какие-то звуки – и больше ничего. Это, конечно, можно было объяснить его чересчур быстрым ростом. А он все рос и становился все здоровее. Сам Старый Хэнэн удивлялся его силе и говорил, что в Великобритании не найти другого такого мальчугана. Доктор Холл первый высказал одно подозрение, но тогда, помню, я и не подумала, чем это может кончиться. Я припоминаю, как он показывал маленькому Сэмми какие-то вещицы, производившие шум. Он подносил их ему к ушам, потом показывал издалека. Кончив свое исследование, доктор ушел, хмуря лоб и недовольно качая головой, словно ребенок был болен. Но я готова была поклясться, что он здоров: об этом свидетельствовали его быстрый рост и хороший аппетит. Доктор Холл не сказал Маргарет ни слова, и я никак не могла понять, что его огорчает.
Я хорошо помню, как маленький Самми в первый раз заговорил. Ему было всего два года, но ростом он был с пятилетнего ребенка, и все ползал на четвереньках, никому не мешая и всегда довольный, если его часто кормили. Я как раз развешивала белье, вдруг он вылез на четвереньках, болтая головой и моргая от яркого солнца. И вот тут он заговорил. Я так испугалась, что едва не умерла: я сразу поняла, почему доктор Холл печально качал головой. Да, он заговорил. Смею вас уверить, что ни один еще ребенок на острове Мак-Джилле не говорил так громко. Я так и задрожала от ужаса. Маленький Самми вопил, он выл как осел, – да, именно, как осел. Он ревел так громко, весело и долго, что казалось, у него лопнут легкие.
Самми был идиотом, – ужасным, чудовищным идиотом, и доктор Холл сказал об этом Маргарет, после того как мальчик заговорил. Но мать не хотела ему верить. Она утверждала, что это обойдется, и приписывала все слишком быстрому росту.
«Подождите, – говорила она, – вы увидите».
Но старый Том Хэнэн понял в чем дело, и с тех пор его трудно было узнать. Он ненавидел это существо, не хотел даже касаться до него, хотя когда-то любовался им целыми часами. Я часто видела, как он с ужасом смотрел на него из-за угла. А когда мальчик начинал реветь, старый Том затыкал себе уши, и на него страшно и жалко было смотреть.
Как мальчуган ревел! Больше он ни на что не был способен, разве только на то, чтобы расти. Когда он был голоден, он начинал завывать, и унять его можно было только пищей. Каждое утро он на четвереньках вылезал из дома, грелся на солнце и ревел. Из-за этого-то рева он и погиб в конце концов.
Я очень хорошо все это помню. Ему было всего три года, хотя на вид ему можно было свободно дать все десять. А старый Том чувствовал себя хуже и хуже: ходит в поле за плугом и все разговаривает сам с собой, бормочет.
Я помню, как он сидел в тот день на скамейке у кухонной двери и прилаживал новую рукоятку к своему заступу. Вдруг выполз его ужасный сын и начал реветь, по обыкновению, жмурясь от солнца. Я видела, как старый Том выпучил глаза и смотрел на чудовище, ревевшее перед ним, точно осел. Том не мог этого выдержать, и что-то стряслось с ним. Он вдруг вскочил и изо всех сил хватил чудовище рукояткой заступа по голове, и все бил и бил, словно это была бешеная собака. Затем он прямо отправился в конюшню и повесился там на перекладине. Ну, после этого я уже не могла оставаться у них и перешла к своей сестре, которая вышла за Джона Мертина и отлично живет.
Сидя на скамейке возле кухни, я поглядывал на Маргарэт Хэнэн, которая в это время прижимала табак в трубке заскорузлым пальцем и смотрела на поля, подернутые вечерним сумраком. На этой скамейке сидел и Том Хэнэн в тот ужасный день его жизни. А Маргарэт сидела на тех самых ступеньках, где грелся на солнце, мотал головой и ревел страшный идиот. Мы беседовали с ней около часу, и она все время говорила с той медлительностью, которая так шла к ней: она словно созерцала вечность.
Я никак не мог понять, какими мотивами руководствовалось в своем упорстве это удивительное существо. Хотела ли она пострадать за правду? Или она втайне поклонялась какому-то неизвестному божеству? Может быть, она думала, что служит отвлеченной правде – высшей цели человека – в тот далекий день, когда назвала своего первенца Самуэлем. Или это было просто ослиное упрямство? Упорство кобылы с норовом? Тупое упрямство крестьянского ума? Или это было капризом? Фантазией? Была ли она безумною только в этой части своего рассудка, или, напротив, в ней жил дух Бруно[1 - Джордано Бруно сожжен на костре инквизицией за свои философские взгляды (в 1600 г., в Риме).]?
Была ли она убеждена в своей логической последовательности? Хотела ли она воспротивиться глупому суеверию своих сограждан, или, наоборот, ею самою руководило суеверие, особого рода фатализм, альфой и омегой которого было старинное имя – Самуэль.
– Скажите, – говорила она мне, – неужели, если бы я назвала второго Самуэля Лэри, он не сварился бы в котле с кипятком? Скажите, сэр, это останется между нами, – вы как будто образованный человек, – неужели имя играет какую-нибудь роль? Неужели я бы не стирала в тот день, если бы он был Лэри или Майкель? Неужели кипяток не был бы кипятком, и неужели он не ошпарил бы ребенка, если бы его звали не Самуэлем, а иначе?
Я подтвердил правильность ее рассуждений, и она продолжала:
– Неужели имя может изменить предначертание господа? Значит, мир управляется кем-то другим, а бог – просто слабое капризное существо, которое решается изменять вечный ход вещей только потому, что какой-то червь – Маргарет Хэнэн – назвала своего ребенка Самуэлем. Вот, например, мой сын Джэми не взял в свою команду какого-то Рушэн-Фэнна, говоря, что тот накличет на них бурю. Что это, по-вашему? Неужели бог, создавший мир, будет слушаться какого-то вонючего Рушэн-Фэнна, сидящего где-то на борту грязной шхуны?
Я сказал, что она безусловно права; но она продолжала развивать свою мысль.
– Неужели бог, который управляет движением небесных светил, и для могучих ног которого весь мир только подставка, – неужели вы думаете, что он может назло Маргарет Хэнэн послать огромную волну, которая бы смыла ее сына у Мыса Доброй Надежды только потому, что она назвала его Самуэлем?
– Но почему именно Самуэль?
– Не знаю. Так мне захотелось.
– Но почему вам этого хотелось?
– Да как же я могу вам на это ответить? Я думаю, никто в мире этого не знает. Разве можно ответить, почему или отчего? Мой Джэми, например, так любит сливки, что когда нет их, он, по его собственному выражению, готов проглотить язык. А Тимоти сливок в рот не берет. Я вот люблю слушать, как гремит гром, а моя Кэтти во время грозы залезает под перину. Только бог может знать, почему или отчего. Мы, смертные, этого не знаем. Довольно с нас того, что нам нравится или не нравится. Мне нравится – вот и все. А почему нравится, – этого никто не может знать. Мне вот нравится имя Самуэль. Это чудесное имя, и в самом звуке есть что то непостижимое и чарующее.
Сумерки сгущались, и я молча смотрел на прекрасный, пощаженный временем лоб Маргарэт, на ее широко расставленные глаза, ясные и пронизывающие. Она встала, как бы давая мне понять, что пора уходить.
– Вам будет темно возвращаться, – сказала она. – Пожалуй, будет дождь.
– А что, Маргарэт, – спросил я вдруг без всякой задней мысли. – Вы никогда ни о чем не сожалеете?
Она посмотрела на меня внимательно.
– Мне жаль, что я не родила еще одного сына.
– И вы бы… – произнес я.
– Да, конечно, – перебила она, – я бы дала ему то же имя.
Возвращаясь домой по темной дороге меж ивовых плетней, я думал о всех этих «почему» и повторял то громко, то тихо: «Самуэль». Я вслушивался в это сочетание звуков, бывшее причиной стольких трагедий в жизни Маргарэт Хэнэн. В этом звучании, в этом имени было что-то чарующее. Да, было!
notes
Сноски
1
Джордано Бруно сожжен на костре инквизицией за свои философские взгляды (в 1600 г., в Риме).