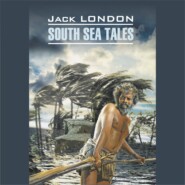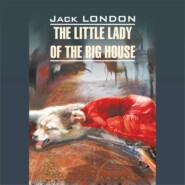По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Железная пята
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Еще бы! Сначала я даже верил, что можно выиграть это дело, но жене не говорил – из осторожности, знаете, чтобы зря не волновать ее. Очень уж ей, бедняжке, хотелось на дачу.
– Почему вы не сказали суду, что Джексон старался спасти машину? – спросила я Питера Донелли, одного из мастеров, дававших показания на суде.
Он долго думал, прежде чем ответить, потом боязливо огляделся и сказал:
– Потому что у меня славная жена и трое ребятишек – таких ребят поискать надо, – вот почему!
– Я вас не понимаю, – сказала я.
– Проще говоря, мне бы не поздоровилось…
– Вы хотите сказать…
Но он прервал меня с ожесточением:
– Я хочу сказать то, что сказал. Я не первый год работаю на фабрике. Вот таким мальчишкой стал за машину и достиг кое-чего. Нелегко мне это далось. Сейчас я мастер, заметьте, и если буду тонуть, ни одна душа на фабрике не окажет мне помощи. Когда-то и я был членом союза, но во время последних двух забастовок соблюдал интересы компании. Меня и ославили штрейкбрехером. И теперь ни один рабочий не согласился бы со мной выпить, если бы я ему предложил. Видите, как меня разукрасили? Это неведомо откуда на голову мне сыплются кирпичи. Нет мальчишки у прядильной машины, который не бранил бы меня последними словами, стоит мне отвернуться. Один друг у меня на свете – компания. Тут не то что мой долг, тут и хлеб мой, и жизнь моих детей… Вот почему я и шагу не сделаю против компании.
– Ну а Джексон? Правильно, что его лишили компенсации?
– Нет, неправильно. Он работал добросовестно. И человек он смирный, мы за ним ничего плохого не знаем.
– Значит, вы не сказали на суде правду, как присягали?
Он покачал головой.
– Правду, всю правду и одну только правду? – торжественно произнесла я.
Что-то исступленное мелькнуло в его взгляде. Он поднял глаза – не на меня, на небо.
– Пусть мою душу и тело терзает вечный огонь – я все вытерплю ради моих детей! – сказал он.
Управляющий Генри Даллес, господинчик с лисьей физиономией, смерил меня наглым взглядом и наотрез отказался отвечать. Я так и не добилась от него ни одного слова в объяснение его поведения на суде. Больше посчастливилось мне с другим мастером, Джеймсом Смитом. На первый взгляд его угрюмое лицо не сулило ничего хорошего. Вскоре выяснилось, что и он не волен в своих словах и поступках, но по развитию этот человек показался мне выше простого рабочего. Так же, как и Питер Донелли, он подтвердил, что Джексону полагалась компенсация. Он даже сказал, что недобросовестно и жестоко было выбросить на улицу беспомощного калеку, пострадавшего на производстве, и добавил, что случай с Джексоном не единственный: компания на все пойдет, чтобы не дать рабочему компенсации за увечье.
– Это стоило бы акционерам не одну сотню тысяч в год, – сказал он.
Я вспомнила дивиденды, выплаченные нам последний раз: свое нарядное платье, книги, купленные для отца; вспомнила слова Эрнеста о том, что платье у меня залито кровью рабочих, – и внутренне поежилась.
– В своих показаниях вы умолчали о том, что Джексон пострадал, желая спасти машину от поломки, – сказала я.
– Да, умолчал. – Смит сурово сжал губы. – Я сказал, что Джексон поплатился за собственную небрежность и что компания тут ни при чем.
– Он действительно проявил небрежность?
– Называйте как хотите. Человек не в силах выдержать такую работу. У него сдают нервы.
Я невольно заинтересовалась Смитом. Он и в самом деле не был похож на простого рабочего.
– Вы, по-видимому, образованнее многих рабочих, – сказала я.
– Я получил среднее образование, – ответил Смит. – Пока учился, работал дворником. Собирался и в университет. Но после смерти отца пришлось все бросить и пойти работать. Моей мечтой было стать натуралистом, – смущенно прибавил он, словно признаваясь в непозволительной слабости. – Я очень люблю животных. А вот пришлось поступить на фабрику. Потом стал мастером, женился, пошли дети, то да се – словом, я уже себе не хозяин.
– Что вы этим хотите сказать? – спросила я.
– Я объясняю, чем вызвано мое поведение на суде, почему я согласился дать требуемые показания.
– Кто их от вас потребовал?
– Полковник Ингрэм. Он научил меня, как отвечать на суде.
– И это погубило Джексона?
Смит кивнул. По лицу его расползался темный румянец.
– У Джексона жена и трое детей, он их единственный кормилец.
– Знаю, – спокойно подтвердил Смит, хотя лицо его все больше багровело.
– Скажите, – продолжала я, – трудно вам было из человека, каким вы были, скажем, в старших классах, превратиться в такого, который способен так держаться на суде?
Внезапность последовавшего взрыва ошеломила меня и испугала. Смит, выйдя из себя, чертыхнулся[30 - Здесь стоит отметить энергичную грубоватость лексики, характерную для того времени волчьих нравов и повадок. Мы разумеем, конечно, не брань Смита, а слово «чертыхнулся» в устах Эвис Эвергард.] и стиснул кулаки, словно готов был меня избить.
– Простите, – сказал он, опомнившись. – Да, это было трудновато. А теперь вам пора уходить. Вы из меня вытянули все, что хотели, но предупреждаю: вы просчитаетесь, если вздумаете где-нибудь на меня сослаться. Я вам ничего не сказал, так и знайте; тем более что свидетелей у вас нет. Я буду отрицать каждое ваше слово – если понадобится, под присягой.
После разговора со Смитом я зашла к отцу на химический факультет и неожиданно застала в его кабинете Эрнеста. Он поздоровался со мной как ни в чем не бывало, и меня опять поразила его непринужденная и вместе с тем застенчивая манера. Казалось, он не помнит нашего недавнего бурного спора, но я отнюдь не собиралась предавать его забвению.
– Я тут занялась делом Джексона, – сразу начала я.
Эрнест насторожился и, по-видимому, с интересом ждал рассказа. В глазах его я читала уверенность, что прежние мои взгляды уже поколеблены.
– С ним и правда обошлись бесчеловечно, – призналась я. – Я… я даже думаю, что кровь его в самом деле стекает с нашей крыши.
– Разумеется, – сказал Эрнест. – Если бы с Джексоном и его товарищами по несчастью поступали как должно, не видать бы вам таких дивидендов.
– Боюсь, что у меня навсегда пропал вкус к красивым платьям, – сказала я.
Было отрадно виниться перед Эрнестом, довериться ему, как своему исповеднику. Его сильная натура и впоследствии была мне опорой, его присутствие успокаивало меня и согревало ощущением безопасности.
– В мешковине вы будете чувствовать себя не лучше, – совершенно серьезно заметил Эрнест. – На джутовых фабриках такие же порядки. Да и везде то же самое. Вся наша хваленая цивилизация воздвигнута на крови и полита кровью, и ни мне, ни вам, и ни кому бы то ни было другому не стереть со лба кровавого клейма. С кем же вам удалось поговорить?
Я рассказала ему все.
– Да, никто из этих людей в себе не волен, – заметил Эрнест. – Все они пленники промышленной машины. И самое страшное то, что путы, привязывающие их к этой машине, впиваются им в сердце. Дети, хрупкая юная поросль, взывают к их нежности – и этот инстинкт повелительнее догматов морали. Мой отец был не лучше. Он обманывал, воровал, готов был на любой бесчестный поступок, только бы накормить меня и моих братьев и сестер. Он тоже был невольником промышленной машины – она искалечила ему жизнь, преждевременно состарила его и убила.
– Ну а вы? – прервала я его. – Ведь вы же сами себе хозяин?
– Не совсем, – возразил он. – Но по крайней мере сердце у меня не на привязи. Я часто благословляю судьбу за то, что нет у меня семьи, хотя нежно люблю детей. Если бы я женился, то не позволил бы себе иметь детей.
– Ну, это никуда не годная точка зрения! – воскликнула я.
– Почему вы не сказали суду, что Джексон старался спасти машину? – спросила я Питера Донелли, одного из мастеров, дававших показания на суде.
Он долго думал, прежде чем ответить, потом боязливо огляделся и сказал:
– Потому что у меня славная жена и трое ребятишек – таких ребят поискать надо, – вот почему!
– Я вас не понимаю, – сказала я.
– Проще говоря, мне бы не поздоровилось…
– Вы хотите сказать…
Но он прервал меня с ожесточением:
– Я хочу сказать то, что сказал. Я не первый год работаю на фабрике. Вот таким мальчишкой стал за машину и достиг кое-чего. Нелегко мне это далось. Сейчас я мастер, заметьте, и если буду тонуть, ни одна душа на фабрике не окажет мне помощи. Когда-то и я был членом союза, но во время последних двух забастовок соблюдал интересы компании. Меня и ославили штрейкбрехером. И теперь ни один рабочий не согласился бы со мной выпить, если бы я ему предложил. Видите, как меня разукрасили? Это неведомо откуда на голову мне сыплются кирпичи. Нет мальчишки у прядильной машины, который не бранил бы меня последними словами, стоит мне отвернуться. Один друг у меня на свете – компания. Тут не то что мой долг, тут и хлеб мой, и жизнь моих детей… Вот почему я и шагу не сделаю против компании.
– Ну а Джексон? Правильно, что его лишили компенсации?
– Нет, неправильно. Он работал добросовестно. И человек он смирный, мы за ним ничего плохого не знаем.
– Значит, вы не сказали на суде правду, как присягали?
Он покачал головой.
– Правду, всю правду и одну только правду? – торжественно произнесла я.
Что-то исступленное мелькнуло в его взгляде. Он поднял глаза – не на меня, на небо.
– Пусть мою душу и тело терзает вечный огонь – я все вытерплю ради моих детей! – сказал он.
Управляющий Генри Даллес, господинчик с лисьей физиономией, смерил меня наглым взглядом и наотрез отказался отвечать. Я так и не добилась от него ни одного слова в объяснение его поведения на суде. Больше посчастливилось мне с другим мастером, Джеймсом Смитом. На первый взгляд его угрюмое лицо не сулило ничего хорошего. Вскоре выяснилось, что и он не волен в своих словах и поступках, но по развитию этот человек показался мне выше простого рабочего. Так же, как и Питер Донелли, он подтвердил, что Джексону полагалась компенсация. Он даже сказал, что недобросовестно и жестоко было выбросить на улицу беспомощного калеку, пострадавшего на производстве, и добавил, что случай с Джексоном не единственный: компания на все пойдет, чтобы не дать рабочему компенсации за увечье.
– Это стоило бы акционерам не одну сотню тысяч в год, – сказал он.
Я вспомнила дивиденды, выплаченные нам последний раз: свое нарядное платье, книги, купленные для отца; вспомнила слова Эрнеста о том, что платье у меня залито кровью рабочих, – и внутренне поежилась.
– В своих показаниях вы умолчали о том, что Джексон пострадал, желая спасти машину от поломки, – сказала я.
– Да, умолчал. – Смит сурово сжал губы. – Я сказал, что Джексон поплатился за собственную небрежность и что компания тут ни при чем.
– Он действительно проявил небрежность?
– Называйте как хотите. Человек не в силах выдержать такую работу. У него сдают нервы.
Я невольно заинтересовалась Смитом. Он и в самом деле не был похож на простого рабочего.
– Вы, по-видимому, образованнее многих рабочих, – сказала я.
– Я получил среднее образование, – ответил Смит. – Пока учился, работал дворником. Собирался и в университет. Но после смерти отца пришлось все бросить и пойти работать. Моей мечтой было стать натуралистом, – смущенно прибавил он, словно признаваясь в непозволительной слабости. – Я очень люблю животных. А вот пришлось поступить на фабрику. Потом стал мастером, женился, пошли дети, то да се – словом, я уже себе не хозяин.
– Что вы этим хотите сказать? – спросила я.
– Я объясняю, чем вызвано мое поведение на суде, почему я согласился дать требуемые показания.
– Кто их от вас потребовал?
– Полковник Ингрэм. Он научил меня, как отвечать на суде.
– И это погубило Джексона?
Смит кивнул. По лицу его расползался темный румянец.
– У Джексона жена и трое детей, он их единственный кормилец.
– Знаю, – спокойно подтвердил Смит, хотя лицо его все больше багровело.
– Скажите, – продолжала я, – трудно вам было из человека, каким вы были, скажем, в старших классах, превратиться в такого, который способен так держаться на суде?
Внезапность последовавшего взрыва ошеломила меня и испугала. Смит, выйдя из себя, чертыхнулся[30 - Здесь стоит отметить энергичную грубоватость лексики, характерную для того времени волчьих нравов и повадок. Мы разумеем, конечно, не брань Смита, а слово «чертыхнулся» в устах Эвис Эвергард.] и стиснул кулаки, словно готов был меня избить.
– Простите, – сказал он, опомнившись. – Да, это было трудновато. А теперь вам пора уходить. Вы из меня вытянули все, что хотели, но предупреждаю: вы просчитаетесь, если вздумаете где-нибудь на меня сослаться. Я вам ничего не сказал, так и знайте; тем более что свидетелей у вас нет. Я буду отрицать каждое ваше слово – если понадобится, под присягой.
После разговора со Смитом я зашла к отцу на химический факультет и неожиданно застала в его кабинете Эрнеста. Он поздоровался со мной как ни в чем не бывало, и меня опять поразила его непринужденная и вместе с тем застенчивая манера. Казалось, он не помнит нашего недавнего бурного спора, но я отнюдь не собиралась предавать его забвению.
– Я тут занялась делом Джексона, – сразу начала я.
Эрнест насторожился и, по-видимому, с интересом ждал рассказа. В глазах его я читала уверенность, что прежние мои взгляды уже поколеблены.
– С ним и правда обошлись бесчеловечно, – призналась я. – Я… я даже думаю, что кровь его в самом деле стекает с нашей крыши.
– Разумеется, – сказал Эрнест. – Если бы с Джексоном и его товарищами по несчастью поступали как должно, не видать бы вам таких дивидендов.
– Боюсь, что у меня навсегда пропал вкус к красивым платьям, – сказала я.
Было отрадно виниться перед Эрнестом, довериться ему, как своему исповеднику. Его сильная натура и впоследствии была мне опорой, его присутствие успокаивало меня и согревало ощущением безопасности.
– В мешковине вы будете чувствовать себя не лучше, – совершенно серьезно заметил Эрнест. – На джутовых фабриках такие же порядки. Да и везде то же самое. Вся наша хваленая цивилизация воздвигнута на крови и полита кровью, и ни мне, ни вам, и ни кому бы то ни было другому не стереть со лба кровавого клейма. С кем же вам удалось поговорить?
Я рассказала ему все.
– Да, никто из этих людей в себе не волен, – заметил Эрнест. – Все они пленники промышленной машины. И самое страшное то, что путы, привязывающие их к этой машине, впиваются им в сердце. Дети, хрупкая юная поросль, взывают к их нежности – и этот инстинкт повелительнее догматов морали. Мой отец был не лучше. Он обманывал, воровал, готов был на любой бесчестный поступок, только бы накормить меня и моих братьев и сестер. Он тоже был невольником промышленной машины – она искалечила ему жизнь, преждевременно состарила его и убила.
– Ну а вы? – прервала я его. – Ведь вы же сами себе хозяин?
– Не совсем, – возразил он. – Но по крайней мере сердце у меня не на привязи. Я часто благословляю судьбу за то, что нет у меня семьи, хотя нежно люблю детей. Если бы я женился, то не позволил бы себе иметь детей.
– Ну, это никуда не годная точка зрения! – воскликнула я.