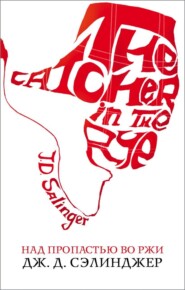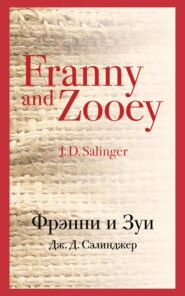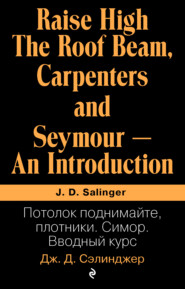По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Ловец на хлебном поле
Автор
Жанр
Год написания книги
2017
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Все равно не слышит. Дрыхнет, как бревно.
– Эй, Экли!
Ну вот тут услыхал.
– Да что с тобой за херня такая? – говорит. – Сплю я, елки-палки.
– Слышь. А как в монастырь поступают? – спрашиваю. Я как бы раздумывать начал, не поступить ли. – Надо католиком быть и всяко-разно?
– Само собой, надо быть католиком. Гад, ты меня разбудил, только чтоб со своими тупыми воп…
– Ай, да спи себе дальше. Никуда я не пойду. Мне все равно везет так, что поступлю куда-нибудь, а там монахи неправильные. Дурацкие гады какие-нибудь. Или просто гады.
Только я так сказал, этот Экли на кровати своей аж подскочил, на фиг.
– Слышь, – говорит. – Мне наплевать, что ты обо мне говоришь или еще чего, но если будешь острить про мою, на фиг, веру…
– Расслабься, – говорю. – Никто про твою, на фиг, веру не острит.
Я встал с койки Эли и пошел к двери. Не хотелось мне больше такого дурогонства. По пути остановился, взял Экли за руку и крепко так, фуфлово пожал. А он эту руку отдернул.
– Чего за дела? – спрашивает.
– Да никаких дел. Просто хотел сказать тебе спасибо за то, что ты такой, на фиг, сказочный принц, вот и все. – Я это сказал очень искренне. – Ты просто лучше некуда, сынок, – говорю. – Ты в курсе?
– Умник. Тебе по мозгам-то когда-нибудь…
Я даже не стал его дослушивать. Закрыл, на фиг, дверь и вышел в коридор.
Все либо дрыхли без ног, либо шлялись, либо домой на выходные поразъехались, и в коридоре было очень, очень тихо и тоскливо. Под дверью, где жили Хоффман с Лии, валялась пустая коробка из-под зубной пасты «Колинос», и весь коридор до лестницы я пинал ее своим тапком с овчиной. Ну чего, думал я, может, сходить поглядеть, чего этот Мэл Броссар делает? Но тут вдруг передумал. Я ни с того ни с сего решил, что по-честному сделать надо вот чего – убраться, на хер, из Пенси, вот прямо сразу, ночью, и все дела. А не ждать до среды или как-то. Мне просто не хочется тут больше зависать. Слишком уж убого и одиноко. Поэтому я вот чего решил – я решил снять номер в нью-йоркской гостинице, какой-нибудь не сильно дорогой и всяко-разно, и до среды не рыпаться. А потом в среду поеду домой – когда отдохну, и мне будет вполне себе шикарно. Я прикинул, что штрики, наверно, письмо этого Тёрмера, где сказано, что меня выперли, не получат, может, до вторника-среды. Мне и домой-то не хотелось возвращаться, пока они это письмо не переварят. Мне вовсе не в жилу там быть, когда они его только получат. Штруня у меня сильно в истерику впадает. Хотя, как только переварит до конца, с ней все не так плохо. А кроме того, мне бы каникулы вроде как не повредили. Нервы ни к черту. По-честному.
В общем, так я и решил. Поэтому вернулся к себе, зажег свет, чтоб вещи собрать и всяко-разно. У меня уже, в общем, кое-что было собрано. Этот Стрэдлейтер даже не проснулся. Я закурил и оделся, а потом сложил все в свои два «гладстона». Ушло минуты две. Я очень быстро пакуюсь.
На меня при сборах только одно тоску немного навело. Пришлось укладывать новые коньки, что мне штруня прислала, считай, пару дней назад. Оттого и тоска. Я так и видел: штруня заходит в «Сполдингз» и давай продавцу мильон бажбанских вопросов задавать – а меня тут опять из школы выперли. Тут мне по-честному убого и стало. Она не те коньки купила – мне хотелось беговые, а она купила хоккейные, – но мне стало все равно убого. Так почти всегда: кто бы мне что-нибудь ни дарил, заканчивается убого.
Я сложил все, а потом гроши свои посчитал. Не помню точно, сколько у меня было, но втарен я был как надо. Бабуля неделю назад мне пачку прислала. У меня бабуля есть, так на гроши она не жмется. У нее уже не все дома – она старая, как я не знаю что, – и гроши на деньрож она мне высылает раза по четыре в год. В общем, хоть я и втарен был, но прикинул, что лишние гроши не помешают. Поди угадай. Я поэтому вот чего – я пошел и разбудил Фредерика Вудраффа, которому свою машинку давал. И спросил, сколько он мне за нее даст. Он парень будь здоров богатенький. Но говорит: не знаю. Дескать, ему ее покупать не очень хочется. Но в конце концов все-таки купил. Стоила она где-то девяносто, а он купил за двадцатку. И дулся еще, что я ему спать не даю.
Когда я уже весь собрался, чемоданы и всяко-разно, я немного постоял у лестницы и в последний раз оглядел весь, на фиг, коридор. Я как бы даже ревел. Не знаю, чего ради. Я надел свой красный охотничий кепарь, сдвинул козырек на затылок, как мне нравилось, а потом во весь, на фиг, голос заорал:
– Сладких снов, дебилы!
Точняк всех гадов разбудил на целом этаже. А потом, на хер, свалил оттуда. Какой-то недоумок разбросал по всей лестнице скорлупу от арахиса, и я, на фиг, чуть шею себе не своротил.
8
Поздняк было вызывать мотор или как-то, поэтому до вокзала я всю дорогу пёр пехом. Там не очень далеко, но дубак стоял, как я не знаю что, а идти по снегу трудно, и «гладстоны» лупили, на хер, мне по ногам. Но воздух был зашибись. Засада только в том, что от мороза у меня нос болел и под самой верхней губой, куда мне этот Стрэдлейтер впорол. Губу мне прямо по зубам раскатал – будь здоров болело. А вот ушам нормально и тепло. У кепаря были уши, и я их опустил – и надристать, как я выгляжу. Все равно вокруг никого. Все друшляют.
Мне нормально так повезло, когда я добрался до вокзала, потому что поезд был всего через десять минут. Пока ждал, загреб в руку снега и вымыл рожу. Кровищи было еще порядочно.
Обычно мне нравится ездить на поезде, ночью особенно, когда свет горит, а окна такие черные, и кто-нибудь ходит по вагону и продает кофе, бутерброды и журналы. Обычно я покупаю бутер с ветчиной и штуки четыре журнала. Если я еду на поезде ночью, можно даже какой-нибудь тупой рассказ в журнале почитать и не сблевнуть. Ну, короче. В рассказах этих обычно целая куча фуфловых парней по имени Дэвид, у которых щека со щекой целуются, и целая толпа фуфловых девиц по имени Линда или Марша, которые всем этим Дэвидам трубки, на фиг, подкуривают. Обычно в поезде ночью я даже могу такой паршивый рассказ почитать. Только сейчас все было не так. Мне просто не хотелось. Я вроде как сидел и ничего не делал. Только снял кепарь и сунул в карман.
Вдруг в Трентоне заходит эта дамочка и садится рядом. Чуть ли не весь вагон пустой – все-таки поздняк и всяко-разно, и она берет и садится рядом, а не на пустое место: просто у нее с собой такой огромный баул, а я сижу впереди. Баул она уместила в проходе, чтоб контролер или еще кто перецепился. И еще на ней такие орхидеи, будто она прямо с бала или как-то. Лет сорок – сорок пять, наверно, но очень ничего себе. От теток я прямо подыхаю. По-честному. Нет, я ни озабоченный, ничего, хоть сам вполне себе ничего. В смысле, они мне просто нравятся. Всегда свои, на фиг, баулы посреди прохода оставляют.
Ладно, в общем, сидим мы, как вдруг она говорит:
– Извините, это у вас наклейка школы Пенси? – Она как раз на мои чемоданы глядела, на полке.
– Да, ее, – отвечаю. Тут она угадала. У меня на одном «гладстоне» наклейка Пенси, точно. Фофанство, но что уж теперь.
– О, вы учитесь в Пенси? – спрашивает. Голос ничего такой. Путёвый, как в телефоне. Надо бы ей с собой, на фиг, телефон таскать.
– Да, в ней, – говорю.
– О, как это славно! Тогда, может, вы и сына моего знаете – Эрнест Морроу? Он тоже учится в Пенси.
– Знаю. Он у нас в классе.
Сынок ее – вне всяких сомнений величайший гад, что учился в Пенси за всю захезанную историю школы. Всегда по коридору ходит после душа и мокрым этим полотенцем своим всем по жопам хлещет. Такой вот парняга.
– О, как мило! – говорит дамочка. Но не фофански говорит – нормально так и всяко-разно. – Надо будет сказать Эрнесту, что мы познакомились, – говорит. – Можно спросить, как вас зовут, дорогой мой?
– Рудольф Шмидт, – отвечаю. Не в жилу мне всю свою биографию излагать. А Рудольф Шмидт – это у нас комендант в общаге.
– А вам нравится Пенси? – спрашивает она.
– Пенси? Да ничего так. Не рай, конечно, чего там, но не хуже прочих. Есть вполне себе добросовестные преподы.
– Эрнест ее просто обожает.
– Я знаю, – говорю. А потом давай обычную туфту помаленьку пулять. – Он очень хорошо приспосабливается. По-честному. Ну то есть, хорошо вливается.
– Вы так считаете? – спрашивает она. Вроде заинтересовалась, как я не знаю что.
– Эрнест? Ну еще бы, – говорю. И тут она перчатки стала снимать. Ух меня от брюликов чуть не затошнило.
– Я ноготь сломала, когда из такси выходила, – говорит. Посмотрела на меня и вроде как улыбнулась. Неслабая у нее такая улыбка. По-честному путёвая. Люди же вообще почти не улыбаются или лыбятся паршиво. – Мы с отцом Эрнеста иногда очень за него переживаем, – говорит. – Иногда у нас такое чувство, что он не очень хорошо умеет общаться.
– Это в каком смысле?
– Ну – он очень чувствительный мальчик. И ему не всегда хорошо удается общаться с другими ребятами. Наверное, все воспринимает гораздо серьезнее, чем следует в его возрасте.
Чувствительный. Я чуть не сдох. Этот тип Морроу примерно такой же чувствительный, как стульчак.
Я хорошенько на нее посмотрел. Вроде не бажбанка на вид. Может, и соображает, на фиг, какого гада родила. Но тут не всегда определишь – у чужой штруни, в смысле. Штруни всегда немного того. Но такая фигня: штруня Морроу мне понравилась. Путёвая.
– Сигарету не желаете? – спрашиваю.
Она огляделась.
– Эй, Экли!
Ну вот тут услыхал.
– Да что с тобой за херня такая? – говорит. – Сплю я, елки-палки.
– Слышь. А как в монастырь поступают? – спрашиваю. Я как бы раздумывать начал, не поступить ли. – Надо католиком быть и всяко-разно?
– Само собой, надо быть католиком. Гад, ты меня разбудил, только чтоб со своими тупыми воп…
– Ай, да спи себе дальше. Никуда я не пойду. Мне все равно везет так, что поступлю куда-нибудь, а там монахи неправильные. Дурацкие гады какие-нибудь. Или просто гады.
Только я так сказал, этот Экли на кровати своей аж подскочил, на фиг.
– Слышь, – говорит. – Мне наплевать, что ты обо мне говоришь или еще чего, но если будешь острить про мою, на фиг, веру…
– Расслабься, – говорю. – Никто про твою, на фиг, веру не острит.
Я встал с койки Эли и пошел к двери. Не хотелось мне больше такого дурогонства. По пути остановился, взял Экли за руку и крепко так, фуфлово пожал. А он эту руку отдернул.
– Чего за дела? – спрашивает.
– Да никаких дел. Просто хотел сказать тебе спасибо за то, что ты такой, на фиг, сказочный принц, вот и все. – Я это сказал очень искренне. – Ты просто лучше некуда, сынок, – говорю. – Ты в курсе?
– Умник. Тебе по мозгам-то когда-нибудь…
Я даже не стал его дослушивать. Закрыл, на фиг, дверь и вышел в коридор.
Все либо дрыхли без ног, либо шлялись, либо домой на выходные поразъехались, и в коридоре было очень, очень тихо и тоскливо. Под дверью, где жили Хоффман с Лии, валялась пустая коробка из-под зубной пасты «Колинос», и весь коридор до лестницы я пинал ее своим тапком с овчиной. Ну чего, думал я, может, сходить поглядеть, чего этот Мэл Броссар делает? Но тут вдруг передумал. Я ни с того ни с сего решил, что по-честному сделать надо вот чего – убраться, на хер, из Пенси, вот прямо сразу, ночью, и все дела. А не ждать до среды или как-то. Мне просто не хочется тут больше зависать. Слишком уж убого и одиноко. Поэтому я вот чего решил – я решил снять номер в нью-йоркской гостинице, какой-нибудь не сильно дорогой и всяко-разно, и до среды не рыпаться. А потом в среду поеду домой – когда отдохну, и мне будет вполне себе шикарно. Я прикинул, что штрики, наверно, письмо этого Тёрмера, где сказано, что меня выперли, не получат, может, до вторника-среды. Мне и домой-то не хотелось возвращаться, пока они это письмо не переварят. Мне вовсе не в жилу там быть, когда они его только получат. Штруня у меня сильно в истерику впадает. Хотя, как только переварит до конца, с ней все не так плохо. А кроме того, мне бы каникулы вроде как не повредили. Нервы ни к черту. По-честному.
В общем, так я и решил. Поэтому вернулся к себе, зажег свет, чтоб вещи собрать и всяко-разно. У меня уже, в общем, кое-что было собрано. Этот Стрэдлейтер даже не проснулся. Я закурил и оделся, а потом сложил все в свои два «гладстона». Ушло минуты две. Я очень быстро пакуюсь.
На меня при сборах только одно тоску немного навело. Пришлось укладывать новые коньки, что мне штруня прислала, считай, пару дней назад. Оттого и тоска. Я так и видел: штруня заходит в «Сполдингз» и давай продавцу мильон бажбанских вопросов задавать – а меня тут опять из школы выперли. Тут мне по-честному убого и стало. Она не те коньки купила – мне хотелось беговые, а она купила хоккейные, – но мне стало все равно убого. Так почти всегда: кто бы мне что-нибудь ни дарил, заканчивается убого.
Я сложил все, а потом гроши свои посчитал. Не помню точно, сколько у меня было, но втарен я был как надо. Бабуля неделю назад мне пачку прислала. У меня бабуля есть, так на гроши она не жмется. У нее уже не все дома – она старая, как я не знаю что, – и гроши на деньрож она мне высылает раза по четыре в год. В общем, хоть я и втарен был, но прикинул, что лишние гроши не помешают. Поди угадай. Я поэтому вот чего – я пошел и разбудил Фредерика Вудраффа, которому свою машинку давал. И спросил, сколько он мне за нее даст. Он парень будь здоров богатенький. Но говорит: не знаю. Дескать, ему ее покупать не очень хочется. Но в конце концов все-таки купил. Стоила она где-то девяносто, а он купил за двадцатку. И дулся еще, что я ему спать не даю.
Когда я уже весь собрался, чемоданы и всяко-разно, я немного постоял у лестницы и в последний раз оглядел весь, на фиг, коридор. Я как бы даже ревел. Не знаю, чего ради. Я надел свой красный охотничий кепарь, сдвинул козырек на затылок, как мне нравилось, а потом во весь, на фиг, голос заорал:
– Сладких снов, дебилы!
Точняк всех гадов разбудил на целом этаже. А потом, на хер, свалил оттуда. Какой-то недоумок разбросал по всей лестнице скорлупу от арахиса, и я, на фиг, чуть шею себе не своротил.
8
Поздняк было вызывать мотор или как-то, поэтому до вокзала я всю дорогу пёр пехом. Там не очень далеко, но дубак стоял, как я не знаю что, а идти по снегу трудно, и «гладстоны» лупили, на хер, мне по ногам. Но воздух был зашибись. Засада только в том, что от мороза у меня нос болел и под самой верхней губой, куда мне этот Стрэдлейтер впорол. Губу мне прямо по зубам раскатал – будь здоров болело. А вот ушам нормально и тепло. У кепаря были уши, и я их опустил – и надристать, как я выгляжу. Все равно вокруг никого. Все друшляют.
Мне нормально так повезло, когда я добрался до вокзала, потому что поезд был всего через десять минут. Пока ждал, загреб в руку снега и вымыл рожу. Кровищи было еще порядочно.
Обычно мне нравится ездить на поезде, ночью особенно, когда свет горит, а окна такие черные, и кто-нибудь ходит по вагону и продает кофе, бутерброды и журналы. Обычно я покупаю бутер с ветчиной и штуки четыре журнала. Если я еду на поезде ночью, можно даже какой-нибудь тупой рассказ в журнале почитать и не сблевнуть. Ну, короче. В рассказах этих обычно целая куча фуфловых парней по имени Дэвид, у которых щека со щекой целуются, и целая толпа фуфловых девиц по имени Линда или Марша, которые всем этим Дэвидам трубки, на фиг, подкуривают. Обычно в поезде ночью я даже могу такой паршивый рассказ почитать. Только сейчас все было не так. Мне просто не хотелось. Я вроде как сидел и ничего не делал. Только снял кепарь и сунул в карман.
Вдруг в Трентоне заходит эта дамочка и садится рядом. Чуть ли не весь вагон пустой – все-таки поздняк и всяко-разно, и она берет и садится рядом, а не на пустое место: просто у нее с собой такой огромный баул, а я сижу впереди. Баул она уместила в проходе, чтоб контролер или еще кто перецепился. И еще на ней такие орхидеи, будто она прямо с бала или как-то. Лет сорок – сорок пять, наверно, но очень ничего себе. От теток я прямо подыхаю. По-честному. Нет, я ни озабоченный, ничего, хоть сам вполне себе ничего. В смысле, они мне просто нравятся. Всегда свои, на фиг, баулы посреди прохода оставляют.
Ладно, в общем, сидим мы, как вдруг она говорит:
– Извините, это у вас наклейка школы Пенси? – Она как раз на мои чемоданы глядела, на полке.
– Да, ее, – отвечаю. Тут она угадала. У меня на одном «гладстоне» наклейка Пенси, точно. Фофанство, но что уж теперь.
– О, вы учитесь в Пенси? – спрашивает. Голос ничего такой. Путёвый, как в телефоне. Надо бы ей с собой, на фиг, телефон таскать.
– Да, в ней, – говорю.
– О, как это славно! Тогда, может, вы и сына моего знаете – Эрнест Морроу? Он тоже учится в Пенси.
– Знаю. Он у нас в классе.
Сынок ее – вне всяких сомнений величайший гад, что учился в Пенси за всю захезанную историю школы. Всегда по коридору ходит после душа и мокрым этим полотенцем своим всем по жопам хлещет. Такой вот парняга.
– О, как мило! – говорит дамочка. Но не фофански говорит – нормально так и всяко-разно. – Надо будет сказать Эрнесту, что мы познакомились, – говорит. – Можно спросить, как вас зовут, дорогой мой?
– Рудольф Шмидт, – отвечаю. Не в жилу мне всю свою биографию излагать. А Рудольф Шмидт – это у нас комендант в общаге.
– А вам нравится Пенси? – спрашивает она.
– Пенси? Да ничего так. Не рай, конечно, чего там, но не хуже прочих. Есть вполне себе добросовестные преподы.
– Эрнест ее просто обожает.
– Я знаю, – говорю. А потом давай обычную туфту помаленьку пулять. – Он очень хорошо приспосабливается. По-честному. Ну то есть, хорошо вливается.
– Вы так считаете? – спрашивает она. Вроде заинтересовалась, как я не знаю что.
– Эрнест? Ну еще бы, – говорю. И тут она перчатки стала снимать. Ух меня от брюликов чуть не затошнило.
– Я ноготь сломала, когда из такси выходила, – говорит. Посмотрела на меня и вроде как улыбнулась. Неслабая у нее такая улыбка. По-честному путёвая. Люди же вообще почти не улыбаются или лыбятся паршиво. – Мы с отцом Эрнеста иногда очень за него переживаем, – говорит. – Иногда у нас такое чувство, что он не очень хорошо умеет общаться.
– Это в каком смысле?
– Ну – он очень чувствительный мальчик. И ему не всегда хорошо удается общаться с другими ребятами. Наверное, все воспринимает гораздо серьезнее, чем следует в его возрасте.
Чувствительный. Я чуть не сдох. Этот тип Морроу примерно такой же чувствительный, как стульчак.
Я хорошенько на нее посмотрел. Вроде не бажбанка на вид. Может, и соображает, на фиг, какого гада родила. Но тут не всегда определишь – у чужой штруни, в смысле. Штруни всегда немного того. Но такая фигня: штруня Морроу мне понравилась. Путёвая.
– Сигарету не желаете? – спрашиваю.
Она огляделась.