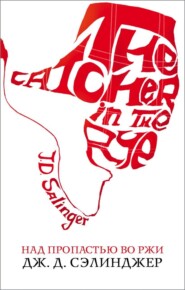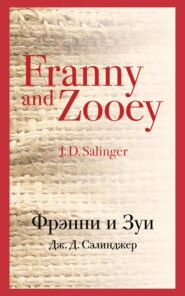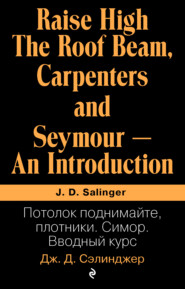По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Ловец на хлебном поле
Автор
Жанр
Год написания книги
2017
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Ну чего, видно же: ему вполне себе паршиво от того, что меня провалил. Поэтому я немного туфты ему погонял. Сказал, что я настоящая дубина, и всякую такую хреноту. Что на его месте я поступил бы точно так же, а большинству и невдомек, как трудно быть учителем. Такую вот фигню. Туфта проверенная.
Но вот умора – пока ему гонял все это, думал я вроде как о чем-то совсем другом. Живу я в Нью-Йорке, и думал я о пруде в Центральном парке, возле Южной Сентрал-Парк. Интересно, замерзнет он, когда я домой приеду, и если да, куда денутся утки? Интересно, куда вообще утки деваются, когда пруд весь перемерзает. Может, приезжает кто-нибудь на грузовике и забирает их в зоосад или как-то. А может, просто улетают.
Но мне везет. То есть, я могу этому Спенсеру гонять туфту и в то же время думать про уток. Умора. Когда с учителем говоришь, напрягаться и думать, в общем, не надо. И вдруг – гоню я, а он меня перебивает. Он же всегда перебивает.
– А тебе-то каково, мальчик мой? Вот что мне очень интересно знать. Очень интересно.
– В смысле – насчет выпуля из Пенси и всяко-разно? – говорю. Хоть бы он грудь эту свою вислую прикрыл. Не очень красивое зрелище.
– Если не ошибаюсь, у тебя были какие-то трудности и в Вутоне, и в Элктон-Хиллз. – Он это не просто язвительно сказал, а еще и как-то погано.
– В Элктон-Хиллз у меня особых трудностей не было, – говорю я. – Я там не провалил ничего, никак. Я вроде как бросил, сам.
– Почему, могу я спросить?
– Почему? Ой, это долгая история, сэр. То есть, ничего себе запутанная такая. – Не пускаться же мне с ним во все это, еще чего. Он бы все равно ни шиша не понял. Да и вообще не его это дело. Главная причина, почему я свалил из Элктон-Хиллз: меня там окружало сплошь фуфло. Вот и все. Из всех щелей оно там, на фиг, лезло. Взять директора, мистера Хааса – фуфловее гада я в жизни не встречал. В десять раз хуже этого Тёрмера. По воскресеньям, к примеру, этот Хаас расхаживал и жал руки всем штрикам, что в школу приезжали. Само обаяние, как я не знаю что, куда деваться. Если только у какого-нибудь пацана эти штрики не с каким-нибудь прибабахом. Вы б видели, как он с предками моего соседа по комнате обошелся. В смысле, если у пацана штруня какая-нибудь толстая, или на вид фофанская, или еще как-то, а штрик такие костюмы носит со здоровыми плечами и фофанские черно-белые ботинки, этот Хаас только руку им жал да улыбался фуфлово, а потом шел и, может, полчаса трындел с чьими-нибудь другими предками. Я такую хренотень терпеть не могу. Хоть на стену лезь. Меня так пришибает, что я как с цепи срываюсь. Я Элктон-Хиллз, на фиг, ненавидел.
Этот Спенсер у меня еще чего-то спросил, но я не расслышал. Думал про этого Хааса.
– Чего, сэр? – говорю.
– Тебя что-нибудь тревожит от того, что ты уходишь из Пенси?
– Ой, ну кое-что тревожит, да. Конечно… только не слишком много. Пока, во всяком случае. Наверно, еще не осознал. Я вообще осознаю все через некоторое время. Я сейчас думаю про то, как в среду поеду домой. Я дубина.
– Мальчик мой, тебя совершенно не заботит твое будущее?
– Ой, ну конечно, мое будущее меня немножко заботит. Еще бы. Ну да, конечно. – Я целую минуту об этом думал. – Но, наверно, не слишком. Наверно, не слишком.
– А оно тебя озаботит, – говорит этот Спенсер. – Непременно, мальчик мой. Но тогда будет слишком поздно.
Фигово он это сказал. Точно я сдох или как-то. Очень тоскливо.
– Наверно, да, – говорю.
– Мне хотелось бы вправить тебе мозги, мальчик мой. Я пытаюсь тебе помочь. Я пытаюсь помочь тебе, если это в моих силах.
И впрямь пытается. Это видно. Мы с ним просто слишком по разные концы дышла, вот и все.
– Я знаю, сэр, – говорю я. – Большое спасибо. Кроме шуток. Я вам благодарен. По-честному. – Тут я встал с кровати. Ну хоть убейте меня, а я б там и десяти минут больше не высидел. – Только штука в том, что мне уже пора. У меня куча всего в спортзале осталась, а мне это домой везти. Честно надо.
Он на меня поглядел и снова давай себе кивать, а лицо серьезное такое. Мне его жалко стало, как я не знаю что, – ни с того ни с сего. Но не могу ж я тут зависнуть, раз мы с ним по разные концы дышла, и он недобрасывает до кровати, если что-нибудь на нее кидает, и у него тоскливый халат, из которого грудь выглядывает, и гриппозная эта вонь от закапки в нос повсюду.
– Сэр, послушайте. Вы за меня не бойтесь, – говорю. – Я не шучу. Все будет отлично. Просто у меня сейчас период такой. У всех периоды бывают всяко-разно, правда?
– Не знаю, мальчик мой. Не знаю. Терпеть не могу, когда так отвечают.
– Да точно. Точно бывает, – говорю. – Я не шучу, сэр. Не волнуйтесь за меня, пожалуйста. – И я как бы положил руку ему на плечо. – Ладно? – говорю.
– Не выпьешь горячего шоколаду перед уходом? Миссис Спенсер бы…
– Я б выпил, по-честному, но штука в том, что мне пора. Надо в спортзал бежать. Но спасибо. Большое спасибо, сэр.
И мы пожали друг другу руки. Такая вот херня. Но мне тоскливо стало, как я не знаю что.
– Я вам черкну, сэр. А вы разберитесь со своим гриппом.
– До свидания, мальчик мой.
Я как закрыл дверь, так и пошел сразу обратно в гостиную, а он еще заорал мне что-то, но я не очень расслышал. Наверняка что-нибудь вроде «Удачи!» Только надеюсь, что нет. Только, на фиг, не это. Я б никогда никому не орал «Удачи!» Жутко звучит, если вдуматься.
3
Я очень неслабо вру, вы такого в жизни не видели. Жуть. Если даже иду за журналом в магаз и кто-нибудь спросит, куда я намылился, я скорее всего отвечу, что иду в оперу. Страшное дело. Поэтому когда я сказал этому Спенсеру, что мне надо в спортзал за делами и всяко-разно, то были чистые враки. Не держу я ничего в спортзале.
В Пенси я жил в новой общаге, в крыле имени Оссенбергера. Там селят только младших и старших. Я был младшим. А в комнате со мной жил старший. Крыло назвали в честь этого Оссенбергера, который учился в Пенси. Доучившись, он сделал кучу грошей на похоронах. По всей стране наоткрывал бюро – там членов семьи можно было хоронить по пятерке за штуку. Вы б видели этого Оссенбергера. Он их, наверно, совал в мешок и в реку вываливал. Короче, Пенси он отслюнил кучу грошей, и в честь него назвали это наше крыло. На первый футбольный матч года он приехал в таком здоровенном, на фиг, «кадиллаке», а мы все на трибуне должны были встать и дать ему «паровозика» – это приветствие такое. На следующее утро в капелле он выдал нам речь – длиной в десять часов. Начал с полусотни фофанских анекдотов, только чтоб показать, какой он уматный парень. Что надо кипиш. Потом стал рассказывать, что, если у него неприятности или как-то, ему никогда не бывает стыдно пасть на коленки и помолиться Богу. И нам говорит, чтоб всегда молились Богу – беседовали с Ним и всяко-разно, – где бы мы ни были. Говорит, считайте Иисуса всяко-разно своим корефаном. Говорит, он все время с Христом разговаривает. Даже когда за рулем. Я чуть не сдох. Так и вижу: здоровенный фуфловый гад переключается на первую и просит Боженьку послать ему еще несколько жмуриков. Одна только хорошая фигня у него в середине речи была. Он нам рассказывал, какой он шикарный типус, какой ферт и всяко-разно, и тут этот парень, что сидел передо мной, Эдгар Марсалла, взял и так неслабо перднул. Очень дубово получилось – все-таки капелла и всяко-разно, но все равно хоть стой, хоть падай. Чуть, на фиг, крышу с капеллы не снесло. Почти никто вслух не засмеялся, а этот Оссенбергер сделал вид, что даже не услышал, только этот Тёрмер, директор наш, рядом сидел за кафедрой и всяко-разно, – вот он точняк все услышал, видно было. Ух как он рассвирепел. В тот раз ничего не сказал, а на следующий вечер собрал всех в аудиторию в главном корпусе, вышел вперед и толкнул речугу. Сказал, что мальчик, вызвавший нарушение порядка в капелле, недостоин учиться в Пенси. Мы хотели заставить этого Марсаллу выдать еще разок, прям пока Тёрмер трындит, да он был не в настроении. Ну, в общем, тут я и жил в Пенси. В крыле имени этого Оссенбергера, в новой общаге.
Когда я вернулся в комнату после этого Спенсера, там было путёво, потому что все еще были на стадионе, а внутри для разнообразия включили тепло. Даже как-то уютно. Я снял куртку и галстук, расстегнул воротничок, а потом надел кепарь, который утром купил в Нью-Йорке. Такой красный охотничий, с сильно длинным козырьком. Я кепарь этот увидел в витрине спортивного магаза, когда мы из метро вышли – сразу после того, как понял, что забыл, на фиг, все рапиры. Всего зеленый стоил. Я его вот как надел: козырек этот сдвинул на самый затылок – очень фофански, куда деваться, но мне так в жилу. Я зашибись так выглядел. Потом взял книжку, которую читал, и сел в кресло. В каждой комнате их стояло по два. У меня одно и у моего соседа Уорда Стрэдлейтера одно. Ручки у них уже свое доживали, потому что на них всегда кто-нибудь садился, но кресла все равно были вполне удобные такие.
А читал я книжку, которую взял в библиотеке по ошибке. Мне дали не ту книжку, а я не заметил, пока к себе не вернулся. Мне дали «Из Африки» Исака Динесена[4 - Исак (Айзек) Динесен – псевдоним датской писательницы баронессы Карен фон Бликсен-Финеке (1885–1962). «Из Африки» – ее автобиографический роман (1937).]. Думал, дрянь, а вот нет. Очень хорошая книжка. Я нормально так безграмотный, но читаю много. Мой любимый автор – брательник мой Д.Б., а за ним идет Ринг Ларднер[5 - Рингголд Уилмер Ларднер (1885–1933) – американский спортивный обозреватель и писатель-сатирик. Ниже упоминается его рассказ «Бывают такие улыбки» («There are Smiles», 1928).]. Мне Ринга Ларднера на деньрож брательник подарил, перед тем, как я в Пенси уехал. Там такие забавные долбанутые пьески, а один рассказ – про дорожного фараона, он еще сохнет по этой девке, которая все время скорость превышает. Только фараон женат, поэтому жениться на ней все равно не может никак. А девка потом убивается, потому что все время превышает скорость. Я от этого рассказа чуть не сдох. Мне в книжках вообще нравится, если там хоть иногда бывает смешно. Классики я тоже кучу целую читал, вроде «Возвращения на родину»[6 - «Возвращение на родину» (1878) – роман английского писателя Томаса Харди (1840–1928).] и всяко-разно, и мне нравится, а еще кучу книжек про войну и детективов, но мне они не сильно в жилу. Мне такие книжки в жилу, какие всю прочтешь – и жалеешь, что автор тебе не дружбан неслабый и ему нельзя позвонить, когда захочется. Но такое нечасто бывает. Хотя этой Исаку Динесену я бы позвонил. И Рингу Ларднеру – только Д.Б. говорит, он уже умер. А взять, скажем, «Бремя страстей человеческих» Сомерсета Моэма[7 - Уильям Сомерсет Моэм (1874–1965) – английский писатель. Его роман «Бремя страстей человеческих» опубликован в 1915 г.]. Я ее прошлым летом читал. Будь здоров книжка и всяко-разно, но вот Сомерсету Моэму звонить как-то не в струю. Не такой он парень, чтоб ему звонить, только и всего. Я б лучше Томасу Харди позвонил. Путёвая у него эта Юстасия Вай.
В общем, нацепил я свой новый кепарь и сел читать эту книжку «Из Африки». Я ее уже читал, но какие-то части хотел еще раз. Только успел страницы три, и тут слышу, через шторки ванной кто-то идет. Даже не глядя, сразу понял, кто. Роберт Экли, этот парень, что живет рядом. В нашем крыле между каждой парой комнат есть душ, и по восемьдесят пять раз на дню этот Экли ко мне врывается. Он, наверно, один во всей общаге, кроме меня, на футбол не пошел. Он, считай, вообще никуда не ходит. С прибабахом парень. Он старший, в Пенси уже четыре года и всяко-разно, но его все только «Экли» и зовут. Даже Херб Гэйл, сосед его по комнате, никогда не зовет его «Боб» – и даже «Эк» не зовет. Если он когда-нибудь женится, наверно, и жена будет звать его «Экли». Он такой дылда, плечи покатые – росту в нем где-то шесть и четыре, – и с паршивыми зубами. Все время, пока он рядом жил, я ни разу не видел, чтоб он их чистил. Они у него вечно как мхом поросли, жуть, в общем, и на него глянешь, на фиг, в столовой – сразу блевать тянет: пасть набита пюре с горошком или еще как-то. А кроме того, он прыщавый. Не только на лбу и подбородке, как у многих парней, а по всей роже. Мало того – у него еще и характер жуткий. Мерзкий, в общем, парняга. Мне он, сказать вам правду, не очень в жилу.
Я чувствовал, как он стоит на порожке душа прямо за моим креслом – заглядывает, дома ли Стрэдлейтер. Стрэдлейтера он терпеть не может и в комнату никогда не заходит, если тот дома. Он, на фиг, вообще никого терпеть не может.
Вот он соступил с порожка и вошел в комнату.
– Здоро?во, – говорит. Он это всегда говорит так, точно ему неслабо скучно или он неслабо устал. Не дай боже подумаешь, будто он к тебе в гости зашел или как-то. Уж лучше пускай думают, что он заглянул по ошибке, ёксель-моксель. – Здорово, – говорит, но я от книжки даже не оторвался. С таким, как Экли, от книжки оторвешься – и капец. Тебе по-любому капец, но хоть не так быстро.
Он давай по комнате мотыляться – очень медленно и всяко-разно, он вечно так делает, берет вещи со стола и шифоньерки. Всегда берет твои вещи и ну разглядывать. Ух как он иногда на нервы действует.
– Как сражнулись? – спрашивает. Ему просто хотелось, чтоб я бросил читать, раз видит, что мне зашибись. На фехтование ему надристать. – Мы выиграли или как?
– Никто не выиграл, – говорю я. Но не отрываясь от книжки.
– Чего? – говорит. Он вечно заставляет повторять ему все дважды.
– Никто не выиграл, – говорю. А сам косяка даванул, как он у меня по шифоньерке шарится. Он как раз пялился на фотку той девчонки, с которой я в Нью-Йорке ходил, Сэлли Хейз. Как я фотку, на фиг, себе завел, он ее, наверно, уже пять тыщ раз брал и пялился. И, закончив, всегда не туда ставил. Это он спецом. Точняк.
– Никто не выиграл? – говорит. – Это как?
– Я, на фиг, рапиры и все дела в метро забыл. – Я на него по-прежнему не смотрел.
– В метро, елки-палки! Ты их потерял, то есть?
– Мы сели не в то метро. Надо было вставать все время, по карте, на фиг, смотреть на стенке.
Он подошел и загородил мне весь свет.
Но вот умора – пока ему гонял все это, думал я вроде как о чем-то совсем другом. Живу я в Нью-Йорке, и думал я о пруде в Центральном парке, возле Южной Сентрал-Парк. Интересно, замерзнет он, когда я домой приеду, и если да, куда денутся утки? Интересно, куда вообще утки деваются, когда пруд весь перемерзает. Может, приезжает кто-нибудь на грузовике и забирает их в зоосад или как-то. А может, просто улетают.
Но мне везет. То есть, я могу этому Спенсеру гонять туфту и в то же время думать про уток. Умора. Когда с учителем говоришь, напрягаться и думать, в общем, не надо. И вдруг – гоню я, а он меня перебивает. Он же всегда перебивает.
– А тебе-то каково, мальчик мой? Вот что мне очень интересно знать. Очень интересно.
– В смысле – насчет выпуля из Пенси и всяко-разно? – говорю. Хоть бы он грудь эту свою вислую прикрыл. Не очень красивое зрелище.
– Если не ошибаюсь, у тебя были какие-то трудности и в Вутоне, и в Элктон-Хиллз. – Он это не просто язвительно сказал, а еще и как-то погано.
– В Элктон-Хиллз у меня особых трудностей не было, – говорю я. – Я там не провалил ничего, никак. Я вроде как бросил, сам.
– Почему, могу я спросить?
– Почему? Ой, это долгая история, сэр. То есть, ничего себе запутанная такая. – Не пускаться же мне с ним во все это, еще чего. Он бы все равно ни шиша не понял. Да и вообще не его это дело. Главная причина, почему я свалил из Элктон-Хиллз: меня там окружало сплошь фуфло. Вот и все. Из всех щелей оно там, на фиг, лезло. Взять директора, мистера Хааса – фуфловее гада я в жизни не встречал. В десять раз хуже этого Тёрмера. По воскресеньям, к примеру, этот Хаас расхаживал и жал руки всем штрикам, что в школу приезжали. Само обаяние, как я не знаю что, куда деваться. Если только у какого-нибудь пацана эти штрики не с каким-нибудь прибабахом. Вы б видели, как он с предками моего соседа по комнате обошелся. В смысле, если у пацана штруня какая-нибудь толстая, или на вид фофанская, или еще как-то, а штрик такие костюмы носит со здоровыми плечами и фофанские черно-белые ботинки, этот Хаас только руку им жал да улыбался фуфлово, а потом шел и, может, полчаса трындел с чьими-нибудь другими предками. Я такую хренотень терпеть не могу. Хоть на стену лезь. Меня так пришибает, что я как с цепи срываюсь. Я Элктон-Хиллз, на фиг, ненавидел.
Этот Спенсер у меня еще чего-то спросил, но я не расслышал. Думал про этого Хааса.
– Чего, сэр? – говорю.
– Тебя что-нибудь тревожит от того, что ты уходишь из Пенси?
– Ой, ну кое-что тревожит, да. Конечно… только не слишком много. Пока, во всяком случае. Наверно, еще не осознал. Я вообще осознаю все через некоторое время. Я сейчас думаю про то, как в среду поеду домой. Я дубина.
– Мальчик мой, тебя совершенно не заботит твое будущее?
– Ой, ну конечно, мое будущее меня немножко заботит. Еще бы. Ну да, конечно. – Я целую минуту об этом думал. – Но, наверно, не слишком. Наверно, не слишком.
– А оно тебя озаботит, – говорит этот Спенсер. – Непременно, мальчик мой. Но тогда будет слишком поздно.
Фигово он это сказал. Точно я сдох или как-то. Очень тоскливо.
– Наверно, да, – говорю.
– Мне хотелось бы вправить тебе мозги, мальчик мой. Я пытаюсь тебе помочь. Я пытаюсь помочь тебе, если это в моих силах.
И впрямь пытается. Это видно. Мы с ним просто слишком по разные концы дышла, вот и все.
– Я знаю, сэр, – говорю я. – Большое спасибо. Кроме шуток. Я вам благодарен. По-честному. – Тут я встал с кровати. Ну хоть убейте меня, а я б там и десяти минут больше не высидел. – Только штука в том, что мне уже пора. У меня куча всего в спортзале осталась, а мне это домой везти. Честно надо.
Он на меня поглядел и снова давай себе кивать, а лицо серьезное такое. Мне его жалко стало, как я не знаю что, – ни с того ни с сего. Но не могу ж я тут зависнуть, раз мы с ним по разные концы дышла, и он недобрасывает до кровати, если что-нибудь на нее кидает, и у него тоскливый халат, из которого грудь выглядывает, и гриппозная эта вонь от закапки в нос повсюду.
– Сэр, послушайте. Вы за меня не бойтесь, – говорю. – Я не шучу. Все будет отлично. Просто у меня сейчас период такой. У всех периоды бывают всяко-разно, правда?
– Не знаю, мальчик мой. Не знаю. Терпеть не могу, когда так отвечают.
– Да точно. Точно бывает, – говорю. – Я не шучу, сэр. Не волнуйтесь за меня, пожалуйста. – И я как бы положил руку ему на плечо. – Ладно? – говорю.
– Не выпьешь горячего шоколаду перед уходом? Миссис Спенсер бы…
– Я б выпил, по-честному, но штука в том, что мне пора. Надо в спортзал бежать. Но спасибо. Большое спасибо, сэр.
И мы пожали друг другу руки. Такая вот херня. Но мне тоскливо стало, как я не знаю что.
– Я вам черкну, сэр. А вы разберитесь со своим гриппом.
– До свидания, мальчик мой.
Я как закрыл дверь, так и пошел сразу обратно в гостиную, а он еще заорал мне что-то, но я не очень расслышал. Наверняка что-нибудь вроде «Удачи!» Только надеюсь, что нет. Только, на фиг, не это. Я б никогда никому не орал «Удачи!» Жутко звучит, если вдуматься.
3
Я очень неслабо вру, вы такого в жизни не видели. Жуть. Если даже иду за журналом в магаз и кто-нибудь спросит, куда я намылился, я скорее всего отвечу, что иду в оперу. Страшное дело. Поэтому когда я сказал этому Спенсеру, что мне надо в спортзал за делами и всяко-разно, то были чистые враки. Не держу я ничего в спортзале.
В Пенси я жил в новой общаге, в крыле имени Оссенбергера. Там селят только младших и старших. Я был младшим. А в комнате со мной жил старший. Крыло назвали в честь этого Оссенбергера, который учился в Пенси. Доучившись, он сделал кучу грошей на похоронах. По всей стране наоткрывал бюро – там членов семьи можно было хоронить по пятерке за штуку. Вы б видели этого Оссенбергера. Он их, наверно, совал в мешок и в реку вываливал. Короче, Пенси он отслюнил кучу грошей, и в честь него назвали это наше крыло. На первый футбольный матч года он приехал в таком здоровенном, на фиг, «кадиллаке», а мы все на трибуне должны были встать и дать ему «паровозика» – это приветствие такое. На следующее утро в капелле он выдал нам речь – длиной в десять часов. Начал с полусотни фофанских анекдотов, только чтоб показать, какой он уматный парень. Что надо кипиш. Потом стал рассказывать, что, если у него неприятности или как-то, ему никогда не бывает стыдно пасть на коленки и помолиться Богу. И нам говорит, чтоб всегда молились Богу – беседовали с Ним и всяко-разно, – где бы мы ни были. Говорит, считайте Иисуса всяко-разно своим корефаном. Говорит, он все время с Христом разговаривает. Даже когда за рулем. Я чуть не сдох. Так и вижу: здоровенный фуфловый гад переключается на первую и просит Боженьку послать ему еще несколько жмуриков. Одна только хорошая фигня у него в середине речи была. Он нам рассказывал, какой он шикарный типус, какой ферт и всяко-разно, и тут этот парень, что сидел передо мной, Эдгар Марсалла, взял и так неслабо перднул. Очень дубово получилось – все-таки капелла и всяко-разно, но все равно хоть стой, хоть падай. Чуть, на фиг, крышу с капеллы не снесло. Почти никто вслух не засмеялся, а этот Оссенбергер сделал вид, что даже не услышал, только этот Тёрмер, директор наш, рядом сидел за кафедрой и всяко-разно, – вот он точняк все услышал, видно было. Ух как он рассвирепел. В тот раз ничего не сказал, а на следующий вечер собрал всех в аудиторию в главном корпусе, вышел вперед и толкнул речугу. Сказал, что мальчик, вызвавший нарушение порядка в капелле, недостоин учиться в Пенси. Мы хотели заставить этого Марсаллу выдать еще разок, прям пока Тёрмер трындит, да он был не в настроении. Ну, в общем, тут я и жил в Пенси. В крыле имени этого Оссенбергера, в новой общаге.
Когда я вернулся в комнату после этого Спенсера, там было путёво, потому что все еще были на стадионе, а внутри для разнообразия включили тепло. Даже как-то уютно. Я снял куртку и галстук, расстегнул воротничок, а потом надел кепарь, который утром купил в Нью-Йорке. Такой красный охотничий, с сильно длинным козырьком. Я кепарь этот увидел в витрине спортивного магаза, когда мы из метро вышли – сразу после того, как понял, что забыл, на фиг, все рапиры. Всего зеленый стоил. Я его вот как надел: козырек этот сдвинул на самый затылок – очень фофански, куда деваться, но мне так в жилу. Я зашибись так выглядел. Потом взял книжку, которую читал, и сел в кресло. В каждой комнате их стояло по два. У меня одно и у моего соседа Уорда Стрэдлейтера одно. Ручки у них уже свое доживали, потому что на них всегда кто-нибудь садился, но кресла все равно были вполне удобные такие.
А читал я книжку, которую взял в библиотеке по ошибке. Мне дали не ту книжку, а я не заметил, пока к себе не вернулся. Мне дали «Из Африки» Исака Динесена[4 - Исак (Айзек) Динесен – псевдоним датской писательницы баронессы Карен фон Бликсен-Финеке (1885–1962). «Из Африки» – ее автобиографический роман (1937).]. Думал, дрянь, а вот нет. Очень хорошая книжка. Я нормально так безграмотный, но читаю много. Мой любимый автор – брательник мой Д.Б., а за ним идет Ринг Ларднер[5 - Рингголд Уилмер Ларднер (1885–1933) – американский спортивный обозреватель и писатель-сатирик. Ниже упоминается его рассказ «Бывают такие улыбки» («There are Smiles», 1928).]. Мне Ринга Ларднера на деньрож брательник подарил, перед тем, как я в Пенси уехал. Там такие забавные долбанутые пьески, а один рассказ – про дорожного фараона, он еще сохнет по этой девке, которая все время скорость превышает. Только фараон женат, поэтому жениться на ней все равно не может никак. А девка потом убивается, потому что все время превышает скорость. Я от этого рассказа чуть не сдох. Мне в книжках вообще нравится, если там хоть иногда бывает смешно. Классики я тоже кучу целую читал, вроде «Возвращения на родину»[6 - «Возвращение на родину» (1878) – роман английского писателя Томаса Харди (1840–1928).] и всяко-разно, и мне нравится, а еще кучу книжек про войну и детективов, но мне они не сильно в жилу. Мне такие книжки в жилу, какие всю прочтешь – и жалеешь, что автор тебе не дружбан неслабый и ему нельзя позвонить, когда захочется. Но такое нечасто бывает. Хотя этой Исаку Динесену я бы позвонил. И Рингу Ларднеру – только Д.Б. говорит, он уже умер. А взять, скажем, «Бремя страстей человеческих» Сомерсета Моэма[7 - Уильям Сомерсет Моэм (1874–1965) – английский писатель. Его роман «Бремя страстей человеческих» опубликован в 1915 г.]. Я ее прошлым летом читал. Будь здоров книжка и всяко-разно, но вот Сомерсету Моэму звонить как-то не в струю. Не такой он парень, чтоб ему звонить, только и всего. Я б лучше Томасу Харди позвонил. Путёвая у него эта Юстасия Вай.
В общем, нацепил я свой новый кепарь и сел читать эту книжку «Из Африки». Я ее уже читал, но какие-то части хотел еще раз. Только успел страницы три, и тут слышу, через шторки ванной кто-то идет. Даже не глядя, сразу понял, кто. Роберт Экли, этот парень, что живет рядом. В нашем крыле между каждой парой комнат есть душ, и по восемьдесят пять раз на дню этот Экли ко мне врывается. Он, наверно, один во всей общаге, кроме меня, на футбол не пошел. Он, считай, вообще никуда не ходит. С прибабахом парень. Он старший, в Пенси уже четыре года и всяко-разно, но его все только «Экли» и зовут. Даже Херб Гэйл, сосед его по комнате, никогда не зовет его «Боб» – и даже «Эк» не зовет. Если он когда-нибудь женится, наверно, и жена будет звать его «Экли». Он такой дылда, плечи покатые – росту в нем где-то шесть и четыре, – и с паршивыми зубами. Все время, пока он рядом жил, я ни разу не видел, чтоб он их чистил. Они у него вечно как мхом поросли, жуть, в общем, и на него глянешь, на фиг, в столовой – сразу блевать тянет: пасть набита пюре с горошком или еще как-то. А кроме того, он прыщавый. Не только на лбу и подбородке, как у многих парней, а по всей роже. Мало того – у него еще и характер жуткий. Мерзкий, в общем, парняга. Мне он, сказать вам правду, не очень в жилу.
Я чувствовал, как он стоит на порожке душа прямо за моим креслом – заглядывает, дома ли Стрэдлейтер. Стрэдлейтера он терпеть не может и в комнату никогда не заходит, если тот дома. Он, на фиг, вообще никого терпеть не может.
Вот он соступил с порожка и вошел в комнату.
– Здоро?во, – говорит. Он это всегда говорит так, точно ему неслабо скучно или он неслабо устал. Не дай боже подумаешь, будто он к тебе в гости зашел или как-то. Уж лучше пускай думают, что он заглянул по ошибке, ёксель-моксель. – Здорово, – говорит, но я от книжки даже не оторвался. С таким, как Экли, от книжки оторвешься – и капец. Тебе по-любому капец, но хоть не так быстро.
Он давай по комнате мотыляться – очень медленно и всяко-разно, он вечно так делает, берет вещи со стола и шифоньерки. Всегда берет твои вещи и ну разглядывать. Ух как он иногда на нервы действует.
– Как сражнулись? – спрашивает. Ему просто хотелось, чтоб я бросил читать, раз видит, что мне зашибись. На фехтование ему надристать. – Мы выиграли или как?
– Никто не выиграл, – говорю я. Но не отрываясь от книжки.
– Чего? – говорит. Он вечно заставляет повторять ему все дважды.
– Никто не выиграл, – говорю. А сам косяка даванул, как он у меня по шифоньерке шарится. Он как раз пялился на фотку той девчонки, с которой я в Нью-Йорке ходил, Сэлли Хейз. Как я фотку, на фиг, себе завел, он ее, наверно, уже пять тыщ раз брал и пялился. И, закончив, всегда не туда ставил. Это он спецом. Точняк.
– Никто не выиграл? – говорит. – Это как?
– Я, на фиг, рапиры и все дела в метро забыл. – Я на него по-прежнему не смотрел.
– В метро, елки-палки! Ты их потерял, то есть?
– Мы сели не в то метро. Надо было вставать все время, по карте, на фиг, смотреть на стенке.
Он подошел и загородил мне весь свет.