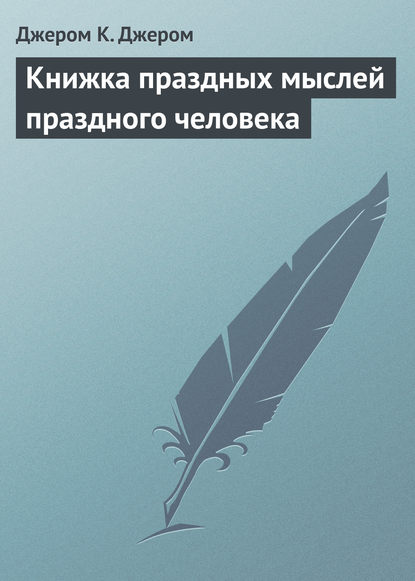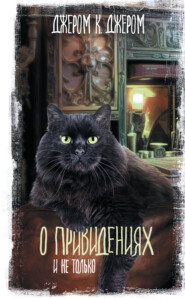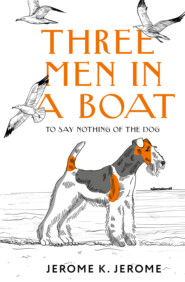По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Книжка праздных мыслей праздного человека
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Возле ваших ног трется кошка; вы выталкиваете ее за дверь, которую затем запираете на ключ. Тут вам приходит в голову, что не мешало бы написать два-три письма. Беретесь за перо, но, написав что-нибудь вроде следующего: «Дорогая тетушка! Улучив пять минут свободного времени, спешу воспользоваться ими, чтобы написать вам», – вам уж больше не удается выжать из своего подавленного мозга ни одной фразы. Чуть не изжевав или измяв в зубах – смотря по материалу – ручку пера, вы бросаете ее куда попало, рвете начатое письмо на мельчайшие клочья и вскакиваете с кресла с твердым намерением развлечься посещением ваших добрых знакомых Томпсонов. Но пока вы надеваете перчатки, вам начинает казаться, что Томпсоны – люди очень глупые, что, если вы пойдете к ним, вам придется понянчиться с их последним отпрыском и что, вдобавок, у них никогда не бывает ужина. Вы проклинаете Томпсонов и решаетесь остаться дома.
В это время вы чувствуете себя совершенно разбитым. Вам хотелось бы умереть и попасть в рай. И вот вы начинаете представлять себя лежащим на смертном одре, окруженном всеми вашими родными, друзьями и знакомыми, проливающими ручьи слез. Мысленно вы благословляете их всех, в особенности тех из знакомых дам, которые помоложе и покрасивее. Вы говорите себе, что все эти люди оценят вас, когда вас уже не будет на свете, и с горечью сопоставляете их предполагаемые будущие добрые чувства к вам с тем равнодушием, которое они до сих пор питали к вашей особе, прикрываясь лишь маской лицемерия.
Все-таки мысль, что вас будут оплакивать хоть мертвого, на минуту утешает вас, но вслед за тем вы обзываете себя дураком за то, что могли хоть на одно мгновение вообразить себе, что даже ваша смерть в состоянии будет огорчить кого-нибудь. Вообще никому нет дела до вас, хотя бы вас повесили, расстреляли, взорвали или если бы вы даже женились. Никогда никому вы не были милы и дороги; никто никогда не воздавал вам даже должного, и вообще вам с самой колыбели не сладко жилось на свете; следовательно, не сладко будет умирать, – с полной логичностью заключаете вы.
В итоге этих и тому подобных размышлений вы доходите до степени белого каления в ненависти ко всему миру вообще, а в частности к собственной особе, которую вам, за неимением под рукой другого подходящего субъекта, очень хотелось бы даже хорошенько отдуть, если бы этому не мешали, так сказать, анатомические условия.
Кое-как вы дотягиваете до того времени, когда привыкли ложиться спать. Окрыленные надеждой, что хоть сон даст вам облегчение, вы опрометью мчитесь в спальню, срываете с себя и разбрасываете по всему полу свою одежду, поспешно тушите свечу и с таким ожесточением бросаетесь на постель, что она вся трещит и дребезжит.
Но и сон недружелюбен к вам и упорно бежит от вас. Вы ворчите, стонете, ворочаетесь с боку на бок, то раскрываетесь, потому что вам кажется нестерпимо жарко, то вновь закутываетесь одеялом, дрожа от ощущения холода. Когда-то, когда-то вам, наконец, удается забыться в тяжелом, тревожном сне с кошмарными видениями, от которых тщетно стараетесь избавиться, глухо крича что-то и размахивая руками. Просыпаетесь вы поздно, и все в том же «не в духе».
Так обстоит дело с нами, холостяками. У людей семейных картина немного видоизменяется. Будучи не в духе, они шпыняют своих жен, капризничают за столом, среди дня посылают спать своих детей, вообще приводят в расстройство весь дом. Возбужденные ими шум, суета и беспорядок доставляют им некоторого рода облегчение, потому что тогда они страдают не одни, а в компании.
Наружные признаки того состояния, которое определяется словами «быть не в духе», приблизительно одни и те же, но внутренние ощущения при этом бывают различны, в зависимости от личных свойств каждого субъекта. Поэтому каждый человек различно характеризует свое, так сказать, душевное недомогание. Одни в это время говорят о себе, что на них напала страшная беспричинная тоска; другие жалуются: «решительно не могу понять, что это сегодня делается со мной: все опротивело!»; третьи, встретив вас где-нибудь в собрании, выражают особенную радость видеть вас, потому что надеются с вами «отвести душу». «Что же касается меня лично, – добавляют они, – то я чувствую себя так, точно не доживу до следующего утра».
У многих такое состояние бывает только по вечерам, когда затихают шум и суета делового дня, не дававшие вам время почувствовать то, что делается внутри вас. Во всяком случае днем у вас есть возможность тем или другим способом отделаться от скребущих у вас на сердце кошек, но вечером, когда вы одиноки и настолько обеспечены, что не нуждаетесь в добавочных вечерних трудах, вы вполне во власти своего «нутра».
Угнетенное состояние духа вызывается у нас не действительностью; она слишком груба, чтобы допускать расплывчатость чувств. Мы можем проливать слезы над трогательной картиной, но если бы мы встретили такую же картину в живых лицах, то поспешили бы отвернуться от нее. В истинной нужде нет ничего патетического, как нет наслаждения в настоящей горести. Мы не играем острыми мечами и по доброй воле не прижимаем к сердцу змею. Когда кто-нибудь демонстративно предается своим горестям и, видимо, усиливается разжигать их в себе, это значит, что он не испытывает действительных страданий. Сначала, действительно, могло быть и настоящее страдание, но с течением времени оно побледнело, от него осталось одно воспоминание, которое и доставляет своего рода удовольствие.
Я знаю, что меня назовут циником многие старые дамы, ежедневно погруженные в созерцание крохотных поношенных башмачков, хранящихся у них на дне душистых ящичков, и плачущие при мысли о тех маленьких ножках, которые когда-то бегали в этих башмачках, а потом вдруг навеки замерли. Не жду я иной аттестации и от тех девиц, которые кладут себе под подушку черную или светлую прядь кудрей, украшавших голову прекрасного юноши, зацелованного до смерти солеными морскими волнами. Но я уверен, что, если бы спросить этих дам и девиц, мучительны ли им такие воспоминания, они ответили бы отрицательно.
Для некоторых лиц слезы так же приятны, как смех. Вошедший в пословицу англичанин, описанный нам старым летописцем Фруассаром, печально воспринимал все удовольствия, английская же женщина идет еще дальше; она находит удовольствие в самой печали.
Я не с насмешкой пишу это и вовсе не расположен насмехаться над чем бы то ни было, что может еще смягчить сердца в этом жестоком мире. Я рад, что еще есть мягкие сердца у женщин. Довольно того, что сами-то мы, мужчины, холодны и рассудительны: похожих на нас женщин нам вовсе не нужно. Нет, нет, дорогие дамы, не пугайтесь моих слов. Оставайтесь чувствительными и мягкосердечными; будьте смягчающим маслом к нашему сухому насущному хлебу.
Чувствительность для женщины – то же самое, что наклонность ко всякого рода забавам и потехам у нас. Ведь женщины не мешают же нам в наших удовольствиях, так зачем же мы будем попрекать их склонностью к постоянному искусственному переживанию былых горестей? И чем же, наконец, это их удовольствие хуже наших? Почему мы должны предполагать, что вздувшаяся от натуги грудь, судорожно искривленное красное лицо и широко разинутый рот, испускающий раздирающий уши смех, указывают на более разумную степень испытуемого данным субъектом удовольствия, нежели задумчивое женское лицо, опушенное на белую руку, и пара затуманенных слезами глаз, глядящих назад, в погибшее прошлое?
Нет, я положительно радуюсь, когда вижу, что женщина подружилась с печалью; радуюсь, потому что знаю, что в этом случае печаль уже утратила свою первоначальную мучительную остроту и горечь. Бывает ведь это и у нас. И нам самим может казаться прекрасным лицо печали, когда оно лишилось своего жала; тогда и мы с некоторым наслаждением можем прижаться губами к ее бледному челу.
Мало ли ран наносится беспощадной жизнью и нашему мужскому сердцу. Когда всеисцеляющее время затянет эти раны, мы спокойно можем созерцать в своем воспоминании то, что нас ранило и заставило тяжело страдать. Не тяжела нам больше свалившаяся с наших плеч ноша, когда мы, подобно Тому и Меджи Тюливерам, получившим возможность пойти рука об руку, видим ее лишь в прошедшем.
Том и Меджи привели мне на память одно изречение мистрис Джордж Элиот. Где-то в одном из своих романов она говорит о «печали летнего вечера». Все хорошо, что выходило из-под золотого пера этой писательницы; бесподобно хорошо и это выражение. Действительно, кто не испытывал чарующей печали медлительного солнечного заката? Кто не чувствовал, что в это время мир находится во власти самой богини Печали, этой прекрасной девы с задумчивым лицом и бездонно глубокими глазами, избегающей дневного блеска? Она показывается только тогда, когда, по словам поэта, «меркнет свет и ворон летит на ночлег на лесистый утес». Ее дворец скрыт в сумерках, Вы можете увидеть ее стоящей в серой мгле. Она приветливо берет вас за руку и ведет по своим таинственным туманным владениям. Вы лишь смутно различаете ее формы, но ясно слышите шелест ее крыльев.
Она может встретиться вам даже в столичном шуме и сутолоке. Ведь и там, на каждой длинной мрачной улице, чувствуется присутствие печали, а темная река призрачно переливается под черными арками и как бы несет в своих мутных водах какую-то тяжелую и тоже печальную тайну.
В сельской же тишине, где деревья и живые изгороди в спутанных и туманных очертаниях вырисовываются на фоне тонущего в сумерках неба, где вокруг нас шумят крылья летучих мышей и где так глухо разносится по молчаливым вечерним полям жалобный крик коростеля, – чары печали особенно сильно охватывают сердце. В это время нам кажется, что мы стоим у чьего-то незримого смертного ложа, и в шелесте древесных ветвей нам слышатся вздохи умирающего дня…
Мы невольно чувствуем, что здесь всюду царит великая грусть. Торжественное безмолвие окружает нас. В этот час все наши дневные заботы кажутся нам такими мелкими и жалкими, а насущный хлеб с ломтем сыра, даже и… поцелуи теряют всякую цену в наших глазах. Мысли в нашем мозгу не оформляются, но лишь смутно намечаются и тут же гибнут непризнанными. Стоя одиноко среди поля, под темнеющим сводом неба, мы сознаем, что в нас заключено нечто более великое, чем наша бедная жизнь. Мир, со всех сторон закрываемый сотканными из серых теней занавесами, превращается для нас из обыденной мастерской в величавый храм, куда нас тянет молиться и где, в этой таинственной мгле, наши распростертые вперед руки касаются Самого Бога…
III
О суете и тщеславии
Все суета, и каждый человек суетен. Суетны женщины. Суетны мужчины, и, пожалуй, еще более, если это возможно. Суетны дети, и даже преимущественно дети. В настоящий момент, когда я пишу эти строки, маленький ребенок изо всех силенок барабанит своими крохотными ручонками по моим коленям. Этот ребенок – женского пола и требует, чтобы я высказал свое мнение насчет только что надетых на его ножки новых башмачков. По совести я бы должен сказать, что эти башмачки мне вовсе не нравятся. Они кажутся слишком плоскими, неуклюжими и дурной формы. Впрочем, это дурное впечатление может зависеть и от того, что башмаки надеты оба не на ту ногу. Но ведь девочка ждет от меня не порицания, а похвалы, и я хотя и чувствую всю унизительность лжи, но поневоле разливаюсь в красноречивых похвалах башмачкам своей маленькой племянницы. Ведь я знаю, что ничем другим не могу удовлетворить суетному тщеславию этого ясноглазого, светловолосого и розоволицего херувимчика. Я уже пробовал в одном случае говорить ему правду по совести, но не имел успеха. Дело было в том, что девочка желала знать, не нахожу ли я, что она особенная «паинька» и очень ли я ее за это «юбю». Я было обрадовался этому случаю, как вполне подходящему к тому, чтобы сделать маленькой шалунье несколько поучительных разъяснений относительно настоящего характера ее поведения за последние дни. Заявив, что вовсе не нахожу свою племянницу «паинькой», почему и не могу ее очень любить, я напомнил ей все те шалости, которые она проделала не дальше как в течение утра настоящего дня, и принялся объяснять, что несправедливо ждать очень горячей любви от старого мудрого дяди маленькой девочки. Разве не она в 5 часов утра своим неистовым ревом перебудила и подняла на ноги весь дом, в 7 опрокинула ведро с водой на лестнице и сама чуть не расшибла себе при этом голову, скувырнувшись с той же лестницы, в 8 захотела выкупать кошку в молоке, а в 9 с половиной превратила в блин шляпу своего отца, усевшись на ней?
И что же, вы думаете, получилось в результате? Была ли моя племянница признательна мне за то, что я так откровенно высказал ей правду? Прониклась ли она моими словами и почувствовала ли на основании этих слов потребность исправиться и в будущем вести себя степеннее и разумнее?
Как бы не так! Напротив, не дослушав их, она разревелась еще хуже, чем утром. Наревевшись всласть, она с гневом крикнула мне:
– Адкий… оцень адкий дяйка! нехоосий дяйка!.. зьой стаикаска!.. Я сказу маме… позаююсь ей!
И стремглав убежала к маме, которой действительно нажаловалась на меня, так что мне же потом пришлось оправдываться.
С тех пор я тщательно храню про себя свое истинное мнение и всегда, когда того требует моя тщеславная племянница, выражаю безграничное восхищение всеми ее шалостями и вещами. Выслушав меня с радостно блестящими глазенками и вполне сочувственными кивками своей светлокудрой головки, она, громко топоча ножками, весело бежит оповестить всех домашних о том, что «тепей дяя оцень умный и добый» и «оцень юбит» ее. Делается это оповещение, между прочим, и с утилитарной целью, судя по тому, что каждый раз девочка добавляет: «Дяя сказай, – паиньке нузно дать койфеток».
Добившись и на этот раз от меня похвалы своим башмачкам, она удаляется в виде воплощенного торжествующего тщеславия. Даже несвойственная, казалось бы, ее нежному возрасту гордость рисуется на ее личике, словно похвала ее обуви относится к ее собственным действительным достоинствам.
Все дети таковы. Однажды, когда я сидел в одном саду в окрестностях Лондона, вечерняя тишина вдруг нарушилась звонким детским голоском, пронзительно кричавшим в соседнем саду: «Гамма, Гамма! Представь себе, ведь мама подарила мне праздничную курточку Боба! Он из нее вырос… Ах, как я рад, как я рад!» И действительно, слышно было, как кричавший мальчуган захлебывался от радости.
Даже животные суетны и тщеславны. Мне пришлось видеть, как большой ньюфаундлендский пес с великим самоуслаждением любовался на свое изображение в зеркале. Это было в блестящем модном магазине на одной из самых оживленных улиц Лондона, и не я один видел этого влюбленного в свою особу пса.
Как-то раз я присутствовал на одном сельском празднестве, имевшем отношение к домашнему скоту. После совершения разных церемоний перед собранным на лугу коровьим стадом на одну из представительниц этого стада был возложен венок из полевых цветов. Поверите ли? Эта четвероногая особа весь день потом ходила точь-в-точь с таким же напыщенным видом, с каким ходят дети в новом нарядном платье. Вечером, когда наступило время доения и венок был с коровы снят, она выразила признаки крайнего неудовольствия, начала брыкаться, чего раньше никогда не делала, и успокоилась лишь после того, когда венок снова был водворен на ее рога. Это не анекдот, а правдивая картина из жизни.
Кошки своим тщеславием еще ближе подходят к человеку. Я знал кошку, которая демонстративно уходила, когда слышала неодобрительные отзывы о своем племени; маленький же комплимент, отпущенный ей, заставлял ее долго мурлыкать от удовольствия.
Я люблю кошек. Они так бессознательно забавны. Сколько в них комического достоинства, сколько умения придавать себе такой вид, с которым она яснее всяких слов говорит: «Как ты смеешь! Пошел, не трогай меня!» В собаках нет такой высокомерности. Они всегда готовы подружиться с кем угодно. Встречаясь со знакомым псом, я глажу его рукой по голове, говорю ему несколько нежных слов и опрокидываю его на спину. Нисколько не обидевшись, он катается предо мной на земле, шутливо разевает пасть и протягивает мне все свои лапы.
Попробуйте поступить так бесцеремонно с кошкой, и она никогда больше не станет «разговаривать» с вами. Чтобы расположить к себе кошку, вам следует действовать очень осторожно, с тонким расчетом. Знакомство с кошкой вам лучше всего начать со слов: «Бедная киска!» – и немного спустя добавить тоном сердечного сочувствия: «Славная киска!» Это так подействует на ее сердце, в особенности если у вас приличный вид и внушающие доверие манеры, что кошка сделает «спинку» и начнет тереться о вас носом. Раз вами достигнут этот успех, вы можете потрепать ее по шее и почесать у нее за ушками; это уже приведет к такой растроганности киску, что она, в виде особенной ласки, довольно чувствительно впустит вам в ноги свои когти, и тогда у вас с ней будет закреплена та дружба, которая описана поэтом следующими словами:
«Я люблю свою киску. У ней такая мягкая шубка, и, если не раздражать киску, она очень мила. Я ласково треплю и глажу ее рукой; сытно кормлю ее, и она меня любит за то, что я добр к ней».
Последние слова дают полное понятие о том, что именно кошка представляет себе под человеческой добротой: кто погладит и потреплет ее по спинке и притом досыта кормит, тот и добр в ее глазах. Впрочем, такой узкий взгляд на добродетель свойствен не одним кошкам; ведь и сами мы, люди, в большинстве случаев оцениваем друг друга с той же утилитарной точки зрения. Добрым человеком мы называем того, кто добр именно лично к нам, а злым – того, кто не делает для нас того, чего мы от него ожидаем.
В самом деле, по совести, мы должны сознаться в существующем у нас врожденном убеждении, что весь мир со всем в нем находящимся создан лишь как необходимое дополнение к нам; а все люди существуют только для того, чтобы доставлять нам всякие удовольствия и удобства, между прочим, и с той целью, чтобы было кому восхищаться нами.
Каждый из нас совершенно серьезно считает себя мировым центром. Под этим углом зрения смотрим друг на друга и мы с вами, любезный читатель. Вы, по-моему, сотворены заботливым Провидением единственно для того, чтобы читать мои произведения и платить мне за это удовольствие, а я, по-вашему, послан в мир именно с той миссией, чтобы я забавлял вас своими писаниями.
Звезды – как мы называем те мириады других миров, которые кружатся вокруг нас в вечном безмолвии, – считаются нами устроенными специально ради того, чтобы украшать для нас ночное небо. А луна с ее темными тайнами и то и дело скрываемым лицом не имеет другого назначения, как служить нам удобным приспособлением для любовного флирта – опять-таки, разумеется, с нашей точки зрения.
Очевидно, что почти все мы похожи на того петуха, который воображал, что солнце каждое утро восходит лишь для того, чтобы слышать его кукареку. Недаром сказано: «Мир движется тщеславием». Не думаю, чтобы был хоть один человек, свободный от тщеславия. Если же и существует такое исключение из общего правила, то с ним будет крайне неудобно иметь дело. Человек нетщеславный может быть очень хорошим человеком, заслуживающим нашего полного уважения; он может быть таким образцом всех добродетелей, что смело мог бы жить в хрустальном доме, весь напоказ, может быть достойным пьедестала и служить для всех образцом. Да, он может быть предметом всеобщего почитания, но не любви. Не от такого человека мы можем ожидать братской помощи…
Кажется, что уж может быть лучше ангелов, но для нас, простых смертных, очень далеких от совершенства, их общество было бы очень тяжело. Ведь даже постоянное присутствие среди нас людей с мало-мальски выдающимися нравственными качествами угнетает нас. Не добродетели наши, а недостатки заставляют нас симпатизировать друг другу и сходиться. Во всем же, что есть в нас лучшего, мы сильно расходимся. Мы солидарны лишь в наших сумасбродствах. Некоторые из нас отличаются благочестием, другие – великодушием, третьи – сравнительной честностью, а некоторые, в меньшинстве, достойны даже во всех отношениях полного доверия. Однако между всеми этими людьми очень мало объединяющего. Вполне нас объединяют только тщеславие да разные слабости.
Тщеславие – это та сила, которая родственными узами связывает все человечество. Ведь, в сущности, нет никакой разницы между индейским воином, гордящимся своим поясом из волос вражьих черепов, и европейским генералом, который чванится покрывающими его грудь орденами и медалями; между китайцем, хвалящимся длиною своего «крысиного хвоста» на затылке, и профессиональной красавицей наших больших городов, подвергающейся самоистязанию, лишь бы у нее талия была перетянута «в рюмочку»; между бедной поденщицей с захлюстанным подолом, но с важным видом защищающей свое лицо от солнечных лучей обтрепанным зонтиком, и княжной, обметающей полы своих комнат четырехаршинным шлейфом; между деревенским зубоскалом, непристойными шутками вызывающим одобрительное ржание своих товарищей, и публичным оратором на трибуне какого-нибудь видного общественного учреждения, с жадностью упивающимся овациями слушателей в честь его звучных фраз; между темнокожим африканцем, променивающим драгоценные продукты своей страны на нитку пестрых стеклянных бус, которой он может украсить свою шею, и европейской девушкой, продающей свое прекрасное белое тело ради нескольких блестящих камешков и громкого титула. Между всеми этими людьми и их действиями нет никакой существенной разницы, потому что общим их двигателем служит простое тщеславие. Ради тщеславия происходит вся борьба на земле; ради него проливается столько крови; ради него приносится столько жертв.
Да, главной двигательной силой человечества является тщеславие, а лесть – смазкой колес этого двигателя. Если вы желаете добиться чего-нибудь в мире, то должны льстить тем, от которых могут зависеть ваши успехи. Впрочем, еще лучше, если вы будете льстить направо и налево, всем кому попало: высоким и низким, богатым и бедным, умным и глупым, – тогда ваша жизнь потечет как по маслу. Хвалите добродетели этого человека и пороки – того. Хвалите у всех все, в особенности то, что у них дурно. Льстиво пойте безобразным об их красоте, дуракам – об их поражающем уме, грубиянам – о тонкости их манер. Тогда вас будут превозносить до небес за верность ваших суждений, за ваш проницательный ум и обходительность.
Каждого человека можно взять лестью. Существует фраза: «опоясанный граф». Я не знаю, что это значит: может быть, существуют графы, которые носят пояса вместо помочей. Я нахожу эту привычку очень неудобной: чтобы пояс мог исполнять службу помочей, нужно стягивать его как можно туже, а это, воля ваша, крайне стеснительно. Зато я хорошо знаю, что, каков бы ни был, в общем, «опоясанный граф», и он должен быть доступен лести, нисколько не менее других людей, начиная с герцогини и кончая судомойкой или начиная с батрака и кончая поэтом. Впрочем, поэты чувствительнее батраков к лести, на том простом основании, что масло сильнее поглощается мягким пшеничным хлебом, нежели твердыми овсяными лепешками.
Любовь – так та положительно не может существовать без лести. «Наполните кого-нибудь любовью к самому себе, тогда излишек достанется вам на долю», – сказал один остроумный и правдивый француз, имя которого не могу припомнить. (Такой уж у меня рок: я никогда не могу припомнить нужных имен.) Напевайте любой девушке, что она сущий ангел, даже – сверхангел; или еще лучше, что она – богиня, только еще величавее, лучезарнее и утонченнее всех мифологических богинь; что она прекраснее Венеры, воздушнее Титании, очаровательнее Партенопы, – вообще несравненно лучше их всех, вместе взятых, – и поверьте, что этим вы произведете самое благоприятное для вас впечатление на ее бедное сердечко. Бедняжка! Она поверит каждому вашему слову. Этим путем можно повлиять на каждую женщину.
Не верьте женщине, когда она говорит, что ненавидит лесть. Скажите ей на это что-нибудь вроде следующего: «То, что я говорю вам, сударыня, – не лесть, а сущая правда. Вы, без всякого преувеличения, самая прелестная, добрая, умная, милая, грациозная, очаровательная, совершенная, божественная из всех женщин на свете», – и вы увидите, что она сначала благодарно улыбнется вам, а потом склонится головкой к вашему плечу и пролепечет, что вы – милый и хороший.
Но представьте себе теперь человека, который будет строить свое ухаживанье на принципах самой строгой правды и не станет говорить пустых комплиментов или преувеличений; который будет нашептывать женщине, что она нисколько не хуже ее подруг; который, рассматривая ее руку, откровенно бухнет, что эта рука немножко… красновата; который, наконец, прижимая к сердцу свою возлюбленную, заметит, что ее вздернутый носик вовсе не так уж дурен, а глаза – вполне удовлетворительны в качестве приспособлений для глядения!
Ну скажите по совести: можно ли такому правдолюбцу тягаться с соперником, который стал бы уверять ту же женщину, что лицо ее подобно только что распустившейся розе, волосы походят на странствующие солнечные лучи, плененные ее чарующей улыбкой, а глаза – на пару вечерних звездочек?
Способы лести многообразны, и человек неглупый всегда сумеет выбирать их в соответствии с положением и характером того лица, относительно которого эти способы должны быть пускаемы в ход. Некоторые любят, чтобы фимиам воскуривался им целыми тучами, и это, разумеется, не требует никакого искусства; другие же переваривают лесть не иначе как в самом деликатном виде – не слов, а тонких внушений. А есть такие люди, которые любят лесть лишь в форме грубостей, вроде, например, следующей: «Ну, ты уж известный безумец! Готов отдать свой последний грош первому попавшемуся бродяге». Встречаются и такие чудаки, которые принимают лесть только через посредство третьего лица, так что если вам нужно расположить в свою пользу, скажем, некоего мистера А., то всего лучше наговорить о нем целый короб похвал его приятелю, мистеру Б., с просьбой не передавать ваших слов мистеру А., «чтобы не смущать его деликатности». И будьте уверены, в этом случае вам вполне можно надеяться на то, что Б. исполнит ваше тайное желание, хотя во всех других случаях он едва ли выполнит даже явное.