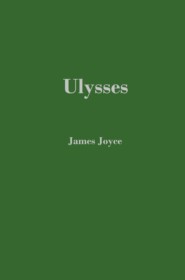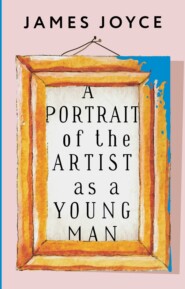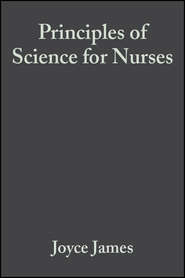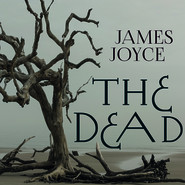По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Дублинцы (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Зачем это мне?
– Ради матери.
– Не вижу, почему я это должен.
– Твоя мать будет мучиться. Ты говоришь, что ты не веришь. Гостия это для тебя кусочек простого хлеба. И ты бы не съел кусочек простого хлеба, чтобы не причинять матери страданий?
– Во многих случаях съел бы.
– А почему не в этом случае? Тебя разве что-нибудь останавливает от кощунства? Раз ты не веруешь, тебя ничто не должно.
– Погоди минуту, – сказал Стивен. – В данный момент совершение кощунства меня отталкивает. Я продукт католичества. Меня запродали Риму еще до моего рождения. Теперь я порвал цепи рабства, но я не могу вмиг избавиться от всех чувств, что были в моей натуре. На это потребно время. Но если бы возник случай крайней необходимости – например, речь шла бы о моей жизни – я бы совершил любую чудовищность с гостией.
– Многие католики сделали бы то же самое, – сказал Крэнли, – если бы речь шла об их жизни.
– Верующие католики?
– Ну да, верующие. Выходит, по тому, как ты себя проявляешь, ты верующий.
– Я совсем не из страха отстраняюсь от кощунства.
– Тогда из-за чего?
– Я не вижу оснований совершить кощунство.
– Но ты всегда исполнял пасхальный долг. Почему же меняться? Это ведь для тебя одна насмешка, комедия.
– Когда я ломаю комедию, это акт подчинения, публичный акт подчинения Церкви. Я не буду подчиняться Церкви.
– Даже если это только комедия?
– Это комедия с целью. Внешняя видимость сама по себе ничто, но она многое значит.
– Ты снова говоришь как католик. Гостия это ничто по внешней видимости – кусок хлеба.
– Согласен: и все равно я настаиваю на непокорности Церкви. Больше я подчиняться не буду.
– Но разве нельзя быть подипломатичней? Разве ты не можешь быть в сердце бунтарем и следовать форме из презрения? Ты бы мог быть бунтарем духа.
– Любой, у кого восприимчивая натура, не может долго так делать. Церковь знает, чего стоит служить ей: священник должен каждое утро гипнотизировать себя перед дарохранительницей. Если я каждое утро буду вставать, подходить к зеркалу и говорить себе: «Ты – Сын Божий», через год мне понадобятся апостолы.
– Если ты можешь сделать, чтобы твоя религия давала такую же отдачу, как христианство, я тебе посоветую каждое утро вставать и подходить к зеркалу.
– Это было бы отлично для моих наместников на земле, но мне самому распятие причинило бы некоторые неудобства.
– Но тут, в Ирландии, если ты будешь следовать новой своей религии неверия, ты рискуешь быть распятым, как Иисус, – пускай не физически, а социально.
– Только есть разница. Иисус к этому относился легко. Я так легко не дамся.
– Как же ты можешь сулить себе подобное будущее и при этом бояться устроить всего-то навсего маленькую комедию в церкви?
– Это уж мое дело, – сказал Стивен, похлопав себя по лбу.
Подойдя к Стивенс-Грин, они перешли через улицы и стали прогуливаться по площадке, огражденной цепями. Несколько рабочих со своими подружками, пользуясь темнотой, раскачивались на цепях, словно на качелях. Аллея была безлюдна, лишь в отдалении, предупрежденьем для всех, прямо под снопом лучей газового фонаря, высилась металлическая фигура полисмена. Проходя мимо колледжа, оба молодых человека как по команде подняли взгляд к темным окнам.
– Так можно спросить, почему ты оставил Церковь? – спросил Крэнли.
– Я не мог следовать ее предписаниям.
– Даже если с помощью благодати?
– Да.
– Предписания Иисуса самые простые. Это Церковь строга.
– Иисус или Церковь – мне это все едино. Я не могу следовать за ним. Мне необходима свобода поступать как мне нравится.
– Никому не дано поступать как нравится.
– Морально.
– Нет, и морально тоже нет.
– Ты хочешь, – сказал Стивен, – чтобы я тоже был как эти доносчики и лицемеры в колледже. Никогда я таким не буду.
– Нет. Я сказал про Иисуса.
– Не будем о нем. Я его превратил в имя нарицательное. В него не верят, его заповедям не следуют. Так или иначе, давай мы Иисуса оставим. В пределах моего зрения только его заместитель в Риме. Это пустое дело. Меня не запугают, чтобы я платил дань, безразлично, деньгами или мыслями.
– Ты мне сказал – помнишь вечер, когда мы стояли у балюстрады наверху и говорили про…
– Да помню, помню, – сказал Стивен, который терпеть не мог этот метод Крэнли «вспоминать прошедшее», – что я тебе говорил?
– Ты рассказал мне, какие мысли у тебя были про Иисуса в Страстную Пятницу, про безобразного скрюченного Иисуса. А тебе никогда в голову не приходило, что Иисус мог быть сознательным самозванцем?
– Я никогда не верил в его целомудрие – в смысле, с тех пор, как я стал думать о нем. Я уверен, он вовсе не был евнухом-священником. Его интерес к распутным женщинам слишком настойчиво человеческий. Все женщины, что вокруг него, – сомнительной репутации.
– И ты не думаешь, что он Бог?
– Хорош вопрос! Ты мне объясни это: объясни соединение ипостасей; скажи, подходит ли та фигура, которой этот вот полисмен поклоняется как Святому Духу, на роль сперматозоида с крылышками. Хорош вопрос! Он делает общие замечания о жизни, вот все, что я знаю, – и с этими замечаниями я не согласен.
– Ну например?
– Например… Слушай, я не могу говорить об этом. Я не специалист, и мне никто не платит как служителю Бога. Я хочу жить, пойми. Макканн желает воздух и пищу – я желаю это и еще массу другого. Мне все равно, прав я или нет. Я думаю, в человеческих делах всегда риск. Но пусть даже я не прав, мне не придется по крайней мере выносить общество патера Батта целую вечность.
Крэнли рассмеялся:
– Не забывай, он наверняка будет со прославленными.